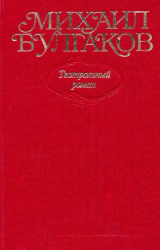
Текст книги "Том 8. Театральный роман (с иллюстрациями)"
Автор книги: Михаил Булгаков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 39 страниц)
Дело было в Грибоедове
Белый, большой, двухэтажный дом старинной постройки помещался в глубине небольшого и чахлого сада на бульварном кольце и носил название «Дома Грибоедова». Говорили, что некогда он принадлежал тетке Грибоедова, хотя, сколько помнится, никакой тетки у Грибоедова не было. Так что надо полагать, что рассказы о том, как Грибоедов в этом самом доме, в круглом зале с колоннами, читал старухе сцены из «Горе от ума», представляют собою обыкновенные московские враки.
Но как бы то ни было, в настоящее время дом был во владении той самой московской ассоциации литераторов, или Массолит, секретарем которой и был Александр Александрович Мирцев до своего появления на Патриарших прудах. Комнаты верхнего этажа были заняты различными отделами Массолита и редакциями двух журналов, вверху же находящийся круглый зал отошел под зал заседаний, а весь нижний этаж был занят популярнейшим в столице писательским рестораном.
В половину одиннадцатого вечера в довольно тесной комнате вверху томилось человек двенадцать литераторов разных жанров, ожидающих опоздавшего Александра Александровича. Компания, рассевшаяся на скрипящих рыночных стульях, отчаянно курила и томилась. В открытое в сад окно не проникала ни одна свежая струя. Москва накалила за день свой гранитный, железный и асфальтовый покров, теперь он весь жар отдавал в воздух, и было понятно, что ночь не принесет облегчения.
Драматург Бескудников вынул часы. Стрелка ползла к одиннадцати.
– Однако, он больно здорово запаздывает, – сказал поэт Двубратский, сидящий на столе и от тоски болтающий ногами, обутыми в желтые туфли на толстенной каучуковой подошве.
– Хлопец на Клязьме застрял, – сорванным голосом отозвалась поэтесса Настасья Савишна Храмкина.
– Позвольте, все это хорошо, что он на Клязьме, – заговорил автор популярных скетчей Загривов, – я и сам бы сейчас на веранде чайку попил, вместо того чтобы здесь сидеть. Ведь он же знает, что заседание в десять? – В голосе Загривова слышалась справедливая злоба.
– А хорошо сейчас на Клязьме, – подзудила присутствующих Храмкина.
– Третий год вношу денежки, однако до сих пор ничего в волнах не видно, – отозвался новеллист Поприхин.
– Клязьма место генеральское, – послышался из угла голос Водопаева.
– Словом, это безобразие! – воскликнул Денискин, человек неопределенного жанра, пишущий и стихи, и пьесы, и критические статьи, и рецензии. – Пять минут двенадцатого!
Его поддержали и Буздяк и Глухарев. В комнате назревало что-то вроде бунта. Решили звонить. Звонили на Клязьму, в литераторский дачный поселок. Попали не на ту дачу – к Семуковичу. Потом попали на ту, на какую надо, узнали, что товарищ Мирцев и вовсе не бывал сегодня на Клязьме.
Стали звонить в комитет искусства, науки, литературы – Исналит, в комнату 918. Никого в этой комнате не было.
Тогда началось возмущение. Храмкина заявила напрямик, что при всем уважении ее к товарищу Мирцеву она осуждает такое поведение – мог бы и позвонить! Ведь его двенадцать человек ждут!
– Мог бы позвонить! – гудел Буздяк.
Но товарищ Мирцев никому позвонить не мог. Далеко, далеко от дома Грибоедова, в громадном зале с цементным полом, под сильным светом прожекторов на трех цинковых столах лежало то, что было когда-то Мирцевым.
На первом – обнаженное, в засохшей крови тело с перебитой рукой и раздавленной грудной клеткой, на втором – голова с выбитыми передними зубами, с бессмысленным глазом, которого не пугал режущий свет тысячесвечовой лампы, с слипшимися в крови волосами, на третьем – груда заскорузлых тряпок, в которых и узнать нельзя было костюм Мирцева.
У стола стояли седой профессор и молодой прозектор, оба в кожаных халатах и резиновых перчатках, и двое в защитных блузах, в крагах с маленькими браунингами на поясах. Стоявшие тихо совещались о том, как лучше поступить: закрыть ли наглухо черным покрывалом останки Мирцева и так уложить их в гроб, который завтра будет выставлен в круглом зале Массолита, или же пришивать струнами голову к туловищу, черной повязкой закрыть только глаза, а другою шею и так выставить для того, чтобы члены Массолита могли попрощаться со своим секретарем.
Решили сделать второе, и прозектор крикнул сторожу:
– Иглы! Струны!
Да, он не мог позвонить! И в половину двенадцатого опустела комната, где должно было быть заседание, и не состоялось оно, как раз как и предсказал неизвестный на Патриарших прудах.
Все двенадцать литераторов спустились вниз, чтобы поужинать в ресторане. Тут опять недобрым словом помянули Александра Александровича: мест на веранде под тентом, где кое-как можно было дышать, уже не оказалось, и пришлось идти в низкие сводчатые залы зимнего помещения.
Без четверти двенадцать, как гром, ударил вдруг рояль, ему ответили прыгающие скачущие звуки на тонких клавишах, захромали синкопы, завыли в рояле какие-то петухи – пианист заиграл бравурный зверский фокстрот. От музыки засветились лоснящиеся в духоте лица, показалось, что заиграли на потолке листовые с завитыми по-ассирийски гривами лошади, кто-то пропел что-то, где-то покатился со звоном бокал, и через минуту весь зимний зал заплясал, а за ним заплясала веранда.
Заплясал Глухарев с девицей – архитектором Тамарой Сладкой, заплясал Буздяк с женой, знаменитый романист Жукопов с киноактрисой. Плясали Драгунский, Чапчачи, Водопоев с Храмкиной, плясала Семейкина-Галл, схваченная крепко неизвестным рослым в белых брюках.
Плясали свои и приезжие в Москву: Иоганн из Кронштадта, какой-то Витя Куфтик из Ростова, кажется, режиссер.
Плясали неизвестной профессии молодые люди в стрижке боксом, в пиджаках с подбитыми ватой плечами.
Плясал пожилой с бородой, в которой застряло перо зеленого лука, топчась, как медведь, перед хилой девушкой в зеленом шелковом платьишке.
Официанты с оплывающими лицами несли над головой кружки с пивом, хрипло и ненавистно говорили «виноват», продираясь между танцующими, где-то кто-то кричал в рупор: «Карский – раз!»
Словом – ад. И перед самой полночью было видение: вышел на веранду черноглазый красавец с острой, как кинжал, бородой, во фраке и царственным благосклонным взглядом окинул свои владения. Утверждал, утверждал беллетрист Избердей, известнейший мистик и лгун, что этот красавец не носил раньше фрака, а был опоясан широким кожаным поясом, за которым торчали пистолеты, а воронова крыла волосы красавца были повязаны алым шелком, и плыл под его командой не ресторан на Кольце, а бриг в Караибском море под страшным флагом – черным с Адамовой головой.
Но нет, нет! Лжет, лжет, склоняясь к рюмке, Избердей! Нет никаких Караибских морей на свете, и не плывут отчаянные флибустьеры, не гонится за ними корвет, не слышно пушечного его грохота, не стелется над волнами пушечный дым.
Ничего этого нет, не было! И плавится лед в вазочке, и видны налитые кровью глаза Избердея, и тоскливо мне!
Ровно в полночь фокстрот прекратился внезапно, как будто кто-то ударил пианиста в сердце ножом, и тотчас за всеми столами загремело слово «Мирцев», «Мирцев!». Конечно, вскакивали, вскрикивали: «Да не может быть!» Не обошлось и без некоторой чепухи, вполне понятной в ресторане. Так, кто-то, залившись слезами, тут же предложил спеть вечную память. Уняли. Кто-то суетился и кричал, что необходимо сейчас же, тут же, не сходя с места, составить коллективно телеграмму и немедленно послать ее…
Но куда и зачем ее посылать? В самом деле, куда? И на что нужна эта телеграмма тому, чей затылок сейчас сдавлен в руках прозектора, чью шею сейчас колет кривыми иглами, струнит профессор?
Да, убит… Но мы-то живы? Волна горя высоко всплеснулась, но стала опадать, и уж кто-то вернулся к столику и украдкой выпил водочки и закусил, не остывать же киевским котлетам… Ведь мы-то живы?
Рояль закрыли, танцы отменили, трое журналистов спешно покинули дом тетки. Им уже звонили на вешалку ресторана из редакций – нужно было сейчас же писать некрологи.
Итак, гости вернулись к своим столам, обсуждая страшное событие и споря по поводу сплетни, пущенной Храмкиной и Избердеем, именно, что Мирцев не случайно попал под трамвай, а бросился под него умышленно, потому что…
Но не успела сплетня разбухнуть, как произошло второе, что поразило публику в ресторане побольше, чем известие о смерти Мирцева.
Первыми взволновались лихачи, всегда дежурящие на бульваре у входа в грибоедовский сад. Один из них даже с козел слез, причем послышался его иронический возглас: «Тю! Вы поглядите!»
Вслед за тем от решетки отделился маленький огонечек, а с ним вместе – беленькое тощее привидение, которое и направилось по асфальтовой дорожке под деревьями прямо к веранде. За столиками стали подниматься, всматриваться, и чем больше всматривались, тем больше изумлялись.
Привидение же тем временем подошло к веранде, и тогда уж все на ней как закоченели за столиками. Швейцар, вышедший из зимней вешалки ресторана на угол к веранде покурить, вдруг, тревожно всматриваясь в привидение, подбежал было к нему с ясною целью преградить ему доступ на веранду, но, всмотревшись, не посмел этого сделать и вернулся к веранде, растерянно и глупо улыбаясь.
Привидение же тем временем вступило на веранду, и все увидели, что это не привидение, а всем известный Иван Николаевич Понырев. Но от этого не стало легче, и изумление перешло в смятение.
Иван Николаевич был бос, в кальсонах, в разодранной ночной рубашке. На груди Ивана Николаевича прямо к коже была приколота английской булавкой иконка с изображением Христа, а в руках находилась венчальная позолоченная зажженная свеча. Правая щека Ивана Николаевича была свеже изодрана и покрыта запекшейся кровью.
На веранде воцарилось молчание, и видно было, как у одного из официантов пиво текло на пол из покосившейся в руке кружки.
Иван поднял свечу над головой и сказал так:
– Здорово, братья!
От такого приветствия молчание стало глубже, а Иван заглянул под первый столик, на котором стояла вазочка с остатками зернистой икры, посветил под него, причем какая-то дама пугливо отдернула ноги, и сказал тоскливо:
– Нету его и здесь!
Тут послышались два голоса, и первый из них, бас, сказал тихо и безжалостно:
– Готово дело. Белая горячка.
А второй, женский, испуганно:
– Как же милиция-то пропустила его по улицам?
Второе Иван услыхал и отозвался:
– На Бронной хотели задержать, да я махнул через забор и всю щеку об проволоку изодрал.
Тут все увидели, что некогда зеленые и нагловатые глаза Ивана теперь как бы затянуты пеленою, как бы перламутровые, и страх вселился в сердца.
– Братья во литературе! – вдруг вскричал Иван и взмахнул свечой, и огонь взметнулся над его головой, и на голову капнул воск. – Слушайте меня! Он появился! – Осипший голос Ивана окреп, стал горяч. – Он появился! Ловите же его немедленно, иначе натворит он неописуемых бед.
– Кто появился? – отозвалась испуганно женщина.
– Консультант! – вскричал Иван. – И этот консультант убил сегодня Сашу Мирцева на Патриарших прудах!
Внутри ресторана на веранду повалил народ.
– Виноват, скажите точнее, – послышался над ухом Ивана тихий и вежливый голос, – скажите, товарищ Понырев, как это убил?
Вокруг Ивана стала собираться толпа.
– Профессор и шпион! – закричал Иван.
– А как его фамилия? – тихо спросили на ухо.
– То-то фамилия! – в тоске отозвался Иван. – Эх, если б я знал его фамилию! Не разглядел я на визитной карточке фамилию! Помню только букву «эф». На «эф» фамилия! Граждане! Вспоминайте сейчас же, какие фамилии бывают на «эф»! – И тут Иван, безумно озираясь, забормотал: – Фролкин, Фридман, Фридрих… Фромберг… Феллер… Нет, не Феллер!.. Нет! Фу… фу… – Волосы от напряжения ездили на голове Ивана.
– Фукс? – страдальчески крикнула женщина
– Да никакой не Фукс! – раздражаясь, закричал Иван. – Это глупо! При чем тут Фукс? Ну вот что, граждане: бегите кто-нибудь сейчас к телефону, звоните в милицию, чтобы выслали пять мотоциклеток с пулеметами профессора ловить! Да! Скажите, что с ним еще двое: длинный какой-то, пенсне треснуло, и кот, черный, жирный. А я пока что дом обыщу, я чую, что он здесь!
Тут Иван проявил беспокойство, растолкал окружающих, стал размахивать свечой, заглядывать под столы.
Народ на веранде загудел, послышалось слово «доктора», и чье-то ласковое мясистое лицо, бритое и упитанное, в роговых очках, появилось у Иванова лица:
– Товарищ Понырев, – заговорило это лицо юбилейным голосом, – успокойтесь! Вы расстроены смертью всеми нами любимого Александра Александровича, нет!.. просто Саши Мирцева. Мы все это отлично понимаем… Вам нужен покой! Сейчас товарищи проводят вас в постель и вы забудетесь…
– Ты, – оскалившись, ответил Иван, – ты понимаешь, что профессор убил Мирцева? Понимаешь, что делаешь, задерживая меня? Кретин!
– Товарищ Понырев! Помилуйте! – ответило лицо, расстраиваясь и уже жалея, что вступило в разговор.
– Нет! Уж кого-кого, а тебя-то я не помилую, – с тихой ненавистью сказал Иван и, неожиданно широко размахнувшись, ударил по уху это лицо.
Тут догадались броситься на Ивана и бросились. Свеча его угасла, а очки, соскочившие с участливого лица, немедленно были раздавлены. Иван испустил визг, слышный, к общему соблазну, на бульваре, и начал защищаться. Зазвенела битая посуда. Пока Ивана вязали полотенцами, в раздевалке шел разговор между командиром брига и швейцаром.
– Ты видел, что он в подштанниках? – спросил холодно пират.
– Да ведь, Арчибальд Арчибальдович, – труся, отвечал швейцар, – как я их могу не допустить… Они член Массолита!
– Ты видел, что он в подштанниках? – холодно повторил пират.
– Помилуйте, Арчибальд Арчибальдович, – багровея, гудел швейцар, – что ж я-то могу поделать. Давеча приходят гражданин Буздяк из бани, у них веник за пазухой. Я говорю – неудобно, а они смеются, веником в меня тычут. Потом мыло раскрошили по веранде, дамы падают, а им смешно!
– Ты видел, что он в подштанниках, я тебя спрашиваю, а не про Буздяка! – раздельно сказал пират.
Тут швейцар умолк, и лицо его приняло тифозный цвет, а в глазах вспыхнул ужас. Он видел ясно, как черные волосы покрылись шелковой косынкой. Исчез фрак, за ременным поясом показались пистолеты. Швейцар представил себя повешенным на фор-марса-рее. Он видел свой собственный высунутый язык, голову, свесившуюся на плечо, услышал даже плеск волны у борта. Колени швейцара затряслись. Но тут флибустьер сжалился над ним.
– Смотрите, Николай, в последний раз. Такого швейцара нам не нужно, – сказал пират и скомандовал точно, ясно и быстро:
– Пантелея! Милиционера! Протокол! Таксомотор! В психиатрическую!
Через четверть часа публика на бульваре видела, как из ворот грибоедовского сада выводили босого и окровавленного человека в белье, поверх которого было накинуто Пантелеево пальто. Человек, руки которого были связаны за спиною, горько плакал и изредка делал попытки укусить за плечо то милиционера, то Пантелея. Поэт Рюхин, добровольно вызвавшийся сопровождать несчастного Ивана Николаевича, шел сзади, держа в руках разорванную иконку и сломанную свечу.
Лихачи горячили лошадей, кричали с козел:
– А вот на резвой! Я возил в психическую!
Но Ивана Николаевича погрузили в приготовленный таксомотор и увезли, а на лихача вконец расстроенная дама посадила своего мужа, того самого, который получил плюху и лишился очков исключительно за свою страсть к произнесению умиротворяющих речей.
Лихач, слупивший двадцать пять рублей с седоков, только передернул синими вожжами по крупу разбитой беговой серой лошади, и та ударила так, что сзади моментально остались два трамвая и грузовик.
Публика разошлась, и на бульваре наступило спокойствие.
Глава 6Мания фурибунда
Круглые электрические часы на белой стене показали четверть второго ночи, когда в приемную психиатрической лечебницы вошел чернобородый человек в белом халате, из кармана которого торчал черный кончик стетоскопа.
Двое санитаров, стоявшие у дивана и не спускавшие глаз с Ивана Николаевича, руки которого уже были развязаны, подтянулись.
Рюхин взволновался, поправил поясок на толстовке и произнес:
– Здравствуйте, доктор. Позвольте познакомиться: поэт Рюхин.
Доктор поклонился Рюхину, но, кланяясь, глядел не на Рюхина, а на Ивана Николаевича.
Поэт не шевельнулся на диване.
– А это… – почему-то понизив голос, сказал Рюхин, – известный поэт Иван Понырев, – потом помялся и совсем тихо добавил: – Мы опасаемся, не белая ли горячка…
– Пил очень сильно? – сквозь зубы тихо спросил доктор.
– Да нет, доктор…
– Тараканов, крыс, чертиков или шмыгающих собак не ловил?
– Нет, – испуганно ответил Рюхин, – я его вчера видел, он был здоров. Он стихи свои с эстрады читал.
– А почему он в белье? С постели взяли?
– Он, доктор, в ресторан пришел в таком виде.
– Ага, – удовлетворенно сказал доктор и спросил:
– А почему окровавлен? Дрался?
– Он с забора упал, а потом ударил в ресторане гражданина и еще кое-кого.
– Ага, – сказал доктор и, повернувшись к Ивану, добавил: – Здравствуйте!
– Здорово, вредитель! – ответил громким голосом Иван, и Рюхин сконфузился. Ему стыдно было поднять глаза на вежливого и чистого доктора.
Тот, однако, не обиделся на Ивана, привычным ловким жестом снял пенсне с носа и спрятал его, подняв полу халата, в задний карман брюк, а затем спросил у Ивана:
– Сколько вам лет?
– Поди ты от меня к чертям, в самом деле, – злобно ответил Иван и отвернулся.
А доктор, щуря близорукие глаза, спросил по-прежнему вежливо:
– Почему же вы сердитесь на меня? Разве я сказал вам что-нибудь неприятное?
– Мне двадцать пять лет, – заговорит, злобно косясь, Иван, – а завтра, между прочим, я на всех вас подам жалобу. А на тебя в особенности, гнида! – отнесся он уже специально к Рюхину.
– А на что вы хотите пожаловаться?
– На то, что меня, здорового человека, силой схватили и приволокли в сумасшедший дом, – сурово ответил Иван.
Тут Рюхин всмотрелся в Ивана и похолодел: в глазах у того не было никакого безумия и из мутных они опять превратились в ясно-зеленые. «Батюшки, – подумал испуганно Рюхин, – да он и впрямь, кажется, нормален! Вот чепуха какая! Зачем же мы его в самом деле сюда притащили? Нормален, ей-богу, нормален, только рожа расцарапана…»
– Вы находитесь, – спокойно заговорил врач, – не в сумасшедшем доме, а в психиатрической клинике, оборудованной по последнему слову техники. Кстати, добавлю: где вам не причинят ни малейшего вреда и где никто не собирается вас задерживать силой.
Иван покосился недоверчиво, но все-таки пробурчал:
– Слава те, Господи! Кажется, нашелся один нормальный человек среди идиотов, из которых первый бездарность и балбес Пашка.
– Кто этот Пашка-бездарность? – осведомился врач.
– А вот он – Рюхин! – ответил Иван Николаевич, вытянув указательный палец.
Рюхин покраснел, глаза его вспыхнули от негодования. «Это он мне вместо спасибо, – горько подумал он, – за то, что я принял в нем участие. Какая все-таки сволочь!»
– Типичный кулачок по своей психологии, – ядовито заговорил Иван Николаевич, которому приспичило обличить Рюхина, – и притом кулачок, тщательно маскирующийся под пролетария, – посмотрели бы вы, какие он стишки сочинил к 1-му мая… хе, хе… «взвейтесь, развейтесь…», а загляните в него, что он думает! – И Иван рассмеялся зловеще.
Доктор повернулся к Рюхину, красному и тяжело дышащему, и сказал тихо:
– У него нет белой горячки, – а затем спросил у Ивана:
– Почему же вас, собственно, доставили к нам?
– Да черт их возьми, олухов! Схватили, втащили в такси и привезли!
– Гм… – отозвался врач, – но вы почему, собственно, в ресторан, вот как говорит гражданин Рюхин, пришли в одном белье?
– Вы Москву знаете? – ответил вопросом Иван.
Доктор неопределенно мотнул головой.
– Ну, как вы полагаете, – возбужденно заговорил Иван, – мыслимо ли подумать, что вы оставите что-нибудь на берегу и чтобы эту вещь не попятили? Ну, купаться я стал, и, понятно, украли и блузу, и штаны, и туфли. А я спешил в ресторан!
– Свидание какое-нибудь, деловое? – спросил врач.
– Не свидание, а я ловлю консультанта.
– Какого консультанта?
– Консультанта, который убил Сашу Мирцева на Патриарших прудах.
Врач вопросительно поглядел на Рюхина, и тот хмуро отозвался:
– Секретарь Массолита Мирцев сегодня под трамвай попал.
– Он, вот говорят, под трамвай попал?
– Не ври, чего не знаешь! – рассердился на Рюхина Иван Николаевич. – Я был при этом! Он его нарочно под трамвай пристроил!
– Толкнул?
– Да не толкнул! – все больше сердился Иван. – Такому и толкать не надо. Он его пальцем не коснулся! Они такие штуки могут делать. Он заранее знал, что Мирцев поскользнется!
– А кто-нибудь кроме вас видел этого консультанта?
– То-то и беда, что один я! Да что за допросы такие! – вдруг обиделся Иван. – Мы не в уголовном розыске! Подите к черту!
– Помилуйте, – воскликнул доктор, – у меня и в мыслях не было допрашивать вас! Но ведь вы сообщаете такие важные вещи, об убийстве, которого вы были свидетелем… Быть может, здесь можно чем-нибудь помочь?.. Скажите, какие же вы меры приняли, чтобы поймать этого консультанта-убийцу?
Здесь опять недоверие к врачу сменилось у Ивана Николаевича доверием, и настолько, что он встал и поцеловал врача в щеку, прибавив при этом:
– Нет, теперь окончательно убедился – ты не вредитель и не из этой шайки!
Доктор ловко и незаметно, делая вид, что сморкается, вытер щеку, повернулся и сделал какой-то знак глазами женщине в белом, которая неподвижно сидела в стороне за большим столом. Та тотчас же взяла перо.
– Итак, какие же меры? – повторил врач.
– Меры вот какие, – заговорят Иван, – я на кухне взял свечечку…
– Вот эту? – спросил врач, указывая на свечку, лежавшую перед женщиной на столе рядом с иконкой.
– Эту самую!
– А иконка? – мягко спросил врач.
Иван покраснел.
– Видишь ли, – ответил он, – эти дураки, – он указал на Рюхина, – больше всего этой иконки испугались, а между тем, без нее его не поймаешь…
Женщина стала писать на листе.
– Он, – продолжал возбужденно Иван, – по моему соображению, кой с кем знается, ты понимаешь меня?.. Гм… А с иконкой и со свечечкой…
Санитары держали руки по швам, глаз не сводили с Ивана, женщина тихо писала.
– Ну-те-с, ну-те-с, – поощрил Ивана врач, – так с собой и несли иконку?
– Я ее на грудь пришпилил, – говорил Иван.
– Зачем на грудь?
– Чтобы рука была свободна, – объяснил Иван, – в одной свечка, а другой – хватать. – Он становился все откровеннее.
– Виноват, у вас на коже груди кровь, – сказал участливо врач, – вы прямо к коже ее прицепили?
– Ну конечно! – ответил Иван. – А то рубаха-то чужая, гнилая, еще, думаю, сорвется…
Тут часы пробили два без четверти. Иван засуетился в тревоге.
– Эге-ге, два часа, – воскликнул он, – а я тут с вами время теряю. Будьте любезны, где телефон?
– Пропустите к телефону, – сказал врач санитару, который спиной старался загородить аппарат на стене.
Иван ухватился за трубку и сказал в нее:
– Милицию!
Женщина в это время тихо спросила у Рюхина:
– Женат он?
– Холост, – испуганно ответил Рюхин.
– Член профсоюза?
Рюхин кивнул, и женщина подчеркнула что-то в разграфленном листе.
– Милиция? – громко спросил Иван. – Алле? Милиция? Товарищ дежурный! Распорядитесь сейчас же, чтобы выслали пять мотоциклеток с пулеметами, консультанта преступника искать! И заезжайте за мной, я с вами сам поеду. Алле? Говорит поэт Понырев. Из сумасшедшего дома. Как ваш адрес? – шепотом спросил Иван Николаевич у доктора, но тот не успел ничего ответить, как Иван стал сердито кричать в телефон: – Алле, алле! Куда вы ушли? Безобразие! – громко завопил Иван и швырнул трубку на рычаг.
– Зачем сердиться, – заметил миролюбиво доктор, – вы можете сломать аппарат, а он нам поминутно нужен…
– Ничего! Ничего! Ответят они, голубчики милейшие, за такое отношение, – вскричал Иван и погрозил кулаком телефону, затем протянул руку доктору и попрощался: – До свидания.
– Помилуйте, куда вы хотите идти, – заговорил врач, – ночью, в одном белье! Переночуйте у нас, а завтра видно будет.
– Пропустите меня, – глухо сказал Иван Николаевич санитарам, сомкнувшимся у дверей.
– Дружески говорю вам, останьтесь!
– Пустите или нет?! – страшным голосом крикнул Иван санитарам.
Те не шевельнулись, и Иван наотмашь ударил одного из них в грудь. Другой поймал его за руку.
– Ах так, ах так, – хрипло крикнул Иван, и, вырвав руку, он травленно и злобно озирался.
Женщина нажала кнопку в столике, и на поверхность его выскочила блестящая коробка шприца и стеклянные запаянные ампулы.
– Ну, если так, – отчаянно вскричал Иван, – так не поминайте же лихом!
И тут он головой вперед бросился в белую штору окна, явно целясь сквозь нее и стекла выброситься наружу. Но коварная металлическая специальная сеть за шторой даже до стекла не допустила Ивана. Она мягко спружинила и мягко отбросила бедного поэта назад прямо на руки к санитарам. В ту же минуту у доктора в руках оказался шприц.
– Ага, – захрипел Иван, бьющийся в руках санитаров, – так вот вы какие шторочки завели у себя? Ладно, ладно! Пусти… Пу…
– Одну минуту, одну минуту, – бормотал врач.
Женщина тоже подбежала на помощь, одним взмахом разорвала рукав ветхой рубахи и с неженской силой сжала руку Ивана. Тот ослабел, перестал биться, врач воспользовался этим и содержимое шприца вспрыснул Ивану в плечо. Его подержали еще немного в руках, он в это время крикнул:
– На помощь!
Бледный Рюхин жалобно вскрикнул:
– Иван!
Ивана выпустили.
– Бандиты! – прокричал он, но уже слабее. – Всех предам правосудию, – добавил он, но еще тише, зевнул и сел на кушетку. – Заточили все-таки, – зевая, добавил он без злобы, улыбнулся бессмысленно и кротко и вдруг прилег на кушетке, по-детски подложив кулак под щеку. – Ну, очень хорошо, – бормотал он совсем сонный голосом, – сами же и поплатитесь, а я свое дело сделал… Интересно мне теперь… только одно, что было с Понтием Пилатом.
И через мгновение он уже спал.
Доктор сказал сущую правду относительно того, что клиника была устроена по последнему слову техники. Стена приемной вдруг раскрылась, и из коридора выехала на резиновых шинах кровать. Санитары подкатили ее к кушетке, спящего Ивана переодели в больничную рубашку, уложили, и он уехал в коридор, где, через дверь, на стенках горели слабые синие ночники. Стена сомкнулась.
– Доктор, – спросил шепотом потрясенный Рюхин, – он, значит, болен?
– О да, – ответил доктор, надевая пенсне.
– Какая же это болезнь? – робко спросил Рюхин.
– Точно пока сказать не могу, – устало зевая, ответил доктор, – похоже, что мания фурибунда. – И, видя, что Рюхин испуганно смотрит, пояснил: – Яростная мания.
Доктор расписался в листе, поданном женщиной в белом.
– А что это за консультант, которого он все время поминает? Видел он кого-нибудь?
– Трудно сказать. Может быть, видел кого-нибудь, кто поразил его больное воображение…
Рюхин прекратил расспросы, неуклюже раскланялся. Через несколько минут он был на шоссе, ведущем в Москву. Светало. Небывало дурное расположение духа овладело Рюхиным. Он ехал в пустом ночном троллейбусе, съежившись, уставившись, как мышь на крупу. Многое терзало его. С одной стороны, жаль было Понырева и страшно было вспомнить про дом скорби. А с другой, терзали его оскорбления, нанесенные ему помешанным. Хуже всего было то, что в словах бедного Понырева было то, что сам от себя скрывал Рюхин, что отгонял от себя даже ночью, когда не спалось. В этих словах была правда. Мысль о собственных стихах до того терзала Рюхина в троллейбусе, что он, скорчившись, морщился как от боли и даже раз проронил что-то. Рюхин сейчас только и как-то особенно отчетливо вспомнил, что ему уже тридцать четыре года и что, по сути дела, будущее его совершенно темно. Да, он будет писать по несколько стихотворений в год, стихотворений, как он теперь признался сам себе, ничуть не радующих его. «Он правду говорит, – глубоко, глубоко в себе, так, чтобы никто не мог подслушать его, подумал Рюхин… – Я не верю в то, что пишу, я – лгун, – терзал сам себя Рюхин, как палач. – Лгун, лгун. И за это буду страшно наказан. В самом деле, что дальше? Я пишу эти стихотворения, кое-как поддерживаю свое существование. Одна комната, и надежд на то, что будет когда-нибудь квартира, очень мало. Вечные авансы, вечные компромиссы, боязнь и дурные, дурные стихи! И старость! Старость бедная, безрадостная, одинокая. Уважение? Кой черт! Кто будет меня уважать, если я сам, сам себя не уважаю».
Было совсем светло, когда больной и постаревший Рюхин вышел из троллейбуса и оказался у подножия Пушкина. С бульвара тянуло свежестью, к утру стало легче. Злобными и горькими глазами Рюхин поглядел на Пушкина и почему-то подумал так: «Тебе хорошо!»
Он поморщился и побрел к дому тетки. Ресторан торговал до четырех. На веранде, где еще горели некоторые лампионы, раздражая своим неуместным светом при свете рождающегося дня, почти никого не было. В углу сидящий режиссер Квант поил даму «Абрау-Дюрсо».
Арчибальд Арчибальдович, вечно бессонный, встретил Рюхина приветливо. Не будь Рюхин так истерзан, он получил бы удовольствие, рассказывая о том, как все было, придумывая интересные подробности, описывая удивительную лечебницу. Сейчас он почувствовал, что ему не до этого, а кроме того, как он ни был ненаблюдателен и пуст, впервые всмотрелся в лицо пирата и понял, что тот, хоть и спрашивает о Поныреве и даже склоняется к Рюхину, держась за спинку стула, и даже сказал: «Ай, ай», – в ответ на слова Рюхина «Мания фурибунда», что он совершенно не интересуется судьбой Понырева, и не только не интересуется, но и презирает и Понырева, и самого Рюхина. «И молодец! И правильно», – с циничной самоуничтожающей злобой помыслил Рюхин и сказал бойким голосом:
– Арчибальд Арчибальдович, водочки мне…
Пират сделал понимающие глаза, скомандовал что-то, и через полчаса, когда никого из посетителей уже не было на веранде, в утреннем рассвете сидел Рюхин в одиночестве. Мрачные мысли его задавило дурманом, он с аппетитом закусывал рыбцом. День разгорался над городом, край неба золотило.








