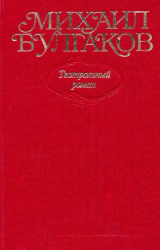
Текст книги "Том 8. Театральный роман (с иллюстрациями)"
Автор книги: Михаил Булгаков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 39 страниц)
– Нет, нет, – испуганно обратилась к мастеру Маргарита, – перед тобою мессир!
– Это не важно, обаятельнейшая Маргарита Николаевна! – встрял в разговор Коровьев, а кот увязался вслед за ним и заметил горделиво:
– А я, действительно, похож на галлюцинацию. Обратите внимание на мой профиль… – кот хотел еще что-то сказать, но его попросили замолчать, и он ответил: – Хорошо, хорошо. Готов молчать. Я буду молчаливая галлюцинация! – замолчал.
– Верно ли, что вы написали роман? – спросил Воланд.
– Да.
– О чем?
– Роман о Понтии Пилате.
Волана откинулся назад и захохотал громовым образом, но так добродушно и просто, что никого не испугал и не удивил. Коровьев стал вторить Воланду, хихикая, а кот неизвестно зачем зааплодировал. Отхохотавшись, Воланд заговорил, и глаз его сиял весельем.
– О Понтии Пилате? Вы?.. В наши дни? Это потрясающе! И вы не могли найти более подходящей темы? Позвольте-ка посмотреть…
– К сожалению, не могу этого сделать, – ответил мастер, – я сжег его в печке…
– Этого нельзя сделать, простите, не верю, – снисходительно ответил Воланд, – рукописи не горят, – и обратившись к коту, велел ему: – Бегемот, дай-ка роман сюда!
Тут кот вскочил со стула, и все увидели, что сидел он на толстой пачке рукописей в нескольких экземплярах. Верхний экземпляр кот подал Воланду с поклоном.
Маргарита задрожала, вскрикнула, потом заговорила, волнуясь до слез:
– Вот он, вот он! О, верь мне, что это не галлюцинация! – и, повернувшись к Воланду: – Всесильный, всесильный повелитель!
Воланд проглядел роман с такой быстротой, что казалось, будто вращает страницы струя воздуха из вентилятора. Перелистав манускрипт, Воланд положил его на голые колени и молча, без улыбки, уставился на мастера.
Но тот впал в тоску и беспокойство, встал со стула, заломил руки и пошел в лунном луче к луне, вздрагивая, бормоча что-то.
Коровьев выскочил из-под света свечей и темною тенью закрыл больного, и зашептал:
– Вы расстроились? Ничего, ничего… До свадьбы заживет!.. Еще стаканчик… И я с вами за компанию…
И стаканчик подмигнул – блеснул в лунном свете и помог стаканчик. Мастера усадили на место, и лицо его теперь стало спокойно.
– Ну, теперь все ясно, – сказал Воланд и постучал длинным пальцем с черным камнем на нем по рукописи.
– Совершенно ясно, – подтвердил кот, забыв свое обещание стать молчаливой галлюцинацией, – теперь главная линия этого опуса ясна мне насквозь. Что ты говоришь, Азазелло? – спросил он у молчащего Азазелло.
– Я говорю, – прогнусавил тот, – что тебя хорошо бы утопить.
– Будь милосерден, Азазелло, – смиренно сказал кот, – и не наводи моего господина на эту мысль. Поверь мне, что я являлся бы тебе каждую ночь в таком же лунном покрывале, как и бедный мастер, и кивал бы тебе и манил бы тебя за собою. Каково бы тебе было, Азазелло? Не пришлось бы тебе еще хуже, чем этой глупой Фриде? А?
– Молчание, молчание, – сказал Воланд и, когда оно наступило, сказал так:
– Ну, Маргарита Николаевна, теперь говорите все, что вам нужно.
Маргарита поднялась и заговорила твердо, и глаза ее пылали. Она сгибала пальцы рук, как бы отсчитывая на них все, чтобы ничего не упустить.
– Опять вернуть его в переулок на Арбате, в подвал, и чтобы загорелась лампа, как было.
Тут мастер засмеялся и сказал:
– Не слушайте ее, мессир. Там уже давно живет другой человек. И вообще, нельзя сделать, чтобы все «как было»!
– Как-нибудь, как-нибудь, – тихо сказал Воланд и потом крикнул: – Азазелло! – И Азазелло очутился у плеча Воланда.
– Будь так добр, Азазелло, – попросил его Воланд.
Тотчас с потолка обрушился на пол растерянный, близкий к умоисступлению гражданин в одном белье, но почему-то с чемоданом и в кепке. От страху человек трясся и приседал.
– Могарыч? – спросил Азазелло.
– А… Алоизий Могарыч, – дрожа ответил гражданин.
– Эго вы написали, что в романе о Понтии Пилате контрреволюция, и после того, как мастер исчез, заняли его подвал? – спросил Азазелло скороговоркой.
Гражданин посинел и залился слезами раскаяния.
Маргарита вдруг как кошка кинулась к гражданину и завывая и шипя:
– А! Я – ведьма! – и вцепилась Алоизию Могарычу в лицо ногтями.
Произошло смятение.
– Что ты делаешь! – кричал мастер страдальчески. – Ты покрываешь себя позором!
– Протестую, это не позор! – орал кот.
Маргариту оттащил Коровьев.
– Я ванну пристроил, – стуча зубами, нес исцарапанный Могарыч какую-то околесицу, – и побелил… один купорос…
– Владивосток, – сухо сказал Азазелло, подавая Могарычу бумажку с адресом, – Банная, 13, квартира 7. Там ванну пристроишь. Вот билет, плацкарта. Поезд идет через 2 минуты.
– Пальто? А пальто?! – вскрикнул Могарыч.
– Пальто и брюки в чемодане, – объяснил расторопный Азазелло, – остальное малой скоростью уже пошло. Вон!
Могарыча перевернуло кверху ногами и вынесло из спальни. Слышно было, как грохнула дверь, выводящая на лестницу.
Мастер вытаращил глаза, прошептал:
– Однако! Это, пожалуй, почище будет того, что рассказывал Иван… А, простите, это ты… это вы… – сбился он, не зная, как обратиться к коту, «на ты» или «на вы», – вы – тот самый кот, что садились в трамвай?
– Я, – подтвердил кот и добавил: – Приятно слышать, что вы обращаетесь ко мне на «вы». Котам всегда почему-то говорят «ты».
– Мне кажется почему-то, что вы не очень-то кот, – нерешительно ответил мастер.
– Что же еще, Маргарита Николаевна? – осведомился Воланд у Маргариты.
– Вернуть его роман и… – Маргарита подбежала к Воланду, припала к его коленям и зашептала: —…верните ему рассудок…
– Ну, это само собой, – шепотом ответил Воланд, а вслух сказал: – И все?
– Все, – подтвердила Маргарита, розовея от радости.
– Позвольте мне сказать, – вступил в беседу мастер, – я должен предупредить, что в лечебнице меня хватятся. Это раз. Кроме того, у меня нет документа. Кроме того, хозяин-застройщик поразится тем, что исчез Могарыч… И… И главное то, что Маргарита безумна не менее, чем я. Марго! Ты хочешь уйти со мною в подвал?
– И уйду, если только ты меня не прогонишь, – сказала Маргарита.
– Безумие! Безумие, – продолжал мастер, – отговорите ее.
– Нет, не будем отговаривать, – покосившись на мастера, ответил Воланд, – это не входило в условие. А вот насчет чисто технической стороны дела… документ этот и прочее. Азазелло!
Азазелло тотчас вытащил из кармана фрака книжечку, вручил ее мастеру со словами:
– Документ!
Тот растерянно взял книжечку, а Азазелло стал вынимать из кармана бумаги и даже большие прошнурованные книги.
– Ваша история болезни…
Маргарита подвела мастера к свечам со словами «ты только смотри, смотри…»
– … прописка в клинике…
– Раз, и в камин! – затрещал Коровьев, – и готово! Ведь раз нет документа – и человека нет? Не правда ли?
Бумаги охватило пламя.
– А это домовая книга, – пояснил Коровьев, – видите, прописан Могарыч Алоизий… Теперь: эйн, цвей, дрей…
Коровьев дунул на страницу, и прописка Могарыча исчезла.
– Нету Могарыча, – сладко сказал Коровьев, – что Могарыч? Какой такой Могарыч? Не было никакого Могарыча. Он снился.
Тут прошнурованная книга исчезла.
– Она уже в столе у застройщика, – объяснил Коровьев. – И все в порядочке.
– Да, – говорил мастер, ошеломленно вертя головой, – конечно, это глупо, что я заговорил о технике дела…
– Больше я не смею беспокоить вас ничем, – начала Маргарита, – позвольте вас покинуть… Который час?
– Полночь, пять минут первого, – ответил Коровьев.
– Как? – вскричала Маргарита, – но ведь бал шел три часа…
– Ничего неизвестно, Маргарита Николаевна!.. Кто, чего, сколько шел! Ах, до чего все это условно, ах, как условно! – эти слова, конечно, принадлежали Коровьеву.
Появился портфель, в него погрузили роман, кроме того, Коровьев вручил Маргарите книжечку сберкассы, сказав:
– Девять тысяч ваши, Маргарита Николаевна. Нам чужого не надо! Мы не заримся на чужое.
– У меня пусть лапы отсохнут, если к чужому прикоснусь, – подтвердил и кот, танцуя на чемодане, чтобы умять в него роман.
– Все это хорошо, – заметил Воланд, – но, Маргарита Николаевна, куда прикажете девать вашу свиту? Я лично в ней не нуждаюсь.
И тут дверь открылась, и вошли в спальню взволнованная и голая Наташа, а за нею грустный, не проспавшийся после бала Николай Иванович.
Увидев мастера, Наташа обрадовалась, закивала ему головой, а Маргариту крепко расцеловала.
– Вот, Наташенька, – сказала Маргарита, – я буду жить с мастером теперь, а вы поезжайте домой. Вы хотели выйти замуж за инженера или техника. Желаю вам счастья. Вот вам тысяча рублей.
– Не пойлу я ни за какого инженера, Маргарита Николаевна, – ответила Наташа, не принимая денег, – я после такого бала за инженера не пойду. У вас буду работать. Вы уж не гоните.
– Хорошо. Сейчас вместе и поедем, – сказала Маргарита Николаевна и попросила Воланда, указывая на Николая Ивановича: – А этого гражданина я прошу отпустить с миром. Он случайно попал в это дело.
– То есть с удовольствием отпущу, – сказал Воланд, – с особенным. Настолько он здесь лишний.
– Я очень прошу выдать мне удостоверение, – заговорил, дико оглядываясь, Николай Иванович, – о том, где я провел упомянутую ночь.
– На какой предмет? – сурово спросил кот.
– На предмет представления милиции и супруге, – объяснил Николай Иванович.
– Удостоверений мы не даем, – кот насупился, – но для вас сделаем исключение.
И тут появилась пишущая машинка. Гелла села за нее, а кот продиктовал:
– Сим удостоверяется, что предъявитель сего Николай Иванович Филармонов провел упомянутую ночь на балу у сатаны, будучи привлечен в качестве перевозочного средства, в скобках – боров ведьмы Наташи. Подпись Бегемот.
– А число? – пискнул Николай Иванович.
– Чисел не ставим, с числом бумага станет недействительной, – отозвался кот, подписал бумагу, вынул откуда-то печать, подышал на нее, оттиснул на бумаге слово «уплочено» и вручил ее Николаю Ивановичу. И тот немедля исчез, и опять стукнула передняя дверь.
В ту же минуту еще одна голова просунулась в дверь.
– Это еще кто? – спросил, заслоняясь от свечей, Воланд.
Варенуха всунулся в комнату, стал на колени, вздохнул и тихо сказал:
– Поплавского до смерти я напугал с Геллой… Вампиром быть не могу, отпустите…
– Какой такой вампир? Я его даже не знаю… Какой Поплавский? Что это еще за чепуха?
– Не извольте беспокоиться, мессир, – сказал Азазелло и обратился к Варенухе:
– Хамить не надо по телефону, ябедничать не надо, слушаться надо, лгать не надо.
Варенуха просветлел лицом и вдруг исчез, и опять-таки стукнула парадная дверь.
Тогда, управившись наконец со всеми делами, подняли мастера со стула, где он сидел безучастно, накинули на него плащ. Наташа, тоже уже одетая в плащ, взяла чемодан, стали прощаться, выходить и вышли в соседнюю темную комнату. Но тут раздался голос Воланда:
– Вернитесь ко мне, мастер и Маргарита, а остальные подождите там.
И вот перед Воландом, по-прежнему сидящим на кровати, оказались оба, которых он позва…
Маргарита стояла, уставив на Воланда блестящие, играющие от радости глаза, а мастер, утомленный и потрясенный всем виденным и пережитым, с глазами потухшими, но не безумными. И теперь в шапочке, закутанный в плащ, он казался еще худее, чем был, и нос его заостренный еще более как-то заострился на покрытом черной щетиной лице.
– Маргарита! – сказал Воланд.
Маргарита шевельнулась.
– Маргарита! – повторил Воланд, – вы довольны тем, что получили?
– Довольна, и ничего больше не хочу! – ответила Маргарита твердо.
Воланд приказал ей:
– Выйдите на минуту и оставьте меня с ним наедине.
Когда Маргарита, тихо ступая туфлями из лепестков, ушла, Воланд спросил:
– Ну, а вы?
Мастер ответил глухо:
– А мне ничего и не надо больше, кроме нее.
– Позвольте, – возразил Воланд, – так нельзя. А мечтания, вдохновение? Великие планы? Новые работы?
Мастер ответил так:
– Никаких мечтаний у меня нет, как нет и планов. Я ничего не ищу больше от этой жизни и ничто меня в ней не интересует. Я ее презираю. Она права, – он кивнул на Маргариту, – мне нужно уйти в подвал. Мне скучно на улице, они меня сломали, я хочу в подвал.
– А чем же вы будете жить? Ведь вы будете нищенствовать?
– Охотно, – ответил мастер.
– Хорошо. Теперь я вас попрошу выйти, а она пусть войдет ко мне.
И Маргарита была теперь наедине с Воландом.
– Иногда лучший способ погубить человека – это предоставить ему самому выбрать судьбу, – начал Воланд, – вам предоставлялись широкие возможности, Маргарита Николаевна! Итак, человека за то, что он сочинил историю Понтия Пилата, вы отправляете в подвал в намерении его там убаюкать?
Маргарита испугалась и заговорила горячо:
– Я все сделала так, как хочет он… Я шепнула ему все самое соблазнительное… и он отказался…
– Слепая женщина! – сурово сказал Воланд, – я прекрасно знаю то, о чем вы шептали ему. Но это не самое соблазнительное. Ну, во всяком случае, что сделано, то сделано. Претензий вы ко мне не имеете?
– О, что вы! Что вы?
– Так возьмите же это на память, – и Воланд подал Маргарите два темных платиновых кольца – мужское и женское.
– Прощайте, – тихо шепнула Маргарита.
– До свидания, – ответил Воланд, и Маргарита вышла.
В передней провожали все, кроме Воланда. На площадку вышли Маргарита и мастер, Наташа с чемоданом и Азазелло.
Маргарита сделала знак Азазелло глазами «там, мол, агент»… Азазелло мрачно усмехнулся и кивнул «ладно, мол».
Шелковые плащи зашумели, компания тронулась вниз. Тут Азазелло дунул в воздух, и, когда проходили мимо окна, на следующей площадке лестницы, Маргарита увидела, что человека в сапогах там нету.
Тут что-то стукнуло на полу, никто не обратил на это внимания, спустились к выходной двери, возле которой опять-таки никого не оказалось. У крыльца стояла темная закрытая машина с потушенными фарами…
ПогребениеГромадный город исчез в кипящей мгле. Пропали висячие мосты у храма, ипподром, дворцы, как будто их и не было на свете.
Но время от времени, когда огонь зарождался и трепетал в небе, обрушившемся на Ершалаим и пожравшем его, вдруг из хаоса грозового светопреставления вырастала на холме многоярусная как бы снежная глыба храма с золотой чешуйчатой головой. Но пламя исчезало в дымном черном брюхе, и храм уходил в бездну. И грохот катастрофы сопровождал его уход.
При втором трепетании пламени вылетал из бездны противостоящий храму на другом холме дворец Ирода Великого, и страшные безглазые золотые статуи простирали к черному вареву руки. И опять прятался огонь, и тяжкие удары загоняли золотых идолов в тьму.
Гроза переходила в ураган. У самой колоннады в саду переломило, как трость, гранатовое дерево. Вместе с водяной пылью на балкон под колонны забрасывало сорванные розы и листья, мелкие сучья деревьев и песок.
В это время под колоннами находился только один человек. Этот человек был прокуратор.
Он сидел в том самом кресле, в котором вел утром допрос. Рядом с креслом стоял низкий стол и на нем кувшин с вином, чаша и блюдо с куском хлеба. У ног прокуратора простиралась неубранная красная, как бы кровавая, лужа и валялись осколки другого разбитого кувшина.
Слуга, подававший красное вино прокуратору еще при солнце до бури, растерялся под его взглядом, чем-то не угодил, и прокуратор разбил кувшин о мозаичный пол, проговорив:
– Почему в лицо не смотришь? Разве ты что-нибудь украл?
Слуга кинулся было подбирать осколки, но прокуратор махнул ему рукою, и тот убежал.
Теперь он, подав другой кувшин, прятался возле ниши, где помешалась статуя нагой женщины со склоненной головой, боясь показаться не вовремя на глаза и в то же время боясь и пропустить момент, когда его позовут.
Сидящий в грозовом полумраке прокуратор наливал вино в чашу, пил долгими глотками, иногда притрагивался к хлебу, крошил его, заедал вино маленькими кусочками.
Если бы не рев воды, если бы не удары грома, можно было бы расслышать, что прокуратор что-то бормочет, разговаривает сам с собою. И если бы нестойкое трепетание небесного огня превратилось бы в постоянный свет, наблюдатель мог бы видеть, что лицо прокуратора с воспаленными от последних бессонниц и вина глазами выражает нетерпение, что он ждет чего-то, подставляя лицо летящей водяной пыли.
Прошло некоторое время, и пелена воды стала редеть, яростный ураган ослабевал и не с такою силою ломал ветви в саду. Удары грома, блистание становились реже, над Ершалаимом плыло уже не фиолетовое с белой опушкой покрывало, а обыкновенная серая туча. Грозу сносило к Мертвому морю.
Теперь уже можно было расслышать отдельно и шум низвергающейся по желобам и прямо по ступеням воды с лестницы, по которой утром прокуратор спускался на площадь. И наконец зазвучал и заглушенный доселе фонтан. Светлело, в серой пелене неба появились синие окна.
Тут вдали, прорываясь сквозь стук уже слабенького дождика, донеслось до слуха прокуратора стрекотание сотен копыт. Прокуратор шевельнулся, оживился. Это ала, возвращаясь с Голгофы, проходила там внизу за стеною сада по направлению к крепости Антония.
И наконец он услышал и долгожданные шаги, шлепание ног на лестнице, ведущей к площадке сада перед балконом. Прокуратор вытянул шею, глаза его выражали радость.
Показалась сперва голова в капюшоне, а затем и весь человек, совершенно мокрый в прилипающем к телу плаще. Это был тот самый, что сидел во время казни на трехногом табурете.
Пройдя, не разбирая луж, по площадке сада, человек в капюшоне вступил на мозаичный пол и, подняв руку, сказал приятным высоким голосом:
– Прокуратору желаю здравствовать и радоваться.
– Боги! – воскликнул Пилат по-гречески, – да ведь на вас нет сухой нитки! Каков ураган? Прошу вас немедленно ко мне. Переоденьтесь!
Пришедший откинул капюшон, обнаружив мокрую с прилипшими ко лбу волосами голову, и, вежливо поклонившись, стал отказываться переодеться, уверяя, что небольшой дождик не может ему ничем повредить.
Но Пилат и слушать не захотел. Хлопнув в ладоши, он вызвал прячущихся слуг и велел им позаботиться о пришедшем, а также накрыть стол.
Немного времени понадобилось пришельцу, чтобы в помещении прокуратора привести себя в порядок, высушить волосы, переодеться, и вскорости он вышел в колоннаду в сухих сандалиях, в сухом военном плаще, с приглаженными волосами.
В это время солнце вернулось в Ершалаим и, прежде чем утонуть в Средиземном море, посылало прощальные лучи, золотившие ступени балкона. Фонтан ожил и пел замысловато, голуби выбрались на песок, гулькали, расхаживали, что-то клюя. Красная лужа была затерта, черепки убраны, стол был накрыт.
– Я слушаю приказания прокуратора, – сказал пришедший, подходя к столу.
– Но ничего не услышите, пока не сядете и не выпьете вина, – любезно ответил Пилат, указывая на другое кресло.
Пришедший сел, слуга налил в чашу густое красное вино. Пока пришедший пил и ел, Пилат, смакуя вино, поглядывал прищуренными глазами на своего гостя.
Гость был человеком средних лет, с очень приятным округлым лицом, гладко выбритым, с мясистым носом. Основное, что определяло это лицо, это, пожалуй, выражение добродушия, нарушаемое, в известной степени, глазами. Маленькие глаза пришельца были прикрыты немного странными, как будто припухшими веками. Пришедший любил держать свои веки опущенными, и в узких щелочках светилось лукавство. Пришелец имел манеру во время разговора внезапно приоткрывать веки пошире и взглядывать на собеседника в упор, как бы с целью быстро разглядеть какой-то малозаметный прыщик на лице.
После этого веки опять опускались, оставались щелочки, в которых и светились лукавство, ум, добродушие.
Пришедший не отказался и от второй чаши вина, с видимым наслаждением съел кусок мяса, отведал вареных овощей.
Похвалил вино:
– Превосходная лоза. Фалерно?
– Цекуба, тридцатилетнее, – любезно отозвался хозяин.
После этого гость объявил, что сыт. Пилат не стал настаивать. Африканец наполнил чаши, прокуратор поднялся, и то же сделал его гость.
Оба они отлили немного вина из своих чаш, и прокуратор сказал громко:
– За нас, за тебя, Кесарь, отец римлян, самый дорогой и лучший из людей!
После этого допили вино, и африканцы вмиг убрали чуть тронутые яства со стола. Жестом прокуратор показал, что слуги более не нужны, и колоннада опустела.
Хозяин и гость остались одни.
– Итак, – заговорил Пилат негромко, – что можете вы сказать мне о настроении в этом городе?
Он невольно обратил взор в ту сторону, где за террасой сада видна была часть плоских крыш громадного города, заливавшегося последними лучами солнца.
Гость, ставший после еды еще благодушнее, чем до нее, ответил ласково:
– Я полагаю, прокуратор, что настроение в этом городе теперь хорошее.
– Так что можно ручаться, что никакие беспорядки не угрожают более?
– Ручаться можно, – проговорил гость, с удовольствием поглядывая на голубей, – лишь за одно в мире – мощь великого кесаря…
– Да пошлют ему боги долгую жизнь, – сейчас же продолжил Пилат, – и всеобщий мир. Да, а как вы полагаете, можно ли увести теперь войска?
– Я полагаю, что когорта Громоносного легиона может уйти, – ответил гость и прибавил: – Хорошо бы, если бы еще завтра она продефилировала по городу.
– Очень хорошая мысль, – одобрил прокуратор, – послезавтра я ее отпущу и сам уеду, и, клянусь пиром двенадцати богов, дарами клянусь, я отдал бы многое, чтобы сделать это сегодня.
– Прокуратор не любит Ершалаима? – добродушно спросил гость.
– О, помилуйте, – светски улыбаясь, воскликнул прокуратор, – нет более беспокойного места на всей земле! Маги, чародеи, волшебники, фанатики, богомольцы… И каждую минуту только и ждешь, что придется быть свидетелем кровопролития. Тасовать войска все время, читать доносы и ябеды, из которых половина на тебя самого. Согласитесь, что это скучно!
– Праздники, – снисходительно отозвался гость.
– От всей души желаю, чтобы они скорее кончились, – энергично добавил Пилат, – и я получил бы возможность уехать в Кесарию. А оттуда мне нужно ехать с докладом к наместнику. Да, кстати, этот проклятый Вар-Равван вас не тревожит?
Тут гость и послал этот первый взгляд в щеку прокуратору. Но тот глядел скучающими глазами вдаль, брезгливо созерцая край города, лежащий у его ног и угасающий перед вечером. И взгляд гостя угас, и веки опустились.
– Я думаю, что Вар стал теперь безопасен, как ягненок, – заговорил гость, и морщинки улыбки появились на круглом лице, – ему неудобно бунтовать теперь.
– Слишком знаменит? – спросил Пилат, изображая улыбку.
– Прокуратор как всегда тонко понимает вопрос, – ответил гость. – он стал притчей во языцех.
– Но во всяком случае… – озабоченно заметил прокуратор, и тонкий длинный палец с черным камнем в перстне поднялся вверх.
– О, прокуратор может быть уверен, что в Иудее Вар не сделает шагу без того, чтобы за ним не шли по пятам.
– Теперь я спокоен, – ответил прокуратор, – как, впрочем, и всегда спокоен, когда вы здесь.
– Прокуратор слишком добр.
– А теперь прошу сделать мне доклад о казни, – сказал прокуратор.
– Что именно интересует прокуратора?
– Не было ли попыток выражать возмущение ею, попыток прорваться к столбам?
– Никаких, – ответил гость.
– Очень хорошо, очень хорошо. Вы сами установили, что смерть пришла?
– Конечно. Прокуратор может быть уверен в этом.
– Скажите. Напиток им давали перед повешением на столбы?
– Да. Но он, – тут гость метнул взгляд, – отказался его выпить.
– Кто именно? – спросил Пилат, дернув щекой.
– Простите, игемон! – воскликнул гость, – я не назвал? – Га-Ноцри.
– Безумец! – горько и жалостливо сказал Пилат, гримасничая. Под левым глазом у него задергалась жилка, – умирать от ожогов солнца, с пылающей головой… Зачем же отказываться от того, что предлагается по Закону? В каких выражениях он отказался?
– Он сказал, – закрыв глаза, ответил гость, – что благодарит и не винит за то, что у него отняли жизнь.
– Кого? – глухо спросил Пилат.
– Этого он не сказал, игемон.
– Не пытался ли он проповедовать что-либо в присутствии солдат?
– Нет, игемон, он не был многословен на этот раз. Единственно, что он сказал, – это что в числе человеческих пороков одним из самых главных он считает трусость.
– К чему это было сказано? – услышал гость треснувший внезапно голос.
– Этого нельзя было понять. Он вообще вел себя странно, как, впрочем, и всегда.
– В чем странность?
– Он улыбался растерянной улыбкой и все пытался заглянуть в глаза то одному, то другому из окружающих.
– Больше ничего? – спросил хриплый голос.
– Больше ничего.
Прокуратор стукнул чашей, наливая гостю и себе вина.
После того как чаши были осушены, он заговорил.
– Дело заключается в следующем. Хотя мы и не можем обнаружить каких-либо его поклонников или последователей, тем не менее ручаться, что их совсем нет, никто не может.
Гость внимательно слушал, наклонив голову.
– И вот, предположим, – продолжал прокуратор, – что кто-нибудь из тайных его последователей овладеет его телом и похоронит. Нет сомнений, это создаст возле его могилы род трибуны, с которой, конечно, польются какие-либо нежелательные речи.
Эта могила станет источником нелепых слухов. В этом краю, где каждую минуту ожидают мессию, где головы темны и суеверны, подобное явление нежелательно. Я слишком хорошо знаю этот чудесный край!
Поэтому я прошу вас немедленно и без всякого шума убрать с лица земли тела всех трех и похоронить их так, чтобы о них не было ни слуху ни духу.
Я думаю, что какой-нибудь грот в совершенно пустынной местности пригоден для этой цели. Вам это виднее, впрочем.
– Слушаю, игемон, – отозвался гость и встал, говоря, – ввиду сложности и ответственности дела, разрешите мне ехать немедленно.
– Нет, сядьте, – сказал Пилат, – есть еще два вопроса. Второй: ваши громадные заслуги, ваша исполнительность и точность на труднейшей работе в Иудее заставляют меня доложить о вас в Риме. О том же я сообщу и наместнику Сирии. Я не сомневаюсь в том, что вы получите повышение или награду.
Гость встал и поклонился прокуратору, говоря:
– Я лишь исполняю долг императорской службы.
– Но я хотел просить вас, если вам предложат перевод отсюда, отказаться от него и остаться здесь. Мне не хотелось бы расстаться с вами. Пусть наградят вас каким-нибудь иным способом.
– Я счастлив служить под вашим начальством, игемон.
– Итак, третий вопрос, – продолжал прокуратор, – касается он этого, как его… Иуды из Кериафа.
Гость послал прокуратору свой взгляд и как всегда убрал его.
– Говорят, что он, – понизив голос, говорил прокуратор, – что он деньги получил за то, что так радушно принял у себя этого безумного философа.
– Получит, – негромко ответил гость.
– А велика ли сумма?
– Этого никто знать не может, игемон.
– Даже вы? – изумлением своим выражая комплимент, сказал игемон.
– Даже я, – спокойно ответил гость, – но что он получит деньги сегодня вечером, это я знаю.
– Ах, жадный старик, – улыбаясь заметил прокуратор, – ведь он старик?
– Прокуратор никогда не ошибается, – ответил гость, – но на сей раз ошибся. Это молодой человек.
– Скажите. У него большая будущность, вне сомнений.
– О, да.
– Характеристику его можете мне дать?
– Трудно знать всех в этом громадном городе.
– А все-таки?
– Очень красив.
– А еще. Страсть имеет ли какую-нибудь?
– Влюблен.
– Так, так, так. Итак, вот в чем дело: я получил сведения, что его зарежут этой ночью.
Тут гость открыл глаза и не метнул взгляд, а задержал его на лице прокуратора.
– Я не достоин лестного доклада прокуратора обо мне, – тихо сказал гость, – у меня этих сведений нет.
– Вы – достойны, – ответил прокуратор, – но это так.
– Осмелюсь спросить – от кого эти сведения?
– Разрешите мне покуда этого не говорить, – отметил прокуратор, – тем более что сведения эти случайны, темны и недостоверны. Но я обязан предвидеть все, увы, такова моя должность, а пуще всего я обязан верить своему предчувствию, ибо никогда еще оно меня не обманывало.
Сведение же заключается в том, что кто-то из тайных друзей Га-Ноцри, возмущенных поступком этого человека из Кериафа, сговариваются его убить, а деньги его подбросить первосвященнику с запиской: «Иуда возвращает проклятые деньги».
Три раза метал свой взор гость на прокуратора, но тот встретил его, не дрогнув.
– Вообразите, приятно ли будет первосвященнику в праздничную ночь получить подобный подарок? – спросил прокуратор, нервно потирая руки.
– Не только неприятно, – почему-то улыбнувшись прокуратору, сказал гость, – но это будет скандал.
– Да, да! И вот, я прошу вас заняться этим делом, – сказал прокуратор, – то есть принять все меры к охране Иуды из Кериафа. Иудейская власть и их церковники, как видите, навязали нам неприятное дело об оскорблении величества, а мы – римская администрация – обязаны еще за это заботиться об охране какого-то негодяя! – голос прокуратора выражал скуку и в то же время возмущение, а гость не спускал с него своих закрытых глаз.
– Приказание игемона будет исполнено, – заговорил он, – но я должен успокоить игемона, замысел злодеев чрезвычайно трудно выполним. Ведь подумать только: выследить его, зарезать, да еще узнать сколько получил, да ухитриться вернуть деньги Каиафе! Да еще в одну ночь!
– И тем не менее его зарежут сегодня! – упрямо повторил Пилат, – зарежут этого негодяя! Зарежут!
Судорога прошла по лицу прокуратора, и опять он потер руки.
– Слушаю, слушаю, – покорно сказал гость, не желая более волновать прокуратора, и вдруг встал, выпрямился и спросил сурово:
– Так зарежут, игемон?
– Да! – ответил Пилат, – и вся надежда только на вас и вашу изумительную исполнительность.
Гость обернулся, как будто искал глазами чего-то в кресле, но не найдя, сказал задумчиво, поправляя перед уходом тяжелый пояс с ножом под плащом:
– Я не представляю, игемон, самого главного: где злодеи возьмут деньги. Убийство человека, игемон, – улыбнувшись, пояснил гость, – влечет за собою расходы.
– Ну, уж это чего бы ни стоило! – сказал прокуратор, скалясь, – нам до этого дела нет.
– Слушаю, – ответил гость, – имею честь…
– Да! – вскричал Пилат негромко, – ах, я совсем и забыл! Ведь я вам должен!..
Гость изумился:
– Помилуйте, прокуратор, вы мне ничего не должны.
– Ну, как же нет! При въезде моем в Ершалаим толпа нищих… помните… я хотел швырнуть им деньги… у меня не было… я взял у вас…
– Право, не помню. Это какая-нибудь безделица…
– И о безделице надлежит помнить!
Пилат обернулся, поднял плащ, лежащий на третьем кресле, вынул из-под него небольшой кожаный мешок и протянул его гостю. Тот поклонился, принимая и пряча его под плащ.
– Слушайте, – заговорил Пилат, – я жду доклада о погребении, а также и по делу Иуды из Кериафа сегодня же ночью, слышите, сегодня! Я буду здесь, на балконе. Мне не хочется идти внутрь, ненавижу это пышное сооружение Ирода! Я дал приказ конвою будить меня, лишь только вы появитесь. Я жду вас!








