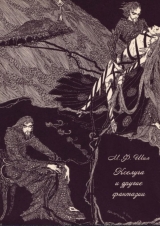
Текст книги "Кселуча и другие фантазии"
Автор книги: Мэтью Шил
Жанры:
Классические детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 26 страниц)
ИСТОРИЯ ГЕНРИ И РОВЕНЫ
Пер. А. Шермана
 еди Ровена Ховард ди Исте была замужем уже десять месяцев, когда – вновь – пути ее и лорда Дарнли пересеклись.
еди Ровена Ховард ди Исте была замужем уже десять месяцев, когда – вновь – пути ее и лорда Дарнли пересеклись.
Это случилось в опере Палли, где ее оперный бинокль, скользя по противоположному ряду «дворянских лож», остановился на мертвенно белом лице и высоком лбу Дарнли, позволив ей увидеть, что и его бинокль был устремлен на нее; обмен взглядами через окуляры продолжался несколько мгновений, пока она, внезапно побледнев, не наклонила немного голову.
Когда она выходила из театра, человек в костюме белого медведя (секретарь Дарнли) ухитрился бросить ей в сложенный зонт визитную карточку с написанными словами «Можем ли мы встретиться? У Мета Суданс»[51]51
…Мета Суданс – букв, «потеющая мета», монументальный конический фонтан близ Колизея в Древнем Риме. В описываемое время еще сохранились руины фонтана, которые были снесены в 1930-х гг. при постройке транспортной развязки вокруг Колизея; основание фонтана, раскопанное в 1990-х гг., ныне находится в пешеходной зоне.
[Закрыть] – время близилось к восьми часам вечера, и звон Постного колокола вскоре должен был означить закрытие всех театров, открытых с десяти утра в этот вторник, последний – и самый безумный – день карнавала, день barberi и moccoletti[52]52
...barberi и moccoletti – традиционные развлечения во время римского карнавала, соответственно, скачка лошадей без всадников по Корсо и шуточная битва масок, во время которой участники старались потушить друг у друга горящие свечи-мокколетти (подробно описана в Графе Монте-Кристо А. Дюма).
[Закрыть], и град карнавала взмывал к небесам. Ибо сейчас град тот стал сплошным умопомрачением, в воздухе висел дым ракет, экипажи с боковых улиц сворачивали на Корсо, в толпу домино, пьеро, маркиз, пастушек – хаос воздетых рук, криков, состязаний, цветов.
Но Ровена откинулась в своей коляске, не принимая участия в этих увеселениях – дама со статным и томно расслабленным телом и пухлыми губами, горевшими алым на бледном лице; узел угольно-черных волос и изгиб горла придавали ей некоторое сходство с созданиями из грез Россетти[53]53
…Россетти – Д. Г. Россетти (1828–1882) – английский художник, поэт, переводчик и иллюстратор, один из основателей Братства прерафаэлитов.
[Закрыть]. Когда Дарнли стоял рядом с нею, было заметно, что он ниже ее на дюйм.
Ее экипаж проехал по виа Урбана к Колизею, и лорд Дарнли выступил из тени места свиданий.
– Вот видите, мы встретились.
И она пробормотала:
– Как странно.
Они подошли к арке вомитория[54]54
…вомитория – Вомитории – в Колизее арочные проходы под трибунами для входа и эвакуации зрителей.
[Закрыть]; руины мрачно раскинулись перед ними.
– Итак, вы все еще повсюду? – спросила она, улыбаясь.
Он ответил:
– Я путешествую. Хоть мы и души, согрешившие в ином мире, а земля – наша тюрьма, мы все же можем счастливо бродить по ней.
– Ах, это скорбное настроение… Вы обещали, что будете счастливы, Генри.
– А вы?
– Я вышла недавно замуж за старика, который говорит об одних акциях и облигациях. Но есть и свои утешения.
– Какие же?
– Богатство, солнце, карнавал.
– За карнавалом следует Великий пост, – отметил он.
– Но перед Великим постом – карнавал! – коротко рассмеялась она.
И он:
– В вас появилась приземленность. Влияние мужа?
– Может быть.
– Нет, простите меня: я знаю, что вы не могли измениться. Вы всегда остаетесь собой.
– Надеюсь, я все то, что вы во мне видите… Лицо, однако, не всегда отражает личность человека. Самая неземная красавица, какую я когда-либо встречала, держит в Севилье папиросную фабрику и страдает слабоумием.
– Я никогда не оценивал вас по лицу, – сказал Дарнли, изучая это лицо с опущенными ресницами, – но по себе: вы мой двойник – или были им раньше.
Комплимент заставил Ровену смущенно потупиться.
– Ну, если вы так говорите… Я – надеюсь – что это правда. Вы скорее производите впечатление какого-то существа с Олимпа, нежели человека; в отношении же себя я начинаю опасаться, что я – по большей части женщина.
– «Олимпийские существа», безусловно, не ведают кожных заболеваний, – с улыбкой ответил он.
(Пять лет тому, накануне ожидавшегося брака с Ровеной, Дарнли провел три дня в Исландии, средоточии проказы, и после на его левой руке появились три узелка лепры, превратившие его в изгоя.)
– Вы еще не поправились? – спросила она.
И он ответил:
– Моя болезнь неизлечима.
– Увы! И моя, Генри, – сказано это было, возможно, с большей печалью, чем она чувствовала на самом деле.
– Я здесь, чтобы излечить вас и меня.
Она с сомнением посмотрела на него при свете только что взошедшей луны, удвоившей громадность развалин и коснувшейся черт Ровены колдовской и романтической кистью.
– А лекарство – все то же, прежнее? – спросила она, улыбаясь. – Рандеву в великом Нигде?
– Там, где души действительно встречаются, – сказал он.
Несколько мгновений она стояла, задумавшись, прислушиваясь к далекому гулу карнавального вихря, едва слышному здесь.
– И вы все еще верите, Генри, в существование души, загробной жизни?
– Душа существует, как и загробная жизнь. Вы не верите?
– Верю, если вы так говорите.
– Говорю. Я знаю это уже семь лет. И снадобье существует.
– Искуситель, искуситель.
Дарнли все время играл в кармане с двумя пузырьками, с которыми почти никогда не расставался; и теперь он сказал:
– Вы согласны?
– Генри, у меня есть – привязанности…
– Как видно, вы перестали… любить.
– Ах!
– Значит, вы согласны. Скажем, в полночь?
– О нет, я… Хотя бы дайте мне время.
– Сколько?
– Месяц.
– Где?
– В Неаполе.
Он поклонился.
– Итак, через месяц – в Неаполе.
– К тому времени я так или иначе решусь.
Он снова поклонился. Они прошли через вомиторий и расстались у Мета Судане.
Праздник moccoletti был в полном разгаре, и сотни тысяч свечей метались, ярились, бросались в гущу сражения, разгоряченные лица свисали с балконов верхних этажей, и каждый защищал свою свечу, стараясь погасить чужую с помощью мехов, дыхательных трубок, громадных вееров… Внезапно Постный колокол погасил все свечи, но толпа, что стала напоминать теперь выдохшееся шампанское, не редела, и кучер Ровены долго с уловками пробирался, лавируя в толчее разъезжавшихся экипажей, пока не высадил ее у палаццо; там Ровена нашла довольно холодную записку от мужа, сообщавшего, что он не дождался ее и отправился один на мероприятие, завершавшее светский карнавальный сезон – бал-маскарад в Палаццо Рондола.
Герцог ди Рондола (тот самый «Рондола», который был натуралистом и превратил свой парк в знаменитый «Зоопарк Рондола»), в том году задавал тон сезона, и в эту последнюю ночь залы его дворца были полны.
Там в полночь танцевала Ровена; но вскоре за тем, устав от душных комнат, она спустилась в парк. Она искала одиночества и мечтаний, но поиски вначале были тщетными: среди клуб и беседок ей встречалось множество уютно сидящих на скамеечках или прогуливающихся пар, и она уходила все дальше в глубину парка, пока в очень затененной его части не увидала идущего к ней мужчину среднего роста в малиновом кальпаке[55]55
…кальпаке – Кальпак – высокая войлочная или овчинная мужская шапка в Турции, на Кавказе, Бл. Востоке и т. д.
[Закрыть], подпоясанного кашемировым кушаком; узнав его черные усы и ровный блеск зубов, Ровена вздрогнула…
– Вы… – выдохнула она, когда они сошлись. – Я не знала, что вы здесь…
Она глядела на него с неким благоговейным страхом – второе за день свидание внушило ее воображению, что встреча в парке была порождением абсолютной силы его личности, его воли и способности влиять на события; и она промолвила:
– Эта наша встреча вправду необычайна: я искала грезы…
– Я помешал?
– О, нет – так Саул, разыскивая отцовских ослиц, нашел царство[56]56
…так Саул… царство – см. I Цар. 1.
[Закрыть], Генри.
– Царство и трагедию.
– Ах, какой же вы мрачный человек! Но лучше умереть царем, чем жить крестьянином, не так ли? – она чуть склонила голову набок, улыбаясь нежно и заискивающе.
И он:
– Не лучше ли умереть «богиней», чем жить «женщиной»?
– Искуситель, искуситель.
– Я задал вопрос.
– А я ответила! В Неаполе, через месяц, – и однако, если бы Ровена внимательно глянула в себя, она нашла бы, что ее ответ месяц спустя не слишком отличался бы от сказанного в эту ночь; но время и место были полны музыки и волшебства, тени в лунном свете веяли грезами, и Ровена с тайным беспокойством вернулась к предмету беседы, флиртуя, поигрывая этим острым оружием с мистицизмом и меланхолией, наполовину ребяческими и всецело женскими.
– Мы все время встречаемся! – заметила она. – Что же нас заставляет?
– Физика учит, – ответил он, – что некоторые атомы тяготеют друг к другу. Они неразделимы. То же и в сфере духа.
– Значит, мы все подчинены Закону?
– Атомы подчинены химическому принуждению; духи подчиняются велению Провидения.
– Так что, к примеру, наша встреча сейчас…
– Погодите, – сказал он, протягивая руку, – может быть, вот ее объяснение…
Они стояли в древесной аллее, окруженной живой изгородью аралий; аллея шла под уклон и немного повыше влюбленных стоял павильон, размещенный у стены; Дарнли со словами «Вон там» указывал вниз, где в свете двух мавританских фонарей виднелось вдалеке какое-то испещренное пятнами животное, грациозными прыжками мчавшееся к ним по аллее.
Глаза Ровены, расширившись, устремились на зверя.
– Что это за… – прошептала она.
– Леопард с озера Цана[57]57
…озера Цана – устаревшее название оз. Тана в Эфиопии.
[Закрыть]…
– Сбежал из зверинца?
– Очевидно. В этих лесах немало…
– Но он все ближе!
– Вы не боитесь? Una lonza leggiera е presta molto, che di pel mac[58]58
Una lonza leggiera … mac… – «Проворная и вьющаяся рысь, / Вся в ярких пятнах пестрого узора» (Данте, Ад, песнь I. Пер. М. Лозинского). Использованное у Данте «lonza» чаще всего интерпретируется именно как «леопард».
[Закрыть]…
– Генри!
– Вот и наше снадобье…
– О, не таким же способом, конечно! – и она слегка подалась назад, видя, что лоснящееся, шелковистое, гибкое создание, зловещее в своей красоте, быстро приближается.
– Однако, – проговорил Дарнли, – аллею позади перегораживают павильон и стена, прохода в живой изгороди также не видать: боюсь, мы в ловушке… Но и будь здесь выход, леопард догнал бы нас, попытайся мы бежать.
– Спасите меня – умоляю!
– Вы настаиваете?
– Разумеется!
– Но как?
– Вы не вооружены?
– Нет… у меня только это… – сказал он, отцепляя от пояса изогнутое лезвие крошечного индийского кинжала, игрушку с агатовой рукоятью. – Но он лишь способен поранить, а рана, без сомнения, приведет зверя в бешенство…
– Генри! Как близко! Он остановился! смотрит на нас!
– Пусть смотрит. Со стороны может показаться, что вы взволнованы…
– Нет! Нет! Я не взволнована… Но спасите меня…
– Мы можем сейчас же покончить…
– Это ужасно! Спасите меня, молю!
– Вы все же настаиваете?
– О да! – произнесла она, не понимая, как мог он ее спасти, но с давних пор убежденная в способности его воли творить чудеса; он и впрямь перевел взгляд со зверя на нее, проговорив:
– Я могу спасти вас, но лишь одним путем – утратив часть себя. Скажите же, долго ли мне после этого придется ждать?
– Утратив часть?.. Я не пони… В любое время, когда захотите! Только спасите меня от…
– Завтра?
– Смотрите – он снова бежит к нам! Да! В любой миг…
– На рассвете?
Зверь был уже в трехстах футах от них.
– Да!
– Вы согласны?
– Да, да… Смотрите!
– Вы обещаете?
– Да!
Дарнли без дальнейшего промедления поднял кинжал; три быстрых удара разрезали у плеча его кафтан, и он рывком оторвал и бросил на землю рукав, оставив руку обнаженной; после чего граф, в такой же степени ученый анатом, в какой и охотник-космополит, знакомый с привычками животных, погрузил лезвие в свою плоть в той точке плеча, где плечевая кость соединяется с лопаткой в головке суставного гнезда, затем рассек ближайшие сосуды, мышцы, надкостницу, а после, искусно повернув кинжал, вставил острие между хрящами сустава. Его действия были такими молниеносными и одновременно точными, что он почти закончил операцию, прежде чем Ровена, побледневшая от удивления, успела понять, что происходит; и только когда она заметила поток крови, хлынувший по сделавшейся белой руке, увидела его сурово сжатые челюсти, точно высеченные из гранита, она все поняла и издала крик, а зверь, нюхавший воздух едва ли в шестидесяти футах от них, громко заскулил…
Отбросив кинжал, Дарнли охватил свое левое запястье правой рукой, потянул и вырвал руку из плечевого сустава; он успел вовремя, ибо глаза зверя уже зажглись зелеными искрами хищного желания, – и когда леопард пополз, прижимаясь брюхом к земле, извиваясь и готовясь к прыжку, Дарнли взмахнул оторванной рукой, как палицей; рука полетела, крутясь, и упала прямо перед мордой зверя.
Леопард с мгновенным восторгом набросился на этот дар небес.
Подождав с минуту, пока леопард не приступил к трапезе, наклонив голову набок и грызя руку с зажмуренными глазами, Дарнли стал угрожающе наступать на него, топая ногами; леопард, схватив добычу и рыча, отступил вниз по аллее; Дарнли вновь двинулся вперед, и леопард от неожиданности снова попятился; так они добрались до конца аллеи, где зверь прыжком скрылся из виду.
Все это время Ровена стояла, окаменев; но увидев, что граф возвращается, она побежала с холма к нему; он прижимал к левому плечу кушак и был бледен, как кобылье молоко. В ее лице также не было ни кровинки – она понимала, что Дарнли выкупил ее жизнь ценой своей крови.
– Видите ли… я должен… оставить вас, – выдохнул он, дыша неровно и коротко, громко выпуская воздух из посиневших губ, но по-прежнему улыбаясь; и, произнеся «Я должен вас оставить», он небрежно глянул влево, как на прореху в одежде.
И она:
– О, Генри, умоляю! умоляю! врача…
– Это ни к чему, – задыхаясь, произнес он со всей бесстрастностью, доступной смертному. – Я остановился в «Отель д’Эспань», неподалеку… Я вернулся… чтобы сказать вам… до свидания.
– Ах, Генри! – промолвила она, положив руку на его правое плечо, а он, нежно глядя на нее, спросил:
– Вы наконец отдаете себя мне?
Умирающее «да» вздохом слетело с ее губ, почти соприкоснувшихся с его губами; но воля его подавила всякую ласку: она была отдана другому – «до смерти»; после смерти она будет принадлежать ему. Но не сейчас – он был человеком чести, нерушимой порядочности…
– Итак, на рассвете? – раздался его голос.
Вновь испытывая смятение, она отшатнулась.
– Когда наступит рассвет?
– Ровно в половине седьмого.
– Завтра?
– О да.
– Покинуть все… Ну хорошо, но скажем, в семь – или в восемь.
– Тогда в восемь. Возьмите это.
Отняв кушак от кровоточащей округлой раны, он извлек два пузырька и отдал ей один со словами:
– Три капли.
– В восемь?..
– В восемь… Arrivederci.
– Генри… Бога ради… – прошептала она ему вслед.
Но он ушел; и она, стоя там в ужасе, смотрела, как он, пошатываясь, спускался по склону, ибо он уже умирал, но был пьян, как от вина. Удары ее сердца падали медленно и громко, словно удары молота, и сердце это было расколото надвое: она должна была умереть – но жаждала жить.
С трех ночи до семи утра Ровена крепко спала.
Открыв глаза, она сразу ощутила на душе ужасающую тяжесть и задрожала. Но так же, как и в другие дни, Ровена вызвала звонком горничную; и, когда та вошла, она, лежа на кушетке в своем будуаре в бледно-оранжевом парчовом халате, негромко произнесла одно слово:
– Шоколад.
Выпив немного испанского шоколада, густого, как суп, она на время вручила себя в руки горничной, наслаждаясь роскошным скольжением гребня в волосах; затем она отпустила служанку. К тому времени до рокового часа, восьми, оставалось всего двадцать минут, утро же было ясное и теплое.
Она протянула руку, взяла пузырек, что дал ей граф, и несколько минут вертела его в пальцах; ее губы кривила гримаска нетерпения. Утро приносит размышления. Ночь – это иное царство и иной образ существования, и при ярком свете солнца мы глядим на ее лунные сияния и бури чувств с некоторым изумлением и вновь обретенным здравомыслием. Встав, Ровена на цыпочках подошла к окну и, разжав пальцы, позволила пузырьку упасть вниз, прислушавшись к хрупкому звону разбившегося стекла на камнях двора. Но теперь она побледнела, как сама смерть.
О, сносить его презрение – он жив, она жива! Это тоже было своего рода смертью, ибо она была соткана из его мыслей и мнений и долго жила и воспринимала свое бытие в его фантазии о ней; и так она стояла, и виновато ждала, прижимая руку к мчащемуся бешеным галопом сердцу, а драгоценные минуты уходили… В восемь он умрет – оставалось всего семь минут… Нужно написать ему, остановить его; но не следовало ли сделать это раньше? Не терять драгоценные мгновения? Дарнли сказал, что поселился в «Отель д’Эспань»; но она не знала, где находилась гостиница, и минуты незаметно уходили, пока она попусту теряла время – сердце осыпало ее тяжкими упреками, но мысль о его презрении – он жив, она жива – была такой же тяжкой. Она позвонила.
– Далеко ли «Отель д’Эспань»? – со злостью спросила она.
– В четверти мили, миледи, – ответила горничная.
– Торопитесь… снарядите верхового…
Она нацарапала и бросила горничной записку с единственной невыразительной строкой: «Прошу вас, ничего не делайте».
Оставшись одна, она заперлась, инстинктивно скрывая от посторонних глаз дрожь, неудержимо охватившую теперь все ее тело; затем упала на кушетку, с силой сомкнув веки.
Еще три минуты: тиканье маленьких часов, торопящихся пробить, сотрясало ее всю, и удары прозвучали, как грохот гибельного барабана: первый, второй… четвертый, пятый… и с роковым восьмым из груди ее вырвался, по правде сказать, вздох облегчения.
Прощай! Она не сомневалась, безусловно чувствовала, что он мертв, и в этот миг в ней смешались ненависть, отвращение и осознание того, что она навсегда от него избавилась.
Увы, слепой смертный! не сознающий, что вокруг всякого объекта – Мириады! что много бесконечней яви вещей то Бездонное, на коем они расцветают!
Гонец леди Ровены прибыл в «Отель д’Эспань» в десять минут девятого; вся гостиница ходила ходуном; он заторопился назад с известием, что лорда Дарнли обнаружили мертвым.
Каково же было его изумление, когда по возвращении он нашел палаццо своего господина в такой же растерянности, какую наблюдал в «Отель д’Эспань»! Потрясенные сотоварищи поведали ему, что ровно в три минуты девятого по всему крылу дворца, где располагались покои леди Ровены, разнесся крик, – крик столь ужасающий, что все похолодели до мозга костей, смешение сопрано и хрипа, дикое и жуткое… Но слуги, сбежавшиеся к покоям Ровены, нашли двери запертыми…
А ближе к вечеру весь Рим был удручен слухами о двух кончинах; печаль усиливала мрачная тайна, окутывавшая грустное событие: если в случае лорда Дарнли достаточно очевидной причиной смерти являлся сильнодействующий яд, распространенный среди кули Пуны[59]59
…Пуны – Пуна – город в Индии в современном штате Махараштра.
[Закрыть], в случае леди Ровены все лишь напрасно ломали головы. Правда, состояние слизистой оболочки ее горла, по словам докторов, позволяло заподозрить удушение; но этому выводу сопутствовал и другой, а именно – пальцы душителя (если то был душитель) отличались такой консистенцией, что не оставили ни малейшего следа или отпечатка на снежной белизне горла Ровены.
ВЕЛИКИЙ ЦАРЬ
Пер. А. Шермана
 ы не знакомы, – спросил дядя Квинтус, – с историей о Великом Царе? Впрочем, это само собой разумеется, потому что вы не умеете читать клинопись, а табличку ту расшифровали лишь я да еще один ученый.
ы не знакомы, – спросил дядя Квинтус, – с историей о Великом Царе? Впрочем, это само собой разумеется, потому что вы не умеете читать клинопись, а табличку ту расшифровали лишь я да еще один ученый.
Мой дядя Квинтус – неугомонный человек – недавно вернулся после сезона раскопок и исследований курганов и руин Нимруда и Хосабада, где находится сегодня деревня Хилла и где некогда стоял Вавилон. Ночь была ненастная, порывы ветра терзали гобелены и только мерцание огня освещало нас. Мы придвинулись к камину почтительным полукругом, а дядя Квинтус тем временем затянулся из маленькой трубочки дымом смеси табака и каннабиса, привезенной с Востока.
– Вы уже слышали, что этот царь сошел с ума от гордыни, – сказал он, – но даже это не дает представления о его безумных страстях. Нерон и Сарданапал были в сравнении с ним невинными ягнятами. И при всем том он был также трусом.
Царицу звали Никотрис; она была родом из Ионии, западное же ее имя было Мойра; у нее был прямой нос и выпуклый подбородок дочери греков. Связи между Востоком и Западом тогда еще не были достаточно тесными, и неизвестно, какими судьбами она оказалась в Вавилоне, но царь увидел ее и, из жадности к новизне, полюбил. И начался дивный спектакль: стали замечать, что женщина из Ионии приобрела совершенно исключительную власть над разумом Навуходоносора – халдейского царя – воплощения величия – небесного великолепия, явленного в одеждах плоти. И все изумлялись, когда Никотрис, ранее любимая, стала внушать страх — ведь она была самой кроткой из женщин, и могущественные сановники называли ее «учтивой» царицей Никотрис.
Изнурительная болезнь постигла царицу. Никотрис лежала, словно мертвая – холодное тело в саркофаге черного камня – и ее служанки, со стенаниями и жалобами, умащивали ей губы елеем, и всю ночь выли вокруг нее свою дикую нению[61]61
…нению – от лат. nenia, погребальная песнь.
[Закрыть] о душе, улетевшей из жизни, ударами в кимвалы и звоном десятиструнных псалтерионов аккомпанируя странному и пронзительному пению, и мелодия та звучала много дней. Но когда пришли стражи некрополя, сопровождаемые процессией рогатых протоиереев Астарты, чтобы перенести тело из дворца в гробницу, Никотрис, очнувшись от оцепенения, открыла голубые глаза и снова пробудилась к жизни. В истории еще не бывало случаев подобного одновременного пребывания на земле и в стране теней. С того дня царь перестал любить свою царицу.
Величественная фигура Никотрис, ее изможденность, бледность ее лица потрясали воображение царя. Она легко, как тень, проходила с диадемой на голове через пиршественный зал, где в полночь, налитый вином, царь пировал со своими министрами, и, скользя мимо, с мягкой улыбкой предостерегающе поднимала тонкий палец. Тогда шум пиршества на минуту смолкал, и царь хмурился.
Тайна «пробуждения из мертвых» обособила ее. Никто не мог сказать, какие мрачные тайны скрывались в ее сознании, принесенные из тех подземных бледных царств, куда забрел ее отважный дух, какие ужасные зрелища видели ее широко раскрытые глаза во время этого далекого путешествия! Была ли она действительно женщиной, одной из многих, или пришелицей из могилы? Царь больше не приближался к ней: нард, кассия и мускус не могли перебить могильный запах, который в его фантазиях витал вокруг царицы; он избегал спокойствия ее улыбки; он страшился прижимать к себе в объятиях ее иссохшую грудь; вначале благоговейный трепет, после лишь ненависть воцарялись в его сердце при мысли об учтивой царице Никотрис.
И все же Никотрис любила царя, хотя, зная все его слабости, его гордость, постоянно стремилась обуздать его. Часто она увлекала его, протестующего, от радостей вина к залитому лунным светом раю дворцового сада; они составляли разительный контраст: царица на голову возвышалась над тучным, смуглым, толстогубым царем с развевающейся бородой. Часто она заставляла его следовать за собой на верхнюю площадку огромного храма Бела – пирамидального, с семью террасами, символизирующими планеты, – где находилась обсерватория астрологов. И здесь, на этой высоте, когда темным утром Плеяды уходили в небеса, царица впадала в экстаз и рукой в алом облачении от края до края обводила звездные глубины, пророчествуя властью Всевышнего: она вопрошала тогда, кто заставил рогатого коня Астарты терзать землю и чья рука забросила на небосвод «извивающегося змея». И царь отворачивался от нее с отвращением.
Но ее воля была законом в суде. Когда, например, восстали оставшиеся жители Ниневии и было решено предать их всех казни, царица спокойно вошла в зал совета и, предостерегая, убедительно молила сохранить им жизнь, после чего царь бросил скипетр на пол и вышел из зала; министры молча вышли вслед за ним, в то время как Никотрис, оставшись одна, склонилась к большому черному бабуину со склонов горы Арарат, всюду сопровождавшему ее, и со своей безмятежной улыбкой произнесла: «Вот видишь, Пул, друг мой, как принимают эти люди мудрые увещевания!» В тот день, однако, непреклонность ее воли восторжествовала, и побежденных пощадили.
Однажды царь возвращался с охоты на льва на равнине Дура и, медленно проезжая в своей колеснице по лабиринту улиц Вавилона, вдруг увидел на углу девушку, чья красота покорила его душу. На ней была изящная обувь из барсучьей шкуры; она вся сверкала, как шахская дочь, льняными и шелковыми вышитыми одеждами – синими, пурпурными и ярко-красными – а на лбу ее весело играл лучами изумруд. Она приподняла вуаль и царь на миг узрел прекрасное видение ее лица; после девица повернулась и скрылась в темном проулке. Царь велел двум своим визирям следовать за нею; тем показалось, что она вошла в дом, куда они и вбежали; дом был сооружен в виде ступенчатой пирамиды, и на плоской крыше каждого яруса была разбита терраса с пальмами, кедрами, виноградом и прочими растениями знаменитых висячих садов. Вероятно, девушка спряталась в каком-нибудь укромном уголке этих садов; обитатели дома не знали ее; чиновники робко искали ее повсюду, но она исчезла. Они спрашивали себя: не была ли та девушка неким воздушным созданием, посланным судьбой, дабы омрачить разум царя – грозной вестницей богов? Нервное томление Навуходоносора, его боязнь смерти и зрелища смерти, его страх перед миром духов заразили всех придворных.
Сойдя с колесницы у дворцовой лестницы, царь спросил у виночерпия, поднесшего ему здесь же кубок с пряным вином:
– Где Никотрис, царица?
– Она лежит, больная, в женской половине, – отвечал Ваиезафа[62]62
Ваиезафа – в Библии имя одного из сыновей злокозненного Амана (Есф. 9:9).
[Закрыть].
В тот день царь много раз спрашивал о здоровье Никотрис. Им овладело нетерпение: умрет ли она или снова впадет в противоестественную жизнь в смерти – ненавистную смерть, не знающую распада, нечестивую жизнь, лишенную биения пульса? Не пробудится ли она вновь? Все это, подумал он, должно закончиться, и он положит этому конец. И царь вспомнил полное изящества и красоты видение на городской улице.
Лелея дьявольский замысел, он лично навестил Никотрис на рассвете. Гарем представлял собой ряд залов, окружавших один из дворцовых дворов, а сам дворец – низкое строение, размещенное на огромной платформе из глазурованного кирпича. Царь вошел в гарем через темный сводчатый проем, с обеих сторон которого стояли на часах крылатые херувимы, и нашел Никотрис полулежащей на ложе из слоновой кости в одной из «галерей»; с ней рядом что-то болтал единственный страж – старый бабуин, верный Пул. Царь долго смотрел на нее, побледнев; он поклялся в душе покончить с этим – своей преступной рукой. Но, хотя Никотрис была не в силах говорить, она словно прочитала его зловещие мысли, узнала о встрече на улице – и она подняла тонкий палец. Навуходоносор отвернулся.
В тот же день царя известили, что царица Никотрис, судя по всему, перешла в состояние смерти.
Прислужницы отнесли ее в открытом гробу черного мрамора в райский уголок, надеясь, что ветер с равнины, быть может, вновь оживит царицу. Рай занимал двор в углу платформы, на которой стоял дворец, и примыкал к городской стене; с двух сторон его окружал алебастровый парапет платформы, а с двух других колонны, соединенные шелковыми занавесями. Здесь журчало множество фонтанов, орошая крокусы, волчники и иксии; тыквы, дыни и смоковницы; мандрагоры и хенны. В одном углу стоял миниатюрный храм бога Нисроха[63]63
…Нисроха – Нисрох – упоминаемое в Библии ассирийское божество или идол, предположительно покровитель сельского хозяйства. В позднейшей христианской демонологии один из демонов.
[Закрыть], сработанный из черного дерева и охраняемый крылатыми быками. Перед ступенями его положили тело царицы.
В полночь царь покинул пиршество и вышел в сад. Его разум кипел храбростью от искристого иранского вина, он был полон ликования – наконец-то он навсегда освободился от ужасной Никотрис! Она должна быть немедленно погребена, сказал он; на сей раз никакого пробуждения! Он и не ведал, как близко лежало тело царицы.
И вдруг – перед ступенями храма – он увидел. Мраморная, она дремала под луной. Царь отскочил назад, застонав от боли. Его охватила паника, затем безумная ярость. Как случилось, что она здесь? Это была насмешка судьбы – и с глазами полосатой гиены Шинара, сверкающими на его лице, как у ирбиса за миг до прыжка, он пригнулся и, словно ирбис, извиваясь, начал подбираться к гробу, с жуткой осторожностью вытаскивая из-за пояса небольшой кинжал. Он ударил. Лишь единожды свершала рука человека столь гнусное бесчестие. Лезвие рассекло кожные покровы, связующие челюстные суставы. Рот разинулся. Царь увидел красное – и больше ничего не видел.
Он бежал, и рыдание застревало у него в горле; два глаза, вопрошающие, упрекающие, глядящие из-за колонны, встретились с его собственными. Он узнал глаза Пула, обезьяны, и кинулся вперед, чтобы ударом свалить зверя, но Пул исчез.
Ассирийцы устраивали гробницы вне городов, в пещерах, высеченных в скалах, или мавзолеях, сложенных из раскрашенных кирпичей, причем каждый гроб помещался в отдельной камере; сам же гроб был каменным, а крышка – из стекловидного материала, похожего на современное стекло. В согласии с этими обычаями – после того, как Никотрис нашли таинственным образом изуродованной и по крайней мере теперь, как полагали, бесспорно мертвой – добрая царица и была погребена на следующий день, седьмого числа месяца Адара; за гробом горестно следовал верный Пул.
Царь сбросил с себя змеиные кольца Никотрис. Но когда он направлялся той ночью в залы гарема, пересекая опустевшую спальню царицы, его постигло новое несчастье. Было темно; занавеси галерей были задернуты; он был один. В темноте – вздох. Вглядевшись, он заметил что-то во мраке. Царь повернулся и бросился бежать.
Сумятица беспокойного ума овладела царем в те дни. Он вскакивал со сна с обезумевшими глазами и мокрыми волосами, словно его преследовали призраки. Ночные шорохи, человеческие образы в складках драпировок пугали царя. Он возненавидел одиночество. Пиры и вино больше не приносили забвения.
Он тайно послал за жрицей-прорицательницей, служившей день и ночь в храме Астарты, и она, явившись в самый темный предрассветный час, встретилась с царем во внутренней галерее дворца. Истерзанный царь сидел на краю своего ложа; она тряслась перед ним, согнувшись от старости, с высохшим лицом, с крошечными яркими глазами, полными знания.
– Две вещи, – сказал он, – ты сделаешь или умрешь: ты прогонишь духа, который вселился в меня, и укажешь мне имя и место пребывания девушки, которую я видел на улице Вавилона в первый день Адара.
– Я могу сделать даже больше – я могу показать царю девицу, – сказала старая ведьма.
– Как?
– Сначала в видении. Если царь придет один в назначенное место завтра в полночь – я покажу ее царю.
– Я приду.
Сивилла ушла, спустившись по лестнице в стене. Царь встал и принялся расхаживать взад и вперед по галерее. Он глядел на освещенную луной бесконечность Вавилона, на пирамиды, храмы, городские стены – ушло бы три дня, чтобы их объехать. Отсюда он видел на равнине колоссальное золотое изваяние, которое сам установил. И он топнул ногой; он с вызовом воздел руку. «Не это ли великий Вавилон?..» – думал он.
Но, пока царь размышлял о величии Вавилона, сзади его кто-то обхватил руками, и чья-то рука легла ему на горло. Он упал в глубоком обмороке…
Весь следующий день он бродил по дворцу, не походя на царя, с всклокоченными волосами и клочьями пены в бороде, и взмах его руки погрузил кинжал в грудь виночерпия, подошедшего с кубком.
Когда наступила ночь, он сильнее нахмурил лоб. Он сидел на троне в приемном зале, жалко свесив голову к коленям. В полночь он отпустил всех и, оглядываясь по сторонам, тайком спустился по большой лестнице к юго-западным воротам дворца.
Здесь его ждала Зереш[64]64
…Зереш – имя жены Амана в библейской кн. Есфирь.
[Закрыть], колдунья. Они вместе шли по равнине, ветер свистел в пустыне, вдалеке грохотал гром. Но луна светила ярко.
Царь шагал быстро; Зереш едва поспевала за ним. Вдруг он остановился.








