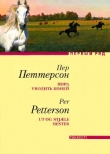Текст книги "Избранные дни"
Автор книги: Майкл Каннингем
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– Хорошо, идет, – сказал он.
Он достал из кармана деньги и отсчитал семьдесят пять центов. Они с мальчишкой помедлили, дожидаясь, кто сделает первый шаг, и наконец нашли способ обменять миску на монеты так, чтобы при этом ни тот, ни другой ни на секунду не оставался с пустыми руками. Лукас почувствовал, как шершавые пальцы мальчишки схватили деньги. Как у него в руках оказалась миска.
Опасаясь, как бы Лукас не передумал, мальчишка убежал. Лукас тревожно рассматривал миску. Вдруг она ненастоящая? Вдруг превратится в кусок дерева? Нет, она и вправду была красивая. У него в руках она, казалось, испускает неясное белое свечение. Вдоль ободка у нее шел загадочный рисунок – что-то вроде крошечных синих солнц, инистых дисков, от которых расходились лучики тоньше человеческого волоса.
То есть с миской все было хорошо. Но у него оставалось всего двадцать восемь центов – на это троим целую неделю не прокормиться. И тем не менее у него был подарок для Кэтрин. О еде и деньгах он подумает потом.
Он вернулся на Пятую улицу и стучался в дверь до тех пор, пока крохотная женщина не открыла ему. Она удивилась, что он опять явился, но на этот раз впустила его легче. Она снова предупредила, чтобы он не проказничал. Лукас обещал и поднялся по лестнице к квартире Кэтрин.
Кэтрин открыла ему. Его появление, судя по всему, ее не обрадовало, но и не расстроило. Он подумал, не изменился ли снова, не стал ли неузнаваемым для нее, хотя на нем была та же одежда и та же грязь, что и вчера.
– Далеко, в пустыни и горы, я ушел один на охоту, – выговорил он, прежде чем успел спохватиться.
– Привет, хороший мой, – сказала она. – Как твои дела?
Сегодня вечером у нее было новое выражение лица, утомленно-скучающее.
Из глубины квартиры до Лукаса донесся странный звук – смех с подвываниями, скорее всего издаваемый Олмой. Затем раздался мужской голос, низкий и решительный, произнесший что-то неразборчивое.
Кэтрин шагнула в переднюю и прикрыла за собой дверь.
– Лукас, – сказала она, – не надо было сюда приходить, сейчас не надо.
– Я тебе что-то принес, – ответил он и достал миску.
Он протянул ее Кэтрин на ладонях.
Она посмотрела на миску рассеянно, будто толком не понимала, что перед ней. Лукас не мог сказать ни слова – ни от себя, ни из книги. Он весь был миской и своими руками. Больше ничем.
Наконец она сказала:
– Ох, Лукас!
Он все еще не мог говорить. Он был всякой миской и всякими протягивающими ее руками.
– Ты не должен этого делать, – сказала она.
– Пожалуйста, – попросил он. Это он обязан был сказать.
– Откуда она у тебя?
– Купил. Для тебя. Мне сегодня заплатили.
Лукас не того ждал. Он представлял ее себе счастливой и полной благодарности.
Подавшись к нему, она сказала:
– Очень мило с твоей стороны. Но ты должен ее вернуть.
– Я не могу.
– Ты за нее заплатил? Правда?
Выходит, Кэтрин подозревала, что он ее украл. Ему оставалось лишь сказать ей правду.
– Я купил ее у одного человека на Бродвее. Он торговал с лотка.
Ему казалось, что лучше будет сказать, будто он купил миску с лотка. Ему казалось, это будет почти правдой.
– Мой хороший, для тебя это слишком дорого.
Он дрожал, полный ярости, смятения и слепой, отчаянной надежды. Получается, он стал еще несчастнее, поднеся ей подарок.
– Пожалуйста, – повторил он.
– Ты самый чудесный мальчик на свете. Правда. Но ты должен завтра же отнести миску тому человеку с Бродвея и взять назад свои деньги.
– Не могу, – сказал он.
– Хочешь, чтобы я сходила с тобой?
– Что такое человек? И что я? И что вы?
– Прошу тебя, Лукас. Я очень тронута, на самом деле. Но я не могу ее принять.
– Тот человек ушел.
– Завтра вернется.
– Не вернется. Это миска была у него последней. Он сказал, что уезжает.
– Бедняжка ты мой.
И как ему было выговорить то, что хотелось, – здесь, во мраке передней (где по-прежнему скалился козлиный череп), протягивая ей единственное отысканное им сокровище, которое она не хотела принять?
– Прядильщица ходит взад и вперед под жужжание большого колеса.
– Тсс, тише! Соседей переполошишь.
Лукас не рассчитывал, что его слова прозвучат так громко. Он не рассчитывал заговорить снова, еще громче:
– Невеста оправляет белое платье, минутная стрелка часов движется медленно.
– Пожалуйста, не надо. Зайди, нехорошо так декламировать в передней.
– Проститутка волочит шаль по земле, ее шляпка болтается сзади на пьяной прыщавой шее. Девять месяцев, что зреет плод, миновали, близятся изнеможенье и боли.
Кэтрин молчала. Она словно бы по-новому взглянула на него.
– Что ты сказал?
Он не знал. Как будто бы она никогда раньше не слышала, как он говорит словами книги.
– Прошу, Лукас, повтори, что ты сказал?
– Не помню.
– Ты говорил про прядильщицу. Ты говорил про невесту и… проститутку. Про женщину, которая собирается родить.
– Это была книга.
– Почему ты это сказал?
– Слова приходят ко мне сами собой. Я не знаю как.
Она наклонилась ближе к нему, вглядываясь ему в лицо, как если бы слова были написаны на нем, плохо, но все же различимые, читаемые с трудом.
Она сказала:
– Ты правда не знаешь, да? Ох, Лукас, я боюсь за тебя.
– Нет, пожалуйста, не бойся за меня. Тебе надо за себя бояться.
– У тебя есть дар, – сказала она притихшим голосом. – У тебя есть страшный дар, ты знаешь об этом?
Какое-то мгновение он думал, что Кэтрин говорит о миске. Та и вправду была страшным даром. Может, она вообще ничего не стоила, а он отдал за нее деньги, которые должен был потратить на еду. И Кэтрин от этой миски что за польза? Лукас так и стоял с протянутыми руками, кровь шумела у него в ушах. Он был и мальчиком, купившим миску, и мальчиком, который ее Лукасу продал. Тот, другой мальчик, наверно, уже возвращается домой к родным и несет им еду. Нет, Лукас мог быть только тем, кто купил миску. Он мог только стоять перед Кэтрин со своим страшным даром в руках.
Она нежно (он никогда в жизни не знал такой нежности) взяла у него из рук миску. Она теперь была у нее в руках.
– Ну что нам с тобой делать? – произнесла она. – Как жить твоим отцу с матерью?
– В этот час я с тобой говорю по секрету, этого я никому не сказал бы, тебе одной говорю.
– Не надо. Хватит.
– Мертвые поют для нас из машин. Они по-прежнему с нами.
– Перестань. Говори своими словами.
– Саймон хочет женится на тебе в стране мертвых. Он хочет, чтобы ты была там с ним.
Она в досаде тряхнула головой:
– Послушай меня. Замечательно, что тебе захотелось купить мне эту миску. Ты милый, щедрый мальчик. На эту ночь я оставлю миску у себя, а завтра продам ее и верну тебе деньги. И пожалуйста, не обижайся.
– Не доверяй своей швейной машине. Не надо слушать, что она тебе поет.
– Тсс, если мы каждый вечер будем так шуметь, нас сгонят с квартиры.
– Тебе кажется, что я жажду тебя удивить? Удивляет ли свет дневной? Или горихвостка, поющая в лесу спозаранку?
– Иди домой. А завтра заходи после работы.
– Я не могу уйти от тебя. Не хочу.
Она погладила его по голове:
– Увидимся завтра. Береги себя.
– Это тебе надо беречь себя.
Она или не услышала, что он сказал, или не поняла его слов. С печальной улыбкой она открыла дверь, а сама пошла в дом.
Лукас постоял под дверью, как собака, ждущая, чтобы ее впустили в дом. Ему не нравилось быть похожим на собаку, и немного спустя он пошел прочь. Попавшаяся по пути крошечная женщина спросила: «Ну что, не напроказничал?» Он ответил, что все в порядке, ничего он не натворил. А ведь на самом деле натворил? Была миска и потраченные на нее деньги. Были и другие преступления.
Он пошел домой, потому что у него теперь были деньги (кое-что еще оставалось), а отцу и матери нужно было есть. Он купил колбасы в мясной лавке и картошки у торговавшей на улице старушки.
В квартире все было как всегда. Мать спала за закрытой дверью. Отец сидел за столом, потому что было уже пора. Он прикладывался губами к машине и вбирал в легкие призрачную песню Саймона.
– Привет, – сказал Лукас.
Его голос странно прозвучал в тишине комнаты – как громкий шелест сухих бобов в пустой кастрюле.
– Привет, – откликнулся отец.
Не изменился немного голос отца от того, что его легкие наполнялись Саймоном? Не исключено. Лукас не был в этом до конца уверен. Или, с Саймоном внутри, отец превращался в машину?
Лукас разогрел колбасу и сварил картошку. Дал поесть отцу, оставшееся отнес матери, которая спала – беспокойно, но спала. Он решил, что лучше ее не тревожить, и оставил еду на прикроватном столике, чтобы она могла поесть, проснувшись.
Когда отец доел, Лукас сказал:
– Отец, пора спать.
Отец кивнул, подышал, снова кивнул. Он встал, прихватив с собой свою машину.
Лукас проводил отца до порога спальни. Мать что-то бормотала во сне. Отец сказал:
– Она все бредит.
– Она спит. Для нее так лучше.
– Она не спит. Она бредит.
– Тсс. Ложись спать. Спокойной ночи, отец.
Отец растворился в темноте. Ножки машины проскребли дощатый пол следом за ним.
Я хотел бы передать ее невнятную речь об умерших юношах и девушках,
А также о стариках, и старухах, и о младенцах, только что оторванных от матерей.
Что, по-вашему, сталось со стариками и юношами?
И во что обратились теперь дети и женщины?
Лукас прочитал эти строки, погасил лампу и уснул.
Ему снилось, что он в каком-то зале, огромном и наполненном лязгом. Это была фабрика и не фабрика. В зале царила серебристая полутьма, совсем как на фабрике, но там не было ничего, кроме шума, оглушительного шума, не того, что производили машины, хотя и похожего. Лукас понимал, что машины исчезли, но вскоре вернутся на свои места, как стадо возвращается в хлев. Он должен был подождать. Подождать, пока они вернутся. Он посмотрел вверх – что-то велело ему посмотреть вверх – и увидел, что потолок усеян звездами. Там были Пегас, Орион, Плеяды. Он понимал, что эти звезды – тоже машины. И некуда было деться из этого мира, из этого зала. Звезды двигались механически, что-то спускалось из зенита – тень на фоне ночного неба…
Он повернулся и посмотрел прямо в чье-то лицо. Глаза – темные омуты. Кожа на лице туго обтягивает череп. Оно говорило: «Мальчик мой, мальчик мой».
К нему прижималось лицо матери. Он видел во сне мать. Он попытался что-нибудь сказать, но ему не удалось.
Лицо заговорило снова:
– Мой бедный мальчик что с тобой сделалось…
Он не спал. Мать склонилась над его кроватью, придвинула лицо вплотную к его лицу. Он чувствовал ее дыхание на своих губах.
– Со мной все хорошо, – сказал он. – Ничего со мной не сделалось.
Прижимая к себе, как младенца, она держала музыкальную шкатулку. Она сказала:
– Бедное дитя.
– Тебе это снится, – сказал ей Лукас.
– Мой бедный, бедный мальчик. Один, а потом другой и еще другой.
– Давай я отведу тебя обратно в постель.
– Во всем виновата жадность. Жадность и слабость.
– Пошли. Пошли обратно в постель.
Лукас встал и взял ее под руку. Она послушалась или просто не стала сопротивляться. Он вывел ее из спальни и под взглядами лиц со стены провел через гостиную. Мать еле волочила ноги. Он вошел вместе с ней в родительскую спальню. Отец сипел и задыхался во сне.
Лукас уложил мать в постель, накрыл одеялом. Ее волосы рассыпались по подушке. В темном ореоле волос лицо казалось неправдоподобно маленьким, не больше Лукасова кулака.
Она сказала:
– Я должна была умереть вместе с ним.
Лукас подумал – невольно – о миске, которую купил. Всего на девятнадцать центов им предстояло прожить до следующей пятницы. Этого не хватит, чтобы целую неделю покупать еду.
Он сказал:
– Все в порядке. Я с тобой.
– Ах, в порядке. Если б только все были в безопасности…
– Теперь тебе надо поспать.
– По-твоему, такой порядок?
– Тсс. Лучше помолчи.
Он сел рядом с ней. Он не понимал, что будет правильнее – погладить ее руку или не делать этого. Чтобы успокоиться, он начал слегка раскачиваться. Не было ничего страшнее этого. He было ничего кошмарнее, чем вот так сидеть на матрасе родительской кровати и размышлять, коснуться или не коснуться материнской руки.
Он знал, что музыкальную шкатулку надо бы унести прочь. Но что делать с другим обиталищем Саймона – с отцовской дыхательной машиной? Машина была необходима отцу. Или, может, нет?
Лукас не знал, зависит ли от машины жизнь отца, или просто ему с ней легче. Лукасу об этом не сказали. Можно было допустить, и даже с большой долей вероятности, что врученный задаром дыхательный аппарат был орудием убийства. Вдруг, притворяясь, будто помогает отцу, он на самом деле высасывает из него жизнь? Разве хоть одна машина может желать людям добра?
Лукас встал, как только можно тише подошел к отцовской стороне кровати и взял дыхательную машину. Металлический штатив был холодным на ощупь. Песня из машины звучала так же. Машина пела свою песню так же монотонно и безошибочно узнаваемо, как скребется за обоями мышь. Боязливо, как если бы держал эту самую мышь за хвост, он пронес машину через гостиную в прихожую. Достаточно ли это далеко? Он надеялся, что да. Во мраке прихожей машину было так же плохо видно, как и козлиный череп. Пузырь ее мехов, размером и формой походивший на репу, серел, испуская подобие света. Трубка и мундштук безвольно поникли.
Лукас оставит ее здесь на всю ночь. А утром, когда посмотрит, как отец без нее обходится, отнесет обратно.
Он пошел в гостиную за музыкальной шкатулкой. Ее он тоже отнес в прихожую и поставил рядом с отцовской машиной, потом вернулся в гостиную и запер дверь. Проверил, крепко ли она заперта.
Лукаса снова одолел сон и принес с собой сновидения, но, проснувшись утром, он помнил только, что там были какие-то дети, швейная игла и женщина, которая стояла вдалеке и что-то кричала через реку.
Отец еще не вставал. Лукас подошел к двери родительской спальни и осторожно ее открыл. Внутри было тише, чем обычно. Мать что-то бормотала во сне, а отец, обыкновенно громко хрипевший и кашлявший, не издавал никаких звуков.
Наверно, ему нужна машина. Надо скорее принести ее отцу.
Лукас пошел за машиной, но в прихожей ее не было. Дыхательная машина и музыкальная шкатулка исчезли.
Он замер в недоумении. Может, ему приснилось, что он их сюда относил? Он обыскал прихожую, надеясь, что два предмета то где-то рядом, то подальше. Быть может, он потом ночью встал и в беспамятстве переставил их? Нет. Машины и шкатулки нигде не было. В голове у него мелькнуло, что механизмы могли быть живее, чем ему представлялось, что они умели ходить. Найдут они обратную дорогу в родительскую спальню или нет? Пристроится ли музыкальная шкатулка на столик матери под бочок, напевая песню, слушать которую той было невыносимо?
Он взял себя в руки. Он был взволнован, но головы не терял. Кто-то взял машину и музыкальную шкатулку, как это бывает. Вещи, хоть сколько-нибудь ценные, нельзя оставлять без присмотра. Он-то думал, что ночью их никто не тронет, но их взяли и унесли. Кто-то попытается продать их, как тот мальчишка продал ему фарфоровую миску.
Лукас вернулся в гостиную. Как об этом сказать отцу, чтобы тот его понял? В голову ничего не приходило, и он ничего не сказал. Он оставил отца с матерью вместе лежать в спальне. Лукас надеялся, что к его возвращению с работы они придут в себя.
И вот она – его собственная машина. Он стоял возле нее в огромном цеху. Дэн, Уилл и Том были у своих машин, работая как всегда – с упорной, невозмутимой сосредоточенностью фермеров.
Лукас прошептал:
– Ты повел себя недостойно, и должен это признать. Ты был вероломным. Мне жаль, что ты умер, но ты не можешь зазвать к себе Кэтрин. Ты должен перестать петь матери о своих печалях.
Но машина продолжала петь. Она пела то же и по-прежнему. Лукас все еще не мог разобрать слов, но знал, что поет она о любви и страстном желании. Саймон всегда хотел большего, чем ему по праву полагалось. Почему мертвым он должен был стать иным, чем в жизни?
Лукас отправил в машину пластину. Машина привычно втянула ее в себя. Оставила отпечатки – четыре поперек, шесть вдоль. Относя первую за день пластину Дэну, он подумал, что машины, наверное, разговаривают друг с другом по ночам, когда люди уходят и оставляют их одних. Он легко представлял себе, как машины перешептываются в темных цехах, заводят песни о своих избранниках, восхваляют их, напевают друг другу: «Он – мой, он – моя единственная любовь, как страстно я жду того дня, когда он станет целиком моим». Лукас подумал, что надо бы предупредить Дэна, что надо предупредить и Тома с Уиллом. Но как им об этом сказать?
Дэн склонился над своей машиной. Он сказал:
– Доброе утро, Лукас.
– Доброе утро, сэр.
Бросив пластину в Дэнов ящик, Лукас помедлил. Дэн был самым крупным в цеху. Он был грузным и сутулым. Свои необъятные покатые плечи он нес как тяжкий груз; с плеч, отчасти утопая в них, глубоко посаженными голубыми глазами смотрела голова. Лукас ничего не знал о его жизни, но мог ее себе вообразить. У него есть жена и дети. С одной стороны его гостиной дверь в одну спальню, а с другой – в другую.
Дэн поднял голову от машины, взглянул на Лукаса и спросил:
– Что-нибудь не так?
– Нет, сэр.
Дэн вынул из кармана носовой платок и вытер пот с блестящего красного купола своего лба.
На правой руке у него не хватало большого и указательного пальцев. Раньше Лукас этого не замечал.
Он сказал:
– Извините, сэр. Что случилось с вашими пальцами?
Дэн опустил руку с платком и посмотрел на нее так, как если бы ожидал увидеть нечто удивительное.
– Потерял, – ответил он.
– Как вы их потеряли?
– Несчастный случай.
– Здесь? На фабрике?
Дэн помолчал – словно раздумывая, стоит ли раскрывать тайну.
– На лесопилке, – сказал он.
– До фабрики вы работали на лесопилке?
– Верно.
Дэн снова вытер лоб и снова принялся за работу. Прохлаждаться, вести пустые разговоры на фабрике не разрешалось. Лукас возвратился к своей машине и загрузил в нее новую пластину.
Пальцы Дэна съела другая машина. Та машина, распиливающая бревна, содержала в себе частичку Дэнова духа, тогда как большая часть Дэна продолжала жить. Знала ли об этом его новая машина? Была ли ей слышна доносившаяся с далекой лесопилки песня другой машины о том, как счастлива она обладать пальцами Дэна и как печалит ее, что он не достался ей целиком, как она желает, чтобы новой машине повезло больше?
Кэтрин сейчас, наверное, шила. Лукас не представлял себе, каким образом швейная машина способна ее забрать. У нее была снующая вверх-вниз иголка. Она могла уколоть – это было ей под силу, – но никак не нанести серьезный вред.
Но, должно быть, там, где работала Кэтрин, были и другие машины, машины, которые умели покалечить. Он сделал усилие, чтобы их себе вообразить. Он увидел перед собой прессы и барабаны, через которые пропускают готовое платье. Подходит ли она близко к этим машинам? Может, и подходит. Откуда ему знать? Ей могли поручить заправлять корсажи и блузки в большой агрегат. Агрегат представлялся ему размерами с экипаж, белым, а не черным, с пастью, в которую пихали только что сшитые платья и блузки, чтобы он отглаживал и складывал их, извергая целые облака пара.
Наконец прозвучал гудок Лукас подождал, пока мимо пройдет Джек Уолш и скажет: «Порядок». Потом выключил машину и заторопился прочь. Он бежал по Ривингтон-стрит, прямо по мостовой, лавируя между подводами и экипажами.
Когда он добежал до здания компании «Маннахэтта», оттуда уже вытекала река девушек и женщин, и, судя по их виду, в тот день никаких несчастий не произошло. Он принялся разыскивать в толпе Кэтрин. Несколько раз он обманывался – они все были такими похожими в этих голубых платьях. Они проходили мимо по двое и по трое, негромко переговариваясь, потягиваясь, сжимая и разжимая кисти рук, и в конце концов он набрался смелости спросить одну из них, а затем и другую, не видели ли они Кэтрин Фицхью. Ни одна, ни другая такой не знали. В швейном цеху трудились сотни девушек, и знакомы с ней были только те немногие, которые работали по соседству. Издалека Лукас заметил в толпе Эмили Хофстедлер, пухлую и беззаботную, непристойно над чем-то смеющуюся с подругой, но заговаривать с ней не стал. Он не будет с ней разговаривать ни о чем, а особенно о Кэтрин. Он спросил про Кэтрин еще у одной девушки, потом еще у одной. Некоторые в ответ улыбались и пожимали плечами, некоторые хмурились, а одна молоденькая темноволосая спросила: «А я не подойду?» Ее тут же со смехом утащили за собой подружки.
И тут он увидел ее. С ней была другая женщина, постарше, которая зачесала назад свои жидкие седые волосы и шла вытянув голову вперед, будто ее лицо спешило больше, чем остальное тело.
Лукас подошел к ним поближе и позвал:
– Кэтрин!
– Привет, Лукас, – сказала она, с безукоризненным терпением глядя на него.
– Как твои дела? Хорошо?
– Вполне. А твои?
Ну как на это ответить?
– Отчего бы я стал молиться? И благоговеть и обрядничать?
– Лукас, познакомься, это моя подруга Кейт.
Пожилая женщина наклонила голову.
– Кейт, это Лукас. Он брат Саймона.
– Сочувствую твоей утрате, – сказала Кейт.
– Спасибо, мэм.
– Ты хотел проводить меня до дому? – спросила Кэтрин.
– Да, если можно. – Он с трудом удержался, чтобы не схватить ее за руку.
– Кейт, похоже, у меня появился провожатый. Так что до завтра.
Пожилая женщина опять наклонила голову.
– До свидания, – сказала она. Ее лицо двинулось вдоль по улице, за ним последовало и тело.
Кэтрин встала подбоченившись.
– Лукас, хороший ты мой, – проговорила она.
– У тебя все в порядке.
– Как видишь.
– Ты позволишь пройтись с тобой?
– Я должна продать миску.
– Где она.
– У меня в сумочке.
– Не продавай миску. Оставь себе. Пожалуйста.
– Если хочешь, пойдем со мной.
Она пошла по улице, он пристроился сбоку.
Как ему было сказать ей? Как было сделать так, чтобы она поняла?
– Кэтрин, машины опасны, – сказал он.
– Могут быть опасными. Поэтому с ними надо быть осторожным.
– Опасны, даже если быть острожным.
– Но ведь быть осторожными – это самое большое из того, что мы можем сделать, правда?
– Ты больше не должна ходить на работу.
– В таком случае, мой дорогой, куда прикажешь мне ходить?
– Ты ведь можешь шить дома, да? Можешь брать заказы.
– А ты знаешь, сколько за них платят?
Он не знал, сколько за что платят, кроме его собственной работы, да и это-то узнал, только когда ему заплатили. Он шагал рядом с ней. Они вместе прошли через Вашингтон-сквер. Он нечасто здесь оказывался. Площадь лежала за пределами его мира; она не была предназначена для мальчишек вроде него. Вашингтон-сквер, как и Бродвей, была частью города в городе. Она лелеяла свой зеленый и пестрый покой, обрамленный дальними огнями, была местом, где прогуливались мужчины и женщины в платьях и пальто, где хромой нищий играл на флейте: где листья деревьев казались резным узором на фоне неба и пожилая женщина продавала с деревянной тележки мороженое; где ребенок размахивал алым флажком, который бился и развевался на ветру вразнобой с мелодией флейты, а флейтист в ответ флажку выставлял кончик рыжеватой бороды. Лукас пытался не отвлекаться на красоту площади. Он пытался оставаться самим собой.
– Куда мы идем? – спросил он у Кэтрин.
– К одному человеку, которого я знаю.
Миновав площадь, они подошли к магазину на Восьмой улице. Это скромное заведение помещалось в полуподвале и называлось «Гайя Импориум». В витрине магазина торчали на шестах две шляпки. Одна розовая атласная, другая – из жесткой черной парчи. Под ними на подушечках выцветшего синего бархата были выложены браслеты и серьги, они поблескивали, отважно сигнализируя о своем поражении.
Кэтрин сказала:
– Подожди здесь.
– А с тобой нельзя?
– Нет. Лучше я пойду одна.
– Кэтрин.
– Да?
– Пожалуйста, можно мне сначала взглянуть на миску?
– Конечно можно.
Кэтрин открыла сумочку и достала миску. Она казалась очень яркой в вечернем свете, противоестественно яркой. Она могла бы быть вырезанной из жемчуга. Вытянувшиеся по кромке странные символы – голубые завитки и кружки – притягивали к себе взгляд, подобно языку, настаивающему на своей непреложности в мире, который утратил умение понимать изложенное на нем послание.
– Ты не должна ее продавать.
Лукаса охватило минутное желание выхватить миску у нее из рук, прижать к своей груди. На мгновение ему показалось, что если будет утрачена миска, потеряется что-то еще, что-то такое, в чем они оба с Кэтрин нуждались, но чего никто им больше не предложит.
Она сказала:
– Продать-то ее я как раз и должна. Я быстро.
Она зашла в магазин. Лукас ждал. Что еще ему оставалось делать? Он стоял перед витриной, наблюдая, безмолвную жизнь шляпок и украшений.
И вот Кэтрин вышла наружу. Она устало поднялась по ступеням. Лукас вспомнил об усталости, одолевавшей его мать. Подумал, станет ли ей лучше теперь, когда музыкальной шкатулки больше нет.
Кэтрин сказала:
– Пятьдесят центов. Больше она мне не давала.
Она протянула ему монеты. Он хотел этих денег, они были ему необходимы, но он не мог заставить себя их взять. Он стоял молча, опустив руки.
Кэтрин сказала:
– Ты, наверно, заплатил больше. Но это все, что мне за нее дали.
Он не мог ни пошевелиться, ни сказать хоть слово.
– Не ругай меня, – сказала она. – Мне там несладко пришлось. Не люблю, чтобы со мой обращались как с воровкой.
И это из-за него. Он заставил ее унижаться. Он представил себе Гайю из импориума. Она, подумал он, должна быть невероятно тощей, с кожей цвета свечного воска. Она, он знал это, взяла миску в руки и разглядывала ее алчно и презрительно. Она назвала свою цену непререкаемым тоном человека, привыкшего покупать и продавать краденое.
Лукас сказал:
– Прядильщица ходит взад и вперед под жужжание большого колеса.
Он не отдавал себе отчета, громко или тихо он это сказал.
Кэтрин замялась.
– Ты никогда раньше не повторялся, – сказала она.
Откуда ей было об этом знать? Она что, слушала его, слушала всякий раз, когда он говорил как книга? Если да, то она и виду не подавала.
Он больше не мог сдерживать себя:
– Невеста оправляет белое платье, минутная стрелка часов движется медленно.
Кэтрин моргнула. У нее заблестели глаза.
Она спросила:
– О чем тебе рассказывал Саймон?
О чем ему рассказывал Саймон? Ни о чем. Он пел все те же старые песни, дразнил Лукаса малявкой, тайком ходил к Эмили.
Лукас ответил:
– Девять месяцев прошло в родильной палате.
Кэтрин уронила деньги к ногам Лукаса. Одна монетка прокатилась и легла у самого носка его ботинка.
– Подними и отнеси домой, – сказала она. – Мое терпение скоро лопнет.
– Проститутка волочит шаль по земле, ее шляпка болтается сзади на пьяной прыщавой шее.
Кэтрин заплакала. Плач охватил ее подобно судороге. Какое-то мгновение она стояла, глядя перед собой, одна-единственная слеза прокладывала себе извилистый путь по ее щеке, а в следующее мгновение лицо ее сморщилось и слезы потекли ручьем. Она закрыла лицо руками.
Он не мог сообразить, что сделать и что сказать. Он тихонько дотронулся пальцами до ее плеча. Она порывисто отстранилась.
– Оставь меня, Лукас, – всхлипнула она. – Пожалуйста, оставь меня в покое.
Но оставлять ее рыдающей на Восьмой улице, в толпе торопливых прохожих, было нельзя. Он сказал:
– Пошли со мной. Тебе надо присесть.
Как ни странно, она послушалась. Плач лишил ее воли. Превратившись в рыдающее воплощение скорби, она последовала за ним, и он повел ее обратно к Вашингтон-сквер, где флажок ребенка бился на фоне неба, а флейтист лихо наигрывал такт за тактом.
Лукас нашел свободную скамейку и сел. Она опустилась рядом. Он робко обнял ее трясущиеся плечи. Она не стала этому противиться.
Он сказал:
– Прости. Я не хотел тебя расстраивать. Я сам не понимаю, как это вырвалось.
Рыдания слегка поутихли. Она подняла голову. Лицо у нее было красным и измученным. Он никогда ее такой не видел.
– Хочешь, я тебе кое-что скажу? – спросила она. – Хочешь?
– Да. Хочу.
– У меня будет ребенок.
И снова его ошарашило нечто, что было правдой, но правдой быть не могло. У нее же нет мужа.
Он сказал:
– Понимаю. – Наверно, именно это он и должен был сказать.
– Меня выгонят с работы. Через месяц или около того я уже не смогу скрывать своего живота.
– А почему живот может помешать тебе ходить на работу?
– Ничего-то ты не знаешь, еще совсем дитя. И чего тебе вообще об этом рассказывать?
Она решила было встать, но опустилась обратно на скамейку. Лукас сказал:
– Я хочу, чтобы ты рассказала. Я постараюсь понять.
Она опять не выдержала и разрыдалась. Лукас опять обнял ее за безудержно трясущиеся плечи. Прохожие смотрели на них и деликатно отводили взгляды, чтобы Лукасу с Кэтрин было не так стыдно. Прохожие были замысловато одеты, на обуви золотые пряжки, часики на цепочках. На Лукаса и Кэтрин пошла материя погрубее. Задержись они на скамейке, обязательно появится полисмен и прогонит их.
Наконец Кэтрин сумела выговорить:
– Я никому об этом не сказала. Нечестно было рассказывать это тебе.
– Честно, – сказал он. – Честно все, что ты делаешь.
Кэтрин взяла себя в руки. Она перестала плакать, но выражение ее лица изменилось. Ее захватило какое-то другое чувство, в котором мешались ярость и страдание.
Она сказала:
– Хорошо. Хочешь, я тебя кое-чему научу?
– Очень хочу.
Ее голос был подобен проволоке, таким же тонким и жестким.
Она сказала:
– Я говорила твоему брату, что он должен на мне жениться. Я не знаю, его это ребенок или нет. Возможно, не его. Но Саймон был согласен. Хочешь узнать кое-что еще?
– Да, – ответил Лукас.
– У меня есть одно подозрение. Он погиб, потому что был расстроен. Он был рассеянным, потому что думал о нашей свадьбе, и поэтому позволил случиться тому, что случилось. Подумай сам. Он проработал на фабрике много лет. Разве ж он не знал, как сделать, чтобы машина не схватила тебя за рукав?
Лукас сказал:
– Саймон любил тебя.
– Он тебе об этом говорил?
– Да, – сказал Лукас, хотя Саймон ему никогда ничего подобного не говорил. Как он мог ее не любить? Не все надо объяснять словами.
Кэтрин сказала:
– Я шлюха, Лукас. Я заставляла твоего брата жениться на мне.
– Саймон любил тебя, – повторил он. Он не мог себе представить, чтобы это было не так.
Кэтрин сказала:
– Я рожу ребенка. Это все, что я могу сделать для бедного Саймона.
Лукас не знал, что на это ответить. А что ей еще оставалось, кроме как родить ребенка?
Она сказала с расстановкой:
– Я говорила ему, что он сам виноват и теперь надо все исправить. Я говорила, что он полюбит меня, со временем. И что из того? Я шлюха и лгунья и скоро рожу незаконного ребенка твоего брата. Ты не должен больше со мной видеться. Не должен покупать мне подарки на деньги, которые тебе нужны, чтобы купить еды.
Она переменилась в лице. Оно стало старше, кожа на нем обвисла. Она превратилась в свое собственное изваяние, в свой собственный портрет. Она уже была не той, что прежде.