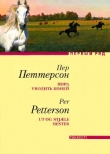Текст книги "Избранные дни"
Автор книги: Майкл Каннингем
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– Нет, сэр, – сказал Лукас. – Вроде нету.
– Отлично. Тогда попробуй сам.
Лукас взял из контейнера новую пластину. Она оказалась тяжелее, чем он ожидал, но все-таки не такой тяжелой, чтобы с ней не управиться. Он пристроил ее на ремне, аккуратно подвинул к белой полоске и закрепил зажимы.
– Все правильно? – спросил он.
– А сам как думаешь?
Лукас проверил зажимы.
– Теперь потянуть рычаг? – спросил он.
– Да, тяни рычаг.
Лукас потянул за первый рычаг, который запустил колесо. Его охватило ликование. Он потянул второй рычаг, ремень поехал. К его облегчению, зажимы держали пластину прочно.
– Порядок, – сказал Джек.
Лукас смотрел, как зубья вгрызаются в железо. Так и Саймона затянуло под колесо – сначала руку, а следом и все остальное. Машина перемолола его своими зубами с той же невозмутимостью, с какой обрабатывает железо. Она, наверное, подумала – если только машины способны думать, – что это была просто очередная пластина. Перемолов Саймона, она принялась терпеливо ждать следующей пластины.
– Теперь, – сказал Джек, – пойдем посмотрим, что получилось.
Лукас следом за ним обогнул машину и увидел дело своих рук железную пластину с квадратными углублениями: четыре поперек и шесть вдоль.
– По-твоему, все как надо?
Лукас внимательнее присмотрелся к пластине. В полумраке ее было трудно как следует разглядеть. Он пощупал каждое углубление и сказал:
– По-моему, да.
– Уверен?
– Да.
– Хорошо. И что ты теперь делаешь?
– Несу ее Дэну Хини.
– Верно.
Лукас взял отштампованную пластину и понес ее к машине Дэна Хини. Дэн, с носом картошкой и львиной гривой, кивнул. Немного подумав, Лукас аккуратно положил пластину в ящик позади Дэновой машины.
– Отлично, – сказал Джек.
Лукас угодил ему.
– Давай еще одну.
– Сэр, – спросил Лукас, – что это я такое делаю?
– Кожуха, – сказал Джек. – А теперь сделай при мне еще один.
– Хорошо, сэр.
Лукас сделал еще один. Джек сказал, что этот тоже годится, и пошел по своим делам.
Прошло время. Лукас не мог сказать, сколько именно. Часов в цеху не было. Дневного света тоже. Он клал пластину на ремень, выравнивал ее, отправлял под колесо и проверял получившиеся отпечатки. Четыре поперек, шесть вдоль. Он попытался сразу класть пластину верхним краем как можно ближе к белой полоске, и теперь хватало легкого движения, чтобы пристроить ее ровно на место. Сначала он каждый раз надеялся, что отпечатки зубьев получатся идеальными, но по прошествии времени – нескольких часов, как ему показалось, – стал предвкушать огрехи: сглаженный уголок или легкий перекос, незаметный взгляду менее прилежному, чем его собственный. Но только одну пластину он посчитал испорченной, и то не наверняка. Один квадратик, показалось ему, отпечатался на ней не так глубоко, как остальные, но он не был в этом до конца уверен. И тем не менее он взял пластину и гордо отнес ее Уиллу на переплавку, после чего ощутил себя сильным и опытным.
Когда ему наконец надоело пытаться сразу пристраивать пластины по линии и стало безразлично, чего же он все-таки ищет в готовой детали – недостатков или их отсутствия, – он попытался думать о посторонних вещах. Он пытался думать о Кэтрин, о своих матери и отце. Проснулась ли мать? В себе ли она, способна ли готовить и препираться с отцом? Он попытался думать о Саймоне. Работа, однако, ему этого не позволяла. Работа требовала внимания. Он впал в состояние сонной одури, погруженности в одну-единственную задачу, когда мозг был занят только тем, чем ему надлежало быть занятым, и ни в коем случае ничем иным. Выровнял, зажал, потянул, снова потянул, проверил.
Вскоре после обеда, когда он позволил себе отвлечься, его рукав попал под зажим. Машина тянула нежно и настойчиво, как если бы его дергал за рукав ребенок. Он уже приступил к следующему зажиму, когда увидел, что рукав попал в зубастую пасть предыдущего, прочно застрял между зажимом и пластиной. Лукас инстинктивно дернул рукой, но зажим уверенно держал ткань. Он вцепился в нее увлеченно и страстно, как крыса в свиной хрящ. У Лукаса даже мелькнула мысль, как хорошо построена машина – челюсти зажимов были сильными и надежными. Он снова потянул. Зажим не отпускал. Только когда он изловчился и неуклюже, левой рукой, повернул болт, зажим отступился, ослабил хватку и выпустил рукав. На ткани остался рифленый отпечаток его челюсти.
Лукас с немым удивлением разглядывал рукав. Так вот как оно бывает. Ты позволяешь себе ослабить внимание, задумываешься о посторонних вещах, и тогда зажим хватает все, что ему подвернется. Так уж они устроены. Лукас виновато осмотрелся вокруг, гадая, заметили что-нибудь или нет Том, Уилл или Дэн. Они ничего не заметили. Дэн ударял по своей машине гаечным ключом. Он ударял сильно, но беззлобно сбоку по коробке, в которую был заключен ее механизм. Удары ключа по металлу напоминали звон церковного колокола.
Лукас до локтя закатал рукава. И продолжил работу.
По мере того как он укладывал на ремень пластины, ему все больше казалось, что машины одушевлены, не совсем бездушны. Они – фрагмент стройной череды: машины, потом трава и деревья, потом лошади и собаки, потом люди. Что, если, думал он, машина по-своему, спокойно и неосознанно, любила Саймона? Что, если все машины на фабрике, все эти печи, крюки и ремни втихомолку восхищаются приставленными к ним рабочими, как лошади восхищаются своими хозяевами? Что, если все они с невероятным терпением ждут не дождутся, когда люди забудутся, потеряют осторожность и позволят машинам с решимостью влюбленного взять их за руки и затянуть в себя?
Он взял из контейнера очередную пластину, выровнял, закрепил зажимы и отправил ее под зубья колеса.
Где же Джек? Разве ему не хочется проверить, как Лукас справляется с порученной работой? Когда под зубья отправилась следующая пластина, Лукас сказал:
– Еще, и еще, и еще, это вечное стремление вселенной рождать и рождать.
Джек появился только под конец рабочего дня. Он взглянул на Лукаса, взглянул на машину, кивнул, затем снова взглянул на Лукаса.
– У тебя хорошо получается, – сказал он.
– Спасибо, сэр.
– Значит, завтра приходишь.
– Да, сэр. Спасибо, сэр.
Лукас протянул Джеку руку и с удивлением заметил, что она дрожит. Он знал, что из пальцев у него шла кровь, но дрожи не замечал. И все равно Джек пожал ему руку. Его, похоже, не смущали ни дрожь, ни кровь.
– Расточающая щедрые ласки, ты отдалась мне со страстью – и я отвечаю любовью! – сказал Лукас.
Джек опешил. Широкий лоб прорезали три морщины.
– Что такое?
– Доброй вам ночи, – сказал Лукас.
– Доброй ночи, – ответил Джек с сомнением в голосе.
Лукас заторопился прочь, вместе со всеми миновал цех, где люди с черными палками гасили свои печи. Он подумал, что уже не помнит себя не работающим на фабрике. Или, вернее, жизнь до фабрики теперь представлялась ему сновидением, смутным и неосязаемым. Она растворилась, как растворяется с пробуждением сон. Ничто в ней не было таким же реальным, таким же бесспорным, как «выровнял, зажал, потянул, снова потянул, проверил».
У выхода с фабрики стояла и ждала женщина в голубом платье. Лукас не сразу ее узнал. Сначала, увидев женщину, он подумал, что это фабрика призвала ангела, чтобы тот попрощался с рабочими, чтобы напомнил им, что в один прекрасный день трудам их придет конец и наступит долгий сон. Потом он понял. Пришла Кэтрин. Она дожидается его.
Он узнал ее за мгновение до того, как она узнала его. Он заглянул ей в лицо и понял, что и она тоже его забыла.
– Кэтрин, – позвал он.
– Лукас?
Он бегом бросился к ней. Ее окружала сфера ароматного, чистого воздуха. Он ликовал. Он был в ярости. Как она могла сюда прийти? Зачем ей было так его смущать?
Она сказала:
– Посмотри на себя. Такой чумазый. Я тебя даже сначала не узнала.
– Это я, – сказал он.
– Ты весь дрожишь.
– Со мной все в порядке. Все хорошо.
– Я подумала, лучше будет тебя проводить. После первого-то дня.
Он сказал:
– Это не самое подходящее место для одинокой женщины.
– Бедняжка, посмотри лучше на себя.
Он ощетинился. Он ведь запускал колесо. Он проверял каждую пластину.
– А чего смотреть? – сказал он – запальчивее, чем собирался.
– Ладно, пошли домой. Ты, поди, умираешь с голоду.
Они вместе пошли по Ривингтон-стрит. Под руку она его не взяла – он был слишком грязным. Со стороны Ист-Ривер вдоль улицы порывами налетал ветер, поднимая миниатюрные пыльные бури, которые подхватывали и уносили с собой бумажный сор. По обеим сторонам высились темные кирпичные фасады, сверху к ним плотной крышкой прилегало небо. На тротуаре было полно прохожих, которым не так много места оставляли тянущиеся вдоль проезжей части мусорные завалы, темнеющие, лоснящиеся сыростью.
Лукас с Кэтрин еле-еле продвигались по узкой мощеной полоске между домами и кучами мусора. Они пристроились за мучительно медленно идущими женщиной с ребенком. Женщина (сзади невозможно было понять, стара она или молода) припадала на левую ногу, а ребенок, девочка в драной длинной юбке, казалось, и не шла вовсе, а волочилась за матерью, влекомая, как предмет мебели, который надо скорее дотащить до дому. Перед женщиной с ребенком шел крупный лысый мужчина, одетый в пальто, похожее на женское, местами потертое до блеска, слишком маленькое для него, с рукавами, надорванными на плечах и кажущими сквозь прорехи алый атлас подкладки. Лукасу невольно представилось, что все эти люди, бедные и оборванные, в древних пальто, которые им либо малы, либо велики, волочащие за собой детей, которые не то не хотят, не то не могут поспевать за ними, шагают по Ривингтон-стрит, приводимые в движение кем-то или чем-то, медленно но непреклонно влекущим их вперед так, что это только кажется, будто они идут по своей воле; все они идут мимо домов и конюшен, мимо кабаков, мимо фабрик и дальше прямиком в реку, в которую один за другим падают и все равно продолжают идти, живые утопленники, по ее дну, и так – пока улица совсем не опустеет и все люди не окажутся в реке, не начнут месить ногами ее илистое дно, пробираясь между потоками желто-зеленого и буро-коричневого, пока их, все это множество бредущих, не вытолкнет в океан, открытое море, где мимо в тишине снуют стаи серебристых рыб, где охристый цвет реки уступает место синеве, где по поверхности воды, высоко-высоко над головой, скользят облака и где они вольны будут поплыть, подхваченные волной, а пальто будут развеваться у них за спиной, подобно крыльям, и дети свободно полетят им вслед, и все это сонмище мертвых рассеется в пространстве, испуская радостные кличи, светясь неясным светом, как светятся созвездия, растекаясь по голубой бесконечности.
Они с Кэтрин вышли на Бауэри, по которой мимо кабаков и злачных мест, щеголяя в ярких нарядах, расхаживали уличные повесы. Они громко разговаривали и жевали толстые, как колбаса, сигары. Один из них, намереваясь завести разговор, приподнял перед Кэтрин свой цилиндр, но его увлекли за собой хохочущие приятели. Бауэри была младшей двойняшкой Бродвея, меньшей звездой в созвездии, что не делало ее менее яркой и шумной. Но простора для пешехода здесь было побольше, а по-настоящему бедные попадались еще чаще.
Кэтрин спросила:
– Там было ужасно?
Лукас ответил:
– Механик засучил рукава, полисмен обходит участок, привратник отмечает, кто идет.
– Прошу тебя, Лукас, – сказала она. – Говори со мной на простом языке.
– Мастер сказал, я справляюсь, – ответил он.
– Можешь пообещать мне одну вещь?
– Да.
– Обещай, что, пока тебе приходится там работать, ты будешь очень-очень осторожным.
Лукас вспомнил о зажиме, и ему стало стыдно. Он не был осторожным. Он позволил себе замечтаться.
Он сказал:
– Я знаю, что я бессмертен, я знаю, моя орбита не может быть измерена циркулем плотника.
– А еще обещай, как только получится, уйти с этой работы и найти себе другую.
– Обещаю.
– Ведь ты…
Он ждал: что такого она о нем скажет?
Она сказала:
– Ведь ты для другого предназначен.
Он был счастлив услышать это, вполне счастлив. И все равно надеялся на большее. Он ждал, что она что-то ему откроет, хотя и не мог бы сказать, что именно. Ждал изумительной лжи, которая обратится правдой, как только она ее произнесет.
Он сказал:
– Обещаю.
Для чего же он предназначен? Он не мог заставить себя спросить об этом.
– Тяжело это, – сказала она.
– А ты? У тебя сегодня на работе было все в порядке?
– Да. Я все шила и шила. Знаешь, на работе – отпускает.
– Ты сама…
Она ждала: что он собирался у нее спросить?
Он спросил:
– Ты сама была осторожной?
Она рассмеялась. Он покраснел. Разве вопрос был таким уж глупым? Она всегда казалась ему такой беззащитной, словно нет ничего проще, чем обидеть такую, как она, – добрую, дивно пахнущую. Вот ее и обидят – не теперь, так потом.
– Была, – ответила она. – Ты обо мне беспокоишься?
– Да, – сказал он.
Он надеялся, что не сморозил очередную глупость. Робко ждал, не станет ли она снова смеяться.
– Не надо, – сказала она. – Думай только о себе. Обещай мне это.
Он сказал:
– Каждый атом, принадлежащий мне, принадлежит и вам.
– Спасибо, мой дорогой. – Больше она ничего не сказала.
Он проводил ее до ее двери на Пятой улице. Они стояли на крыльце, испещренном яркими пятнышками.
– Теперь ты пойдешь к себе домой и съешь ужин.
– Можно у тебя что-то спросить?
– Все, что угодно.
– Хочется знать, что это такое, что я делаю на фабрике.
– Ну, я думаю, на фабрике делают много разных штук.
– Каких штук?
– Деталей больших механизмов. Шестеренки там, болты… ну и прочее.
– Мне сказали, я делаю кожуха.
– Значит, так оно и есть. Именно их ты делаешь.
– Понятно, – сказал он.
Понятно ему не было, но он счел за лучшее не продолжать. Лучше притвориться, что знаешь, что такое кожух.
Кэтрин с нежностью взглянула на него. Неужели снова поцелует?
Она сказала:
– Хочу тебе кое-что отдать.
Он затрепетал. Намертво стиснул челюсти. Сейчас ни в коем случае нельзя заговорить – ни словами книги, ни своими собственными.
Она расстегнула ворот платья, опустила руку за пазуху и извлекла медальон. Стянула через голову цепочку, взяла ее в пригоршню вместе с медальоном.
Она сказала:
– Носи это.
– Не могу, – ответил он.
– Там внутри прядь волос твоего брата.
– Знаю. Я это знаю.
– А ты знаешь, – сказала она, – что у Саймона был точно такой же, с моим портретом?
– Да.
– Он мне его не показывал.
– Никому из нас не показывал.
– Владелец похоронного бюро сказал мне, что медальон остался с ним. Что он остался на Саймоне, когда его положили в гроб.
То есть у Саймона была с собой Кэтрин. У него был кусочек Кэтрин в том ящике на другом берегу реки. Возводилась ли она тем самым в ранг почетного покойника?
Кэтрин сказала:
– Я буду чувствовать себя спокойней, если он будет с тобой, когда ты на фабрике.
– Он твой.
– Давай считать его нашим. Твоим и моим. Согласен сделать мне приятное?
Перечить было невозможно. Разве мог он отказаться сделать что-то, от чего ей будет приятно?
Он сказал:
– Ну если ты так хочешь.
Она надела цепочку ему на шею. Маленький золотой диск медальона повис у него на груди. А недавно он касался ее кожи.
– Спокойной ночи, – сказала она. – Поужинаешь – и сразу в кровать.
– Спокойной ночи.
И тут она его поцеловала – не в губы, но хоть в щеку. Повернулась, вставила в замочную скважину ключ. Он чувствовал на своей коже ее поцелуй и тогда, когда она уже отстранилась.
– Спокойной ночи, – сказал он. – Спокойной ночи, спокойной ночи.
– Иди, – велела она. – Сделай, что должен сделать для отца и матери, а потом спать.
Он сказал:
– Я возношусь от луны, я возношусь из ночи.
Она обернулась к нему с порога. Во взгляде той, которая прежде так много смеялась, которая первой пускалась в пляс, была такая скорбь. Может, он обманул ее ожидания? Усугубил ее печаль? Он стоял, понурившись, пригвожденный к месту ее взглядом. Она повернулась и скрылась за дверью.
Дома он собрал какой мог ужин для себя и отца. Что-то еще оставалось из купленного для поминок – жирный шматок ветчины, желе, остатки хлеба. Он выложил все это перед отцом, тот моргнул, сказал «спасибо» и начал есть. Прожевав кусок, он дышал из своей машины.
Мать Лукаса все еще была в постели. Как им быть с едой, если она в скором времени не встанет?
Пока отец ел и дышал, Лукас отправился в родительскую спальню. Он тихо, нерешительно толкнул дверь. Спальня была темной, полной полированного дерева и шерстяных покрывал. Над кроватью висело распятие, темнея на фоне траурного мрака.
Он позвал:
– Мама?
Лукас услышал, как шевельнулись простыни. Услышал ее еле слышное дыхание.
– Кто тут? – спросила она.
– Только я, – ответил он. – Только Лукас.
– Лукас, любовь моя.
У него затрепетало сердце. На какой-то миг показалось, что он может поселиться здесь с матерью, в этой сладкой теплой тьме. Что он может остаться с ней и читать ей из книги.
– Я тебя разбудил? – спросил он.
– Я никогда не сплю. Подойди.
Он сел на краешек кровати. Ему было видно, как разметались по подушке ее волосы. Ему были видны ее нос и щеки, темные пятна на месте глаз. Он коснулся ее лица. Оно было горячим, сухим, словно присыпанным пылью.
– Хочешь попить или поесть? – спросил он. – Чего-нибудь принести?
Она сказала:
– Что с тобой случилось? Отчего это ты так потемнел?
– Я был на работе, мама. Это просто пыль.
– А тогда где же Лукас?
– Мама, вот он я.
– Ну конечно это ты. Я опять немножко путаю, правда?
– Давай я принесу тебе воды.
– За курами нужен пригляд. Ты позаботился о курах?
– О курах?
– Да, детка. Уже поздно, да? Думаю, уже очень поздно.
– У нас нету кур.
– Нету?
– Да.
– Прости меня. Раньше у нас были куры.
– Ничего страшного, мама.
– Ох, легко тебе говорить «ничего страшного», когда ни кур нет, ни картошки.
Лукас погладил ее по голове и сказал:
– Я божество и внутри и снаружи, все становится свято, чего ни коснусь и что ни коснется меня.
– Верно, мой дорогой.
Лукас тихо сидел рядом с ней, поглаживая ее по голове. Когда-то она была живой и вспыльчивой, любила поспорить, легко гневалась и редко смеялась. (Только Саймон умел ее рассмешить.) Год или даже дольше она понемногу угасала – старалась все раньше и раньше разделаться с работой и лечь, но все еще оставалась собой, порывисто-нежной и ранимой, помнящей о долге и давних тайных обидах. Теперь, когда Саймон был мертв, она превратилась вот в это – в лицо на подушке, спрашивающее про кур.
Лукас сказал:
– Музыкальную шкатулку принести?
– Хорошо бы.
Он сходил в гостиную и вернулся со шкатулкой. Поднял так, чтобы матери было видно.
– Ах да, – сказала она.
Знала ли она, что это шкатулка сломала их жизнь? Она никогда об этом не заговаривала. Она, судя по всему, любила музыкальную шкатулку так же нежно, как любила бы, если бы та вовсе не причинила им вреда.
Лукас повернул рычажок. Внутри завращался медный барабан, цепляя крошечные молоточки. Шкатулка тихо наигрывала на свой манер «Наши надежды с ними ушли», наполняя замкнутое пространство спальни чистыми металлическими нотами. Лукас подпевал ей.
Мать коснулась его руки.
– Довольно, – сказала она.
– Это только первый куплет.
– Довольно, Лукас. Убери ее.
Он послушался – отнес шкатулку на стол в гостиную, где та продолжала играть «Наши надежды с ними ушли». Однажды заведенная, она замолкала только по своему собственному соизволению.
Отец пересел от стола в свое кресло к окну. Он важно кивал, словно соглашаясь с тем, что говорила ему музыка.
– Тебе нравится музыка? – спросил его Лукас.
– Ее не остановить, – сказал отец своим новым голосом, едва отличимым от дыхания, как будто это разговаривали шепотом мехи его машины.
– Скоро сама остановится.
– Это хорошо.
– Спокойной ночи, отец, – сказал Лукас, потому что ничего другого ему в голову не пришло.
Отец кивнул. Доберется он самостоятельно до постели или нет? Лукас подумал, что доберется. Понадеялся на это.
Он пошел в свою комнату – их с Саймоном комнату. Окно у Эмили горело. Она ела свои сладости так же истово, как Лукас читал свою книгу.
Он разделся. Медальона снимать не стал. Если бы он снял медальон, если бы он вообще когда-либо снял медальон, тот перестал бы быть вещью, надетой на него Кэтрин. Сделался бы вещью, которую он сам на себя надел.
Лукас осторожно нащупал замочек медальона и открыл его. Внутри был черный кудрявый локон Саймона, перевязанный лиловой ниточкой. Под локоном, почти полностью заслоненное им, было лицо Саймона. Лукас хорошо знал этот портрет, сделанный два года назад: на нем Саймон, прищурив глаза и стиснув зубы, хмуро глядел на фотографа. Лицо Саймона в медальоне было светло-коричневым, как прокисшие сливки. Глаза (один частично скрытый свесившейся прядью волос) – совсем черными. Это было все равно что увидеть Саймона в гробу, чего никому не разрешили сделать – уж больно необычный вид придала ему машина. Теперь, в комнатной тишине Саймон, который по-прежнему оставался с ними, встретился с Саймоном из медальона. В комнате присутствовали его запах и вес, его привычка, выпив стаканчик-другой, затеять с Лукасом шутливую потасовку. Лукас закрыл медальон. Тот издал негромкий металлический щелчок.
Он лег на кровать, со своего краю, и принялся за вечернее чтение.
Или, может быть, трава и сама есть ребенок, взращенный младенец зелени.
А может быть, это иероглиф, вечно один и тот же,
И, может быть, он означает: «Произрастая везде, где придется,
Среди чернокожих и белых людей,
И канука, и токахо, и конгрессмена, и негра я принимаю одинаково, всем им даю одно».
Почитав, он потушил лампу. Он чувствовал Саймона в медальоне и Саймона в ящике под землей, такого неузнаваемого, что его хоронили в наглухо заколоченном гробу. Лукас решил никогда больше не открывать медальона. Постоянно носить его, но только закрытым.
Он поспал и проснулся. Встал одеваться на работу и готовить завтрак отцу, чувствуя на шее непривычную тяжесть медальона, который тихонько ударял его по грудине. Лукасу суждено было носить это напоминание о непреложной смерти Саймона у самого сердца, потому что его на Лукаса надела Кэтрин.
Он дал отцу последние остатки желе. Больше еды в доме не было.
Пока отец завтракал, Лукас подошел к двери в родительскую спальню. Из-за нее не доносилось никаких звуков. Что, если мать больше никогда оттуда не выйдет? Он взял со стола музыкальную шкатулку и тихо, как только мог, пробрался в спальню. Мать лежала тихо похрапывающим призраком. Он поставил шкатулку на прикроватный столик. Вдруг она захочет послушать ее, когда проснется. А если и не захочет, все равно поймет, что Лукас о ней не забывает.
У ворот фабрики Джек его не встречал. Лукас вместе с остальными замедлил шаг, но потом медлить не стал. Джек наверняка уже поджидает его у машины, чтобы сказать, как славно он поработал вчера, и пожелать хорошо потрудиться сегодня. Он прошел через первую комнату, где запертые в клетках люди хмурились над своими бумагами. Прошел через горячий цех и направился к своей машине. Том, Уилл и Дэн поздоровались с ним так, как если бы он уже давно работал с ними, и это его порадовало. Но Джека Уолша не было и здесь.
Лукас принялся за работу. Джеку понравится, если он застанет его занятым работой. У машины Лукас совсем успокоился. Взял первую пластину из контейнера Тома. Выровнял, зажал, потянул, снова потянул, проверил.
Он внимательно проверял каждую пластину. Прошел час или то, что ему показалось часом. Из пальцев снова пошла кровь. Она оставляла следы на пластинах, уходивших под колесо. Перед тем как отдать пластину Дэну, он начисто вытирал ее рукавом.
Постепенно он начал осознавать, что дни на фабрике, оттого что были такими длинными и состояли из одного-единственного действия, которое повторялось снова, и снова, и снова, образовывали свой собственный мир, отдельный от внешнего, и что все, живущие в этом мире, все рабочие фабрики, жили главным образом в этом мире, нанося краткие визиты в другой, где они ели, спали и готовились к возвращению сюда. Люди фабрики отреклись от своего гражданства и эмигрировали на фабрику так же, как их родители эмигрировали в Нью-Йорк из графства Керри. Вся предыдущая жизнь сводилась у них к снам, от которых они каждое утро пробуждались на фабрике.
Джек появился только в самом конце рабочего дня, когда прогудел гудок. Чего Лукас ожидал от его появления? Радости встречи. Какого-то объяснения. Он думал, что Джек извинится, расскажет о заболевшем ребенке, о захромавшей лошади. Что Джек пожмет его окровавленную руку – Лукас и боялся, и всей душой хотел этого. Он ждал, что Джек похвалит его. Ведь Лукас тщательно выравнивал каждую пластину. Он все их проверял.
Вместо этого Джек подошел и сказал:
– Порядок.
Он и не думал хвалить Лукаса. Лукас решил было, что Джек спутал его с кем-то другим – и Кэтрин поначалу не узнала его, и мать не узнавала. Он едва удержался, чтобы не сказать: «Это я, Лукас».
Джек перешел дальше, к Дэну, кратко переговорил с ним и ушел в другой цех, со сводами.
Лукас оставался у своей машины, хотя уже было время уходить. Машина была такой же, как и всегда, – ремень, рычаги, ряды зубьев.
Он произнес:
– Разве стоит пугаться смешения?
Но сам он пугался. Его пугало упорство машины, ее способность находиться здесь, вечно на одном и том же месте, а еще то, что ему надлежит всегда возвращаться к ней после краткого промежутка, посвященного еде и сну. Его беспокоило, что в один прекрасный день он может опять забыться. Вот забудется он в один прекрасный день, и машина протащит его сквозь себя, как протащила Саймона. И проштампуют его – четыре поперек и шесть вдоль, – а потом положат в ящик и отвезут за реку. Он так переменится, что никто его не узнает, ни живые, ни мертвые.
Куда он попадет после? Он не надеялся, что его душа достойна рая. Он так и останется в ящике на том берегу. Интересно, повесят ли его лицо на стенку в гостиной, при том, что не существовало ни одного его портрета, да если бы такой портрет и существовал, он не мог представить, чей придется снять, чтобы уступить ему место.
Сегодня Кэтрин его не поджидала. Лукас немного постоял у ворот, отыскивая ее взглядом, но было понятно, что она больше не придет. Это случилось только раз, когда он был совсем новичком и когда она еще беспокоилась за него. Лукасу надо было идти домой и попытаться сообразить что-нибудь на ужин родителям.
Он пошел по Ривингтон-стрит, потом по Бауэри. Пересек Вторую улицу и направился к дому Кэтрин на Пятой.
Он постучал в дверь, сначала робко, затем уверенней. И ждал, стоя на поблескивающем крыльце. Наконец дверь приоткрыла какая-то древняя старуха. Она была седой, карликового роста и поперек себя шире. Она запросто могла бы быть духом этого дома, рябым и увядшим, сварливым спросонья.
– Что такое? – спросила она. – Чего тебе надо?
– Прошу вас, я пришел к Кэтрин Фицхью. Можно мне войти?
– Ты кто такой?
– Лукас. Я брат Саймона, за которого она собиралась замуж.
– Чего тебе надо?
– Мне нужно ее видеть. Пожалуйста. Я ничего дурного не сделаю.
– Проказничать не станешь?
– Нет. Ничего такого. Прошу вас.
– Ну так и быть. Четвертый этаж Номер девятнадцать.
– Спасибо.
Женщина открыла дверь медленно, как через силу. Лукасу едва удалось войти как полагается, не рванувшись вперед и не сбив ее с ног.
– Спасибо, – сказал он еще раз.
Поднимаясь по лестнице, он чувствовал на своей спине ее взгляд и до самого третьего этажа заставлял себя ступать медленно-медленно. Следующий пролет он преодолел бегом. На площадке нашел номер девятнадцать и постучал.
Дверь открыла Олма. Олма была самая шумная из них всех. Физиономия у нее была веснушчатая и как будто ошпаренная.
– Кто там еще? – спросила она. – Гоблин или эльф?
– Это Лукас, – ответил он. – Брат Саймона.
– Знаю, дитя мое. Чему обязаны?
– Пожалуйста, я пришел повидаться с Кэтрин.
Она покачала своей большой встрепанной головой:
– Всем вам нужна Кэтрин, да? А не догадываетесь, что и остальным здесь есть чего предложить?
– Пожалуйста, Кэтрин дома?
– Ну заходи. – Она оглянулась и крикнула куда-то: – Кэтрин, тут к тебе один паренек.
Олма пропустила Лукаса в гостиную. Гостиная была точно такой же, как у Лукаса с родителями, разве что Кэтрин с Олмой и Сарой мертвых у себя не держали. Вместо них они повесили на стены картинки с цветами. Стол они покрыли лиловой скатертью.
Сара стояла у плиты, что-то помешивая в кастрюле. Баранья шейка с капустой, решил Лукас. Лицо у Сары было круглым и белым, как блюдце, и почти таким же неподвижным.
– Привет, – сказала она.
Маленькая и по-детски миловидная, хотя была никак не младше Кэтрин. В своем оранжевом халатике она легко бы сошла за приз, выигранный в ярмарочном балагане.
Кэтрин появилась из спальни все в том же голубом рабочем платье.
– О, Лукас, привет, – сказала она.
На мгновение у нее на лице появилось прежнее выражение, обыкновенное в те времена, когда машина еще не забрала Саймона. Как и раньше, казалось, что она уловила шутку, которую пока что никто другой не понял.
– Привет, – сказал Лукас. – Извини, если помешал.
– Рада тебя видеть. Ты поужинал?
Он знал, что предложение принимать нельзя.
– Да, спасибо, – ответил он.
– Что за странный вид, – сказала Олма. – Случилось что?
– Олма, – строго одернула ее Кэтрин.
– Я только спросила, и все. По-твоему, он сам не знает?
Лукас собрался с духом. Олма и Сара ему нравились, хотя и не были добрыми. Обе были крикливые и ярко накрашенные, обе несли что попало, как попугаи.
– Я таким родился, – сказал он.
Этого было недостаточно. Следовало бы добавить, что между ним и Саймоном были Мэттью, умерший в семь лет, и Брендан, умерший еще в материнской утробе. Теперь, когда не стало Саймона, каким-то чудом остался только он, Лукас, подменыш с личиком домового, слабым сердцем и по-разному посаженными глазами. Он первый должен был умереть, но каким-то образом пережил их всех. Это внушало ему гордость. С какой радостью он объявил бы об этом Олме с Сарой.
– Ух ты, как все просто, – сказала Олма.
– Олма, хватит, – сказала Кэтрин. – Ты обязательно должен чего-нибудь с нами съесть. Перекусить немножко.
Лукас заметил, что Сара накрыла кастрюлю крышкой, и тихо сказал Кэтрин:
– Можно мне с тобой поговорить?
– Разумеется.
Он молчал в мучительном смущении.
Кэтрин сказала:
– Может, выйдем в прихожую?
Больше им некуда было деться – вся квартира состояла из гостиной и двух спален.
– Да, спасибо.
Шагнув вслед за Кэтрин, он пожелал доброй ночи Олме с Сарой.
– Ну вот, даже гоблины выбирают Кэтрин, – сказала Олма.
Сара ответила ей от плиты:
– Думай, что мелешь, а не то в один прекрасный день какой-нибудь гоблин заткнет тебе рот.
Прихожая, куда вышли Лукас с Кэтрин, напоминала его собственную. У той стены, что ближе к лестничной клетке, неясно светилась лампа. Возле нее виднелись в сумраке кипа старой бумаги, пустые бугылки и какой-то мешок – интересно, что в нем лежало? В дальнем углу прихожей мусора было не разглядеть в темноте. На полпути к темному углу что-то лежало на старой жестянке из-под растительного масла. Неужели это что-то – с зубами? Да. Это был добела вываренный козлиный череп.