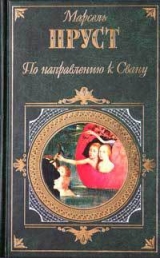
Текст книги "По направлению к Свану"
Автор книги: Марсель Пруст
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 30 страниц)
И так оно на другой же день и случилось. Одетта написала ему, что Вердюрены с их друзьями изъявили желание послушать Вагнера и что если он будет так любезен и пришлет ей денег, то она, их частая гостья, наконец-то будет иметь удовольствие пригласить их к себе. О нем не было сказано ни слова: что ему не могло быть места там, где будут они, – это само собой разумелось.
Итак, ему предоставлялась отрадная возможность послать ей убийственный ответ, каждое слово которого он взвесил накануне, не надеясь когда-либо воспользоваться этой возможностью. Увы! Он знал, что на те деньги, которыми она располагала, или на те, которые ей нетрудно будет достать, она непременно снимет в Байрейте помещение, раз уж ей этого так хочется, даром что она не способна отличить Баха от Клаписона[161]161
Клаписон Антонен-Луи (1808—1866) – французский композитор, автор многочисленных комических опер и романсов.
[Закрыть]. Но ей все-таки придется урезать себя. Не пришли он ей на этот раз несколько тысячефранковых билетов, ей не на что будет каждый вечер устраивать в замке изысканные ужины, после которых ей, чего доброго, придет охота – быть может, впервые – упасть в объятия Форшвиля. Нет уж, извините, пусть кто угодно оплачивает эту пакостную поездку, только не Сван! Ах, если б он мог сделать так, чтобы она не состоялась! Если бы Одетта перед самым отъездом вывихнула себе ногу, если бы кучер, который повезет ее на вокзал, согласился за любое вознаграждение завезти ее в такое место, где бы она некоторое время провела в заточении, – она, изменница с глазами, лучащимися обращенной к Форшвилю улыбкой заговорщицы, а ведь именно такою в течение последних сорока восьми часов рисовалась Одетта Свану!
Но долго она такой никогда не бывала; спустя несколько дней ее сияющие и лукавые глаза теряли свой блеск и свою двусмысленность, образ ненавистной Одетты, говорившей Форшвилю: «Как он бесится!» – бледнел, расплывался. Его постепенно вытеснял и в тихом сиянии выплывал облик другой Одетты, улыбавшейся и Форшвилю, но вся нежность этой улыбки предназначалась Свану, в то время как она говорила: «Только ненадолго, – он не очень-то любит, чтобы у меня сидели гости, когда ему хочется побыть со мной. Вы же не знаете его так, как я!» – и ею она благодарила Свана за проявление чуткости, что она особенно ценила, за совет, какой она в тяжелых для нее обстоятельствах считала возможным попросить только у него.
И тогда он мысленно спрашивал у этой, другой Одетты, как мог он написать ей такое оскорбительное письмо, на которое она, конечно, не считала его способным и которое свергнет его с той недосягаемой высоты, на какую она поставила Свана за его доброту и порядочность. Он будет ей уже не так дорог, потому что любила она его именно за эти качества, которых не находила ни у Форшвиля, ни у других мужчин. За эти его качества она и была с ним так часто мила, и хотя, когда его мучила ревность, он это ее отношение к нему в грош не ставил, потому что оно не было знаком желания и выражало скорее привязанность, чем любовь, все же он снова начинал ценить его, по мере того как подозрения рассеивались сами собой, нередко разгоняемые чтением книг по искусству или дружеской беседой, и его страсть становилась менее требовательной.
Теперь, когда Одетта, после этого сдвига, естественно принимала вновь то положение, из которого ее ненадолго вывела ревность Свана, и он получал возможность рассматривать ее под тем углом зрения, под каким она обретала в его глазах всю свою прелесть, она являлась его мысленному взору полной нежности, покорной и до того красивой, что он невольно протягивал губы, словно она была тут и он мог поцеловать ее; и он был бесконечно ей благодарен за ее чарующий и милый взгляд, точно она и правда так на него смотрела, а не только в его воображении, которое придало ее лицу именно это выражение, чтобы утолить его страсть.
Как он ее, наверно, измучил! Конечно, ему было за что на нее сердиться, но этих причин было бы недостаточно, если б он любил ее не так горячо. Других женщин oн люто ненавидел – еще вчера, а сегодня с удовольствием оказал бы им услугу и не питал к ним злобных чувств, потому что разлюбил их. Если Одетта когда-нибудь тоже станет ему безразлична, то он поймет, что только из ревности мог находить что-то жестокое, непростительное в ее желании, таком, в сущности, естественном, в котором было, правда, что-то детское, но которое говорило и о щепетильности: ей нравилось изображать из себя хозяйку дома, а кроме того, хотелось, воспользовавшись случаем, отплатить Вердюренам за их гостеприимство.
Он уже судил Одетту с иной точки зрения – не с точки зрения своей любви и ненависти, он стремился быть беспристрастным, стремился всесторонне рассмотреть поведение Одетты, он думал о ней так, как будто он ее не любит, как будто она значит для него не больше, чем все остальные женщины, как будто Одетта не ведет в его отсутствие совсем другой жизни и тайком не плетет нитей заговора, направленного против него.
Зачем непременно воображать, что она будет там предаваться с Форшвилем или с кем-нибудь еще упоительным наслаждениям, каких она не испытывала с ним и которые от начала до конца выдумала его ревность? Если бы Форшвиль стал думать о Сване где угодно: в Байрейте или в Париже, он думал бы о нем так же, как Сван думал о Форшвиле, то есть пришел бы к заключению, что Сван занимает большое место в жизни Одетты и что, когда они встретятся у нее, ему придется уйти. Если Форшвиль и Одетта победят и все-таки туда поедут, то повинны будут в этом его, Свана, попытки им помешать – попытки, пусть даже безуспешные, – а вот если он одобрит ее затею, в которой, кстати сказать, есть и своя разумная сторона, то у нее сложится впечатление, что она поехала по его совету, у нее будет такое чувство, что это он ее туда послал и устроил, и за удовольствие принять у себя людей, которые столько раз принимали ее, она будет признательна Свану.
И если – вместо того, чтобы рассориться с Одеттой и даже не повидаться с ней перед ее отъездом, – он пошлет ей денег, поощрит в ней это желание и если благодаря его стараниям путешествие окажется для нее приятным, то она прибежит к нему счастливая, благодарная, и опять он ей обрадуется, а между тем этой радости видеть ее он был лишен почти целую неделю – радости, которую ему ничто не могло заменить. Ведь когда он думал о ней без отвращения, когда он опять улавливал ласку в ее улыбке, когда ревность не примешивала к его любви желание вырвать ее из объятий другого, его любовь вновь превращалась прежде всего в блаженство тех ощущений, какие в нем вызывала Одетта, в блаженство любоваться ею как зрелищем, изучать, как особое явление, рассвет ее взоров, возникновение ее улыбки, звук ее голоса. И вот из этого ни с чем не сравнимого наслаждения у Свана в конце концов выросла потребность в Одетте, которую только она способна была удовлетворить своим присутствием или своими письмами, потребность, почти такая же бескорыстная, почти такая же эстетическая, такая же неестественная, как и другая потребность, характерная для этого нового периода в жизни Свана, когда бесплодность, вялость минувших лет уступили место крайней напряженности духовной жизни, причем нежданное это обогащение его внутреннего мира было так же ему непонятно, как непонятно человеку слабого здоровья, отчего это он вдруг крепнет, полнеет, на время создавая впечатление у окружающих, что он на пути к полному выздоровлению: потребность, которая тоже развивалась у Свана вне всякой зависимости от внешнего мира, – потребность слушать и понимать музыку.
Так, в силу химизма своего заболевания, выработав из любви ревность, Сван опять принялся выделывать нежность, выделывать жалость к Одетте. Она вновь превращалась в милую, прелестную Одетту. Его мучила совесть за то, что он бывал с нею груб. Ему хотелось сделать ей что-нибудь приятное, чтобы потом она пришла к нему и чтобы он увидел, как благодарность высекает ее лицо и вылепливает ее улыбку.
А она, уверенная, что спустя несколько дней Сван, такой же нежный и покорный, придет к ней мириться, привыкла к этому и уже не боялась ему разонравиться, не боялась даже злить его, и когда ей было почему-нибудь неудобно дарить его ласками, которыми он особенно дорожил, она ему в этом отказывала.
Может быть, она не отдавала себе отчета, насколько искренен бывал он во время ссор, когда заявлял, что не пришлет ей денег, и старался сделать ей больно. Может быть, она не отдавала себе отчета и в том, насколько искренен бывал он, во всяком случае, с самим собой, когда, ради прочности их отношений притворяясь, что может обойтись без Одетты, что разрыв его не пугает, некоторое время не появлялся у нее.
Иногда он переставал бывать у Одетты после того, как она несколько дней ничем его не огорчала, а так как он знал, что предстоящие свидания большой радости ему не доставят, скорей наоборот: опечалят его, и это нарушит его покой, то он писал ей, что очень занят и не сможет приехать в условленные дни. А она в письме, которое разошлось с его письмом, как раз просила его перенести свидание. Он задавал себе вопрос, что это значит; его подозрения оживали, его душевная пытка возобновлялась. Он бывал так взволнован, что уже не мог держаться той линии, какую он себе наметил в состоянии относительного спокойствия, – он бежал к ней и требовал ежедневных свиданий. И если даже не она писала первая, если она только отвечала ему, давая свое согласие на краткую разлуку, все равно он уже не мог без нее жить. Дело в том, что, вопреки расчетам Свана, согласие Одетты все в нем переворачивало. Подобно тем, кто обладает чем-либо, Сван, чтобы посмотреть, что будет, если он на время это утратит, устранял это из своего сознания, а все прочее оставлял как было. Но изъятие чего-либо – это ведь не просто изъятие, это не просто частичная нехватка, это крушение всего остального, это уже новое состояние, которое нельзя предугадать в прежнем.
А в других случаях, когда Одетта собиралась уехать, все происходило иначе: Сван нарочно из-за какого-нибудь пустяка придирался к Одетте и давал себе слово не писать ей и не искать с ней встреч до ее возвращения, тем самым придавая видимость крупной ссоры, которую Одетта могла принять и за окончательный разрыв, обычной разлуке и ожидая от нее такой же выгоды, как и от ссоры, а между тем долгота этой разлуки зависела, главным образом, от продолжительности путешествия, – Сван только переставал встречаться с Одеттой чуть-чуть раньше, чем следовало. Он уже рисовал себе Одетту встревоженной, огорченной тем, что он к ней не приходит и не пишет, и этот образ, утишая его ревность, помогал ему отвыкать от свиданий с ней. Конечно, временами, в силу длительности оторвавшей их друг от друга на целых три недели добровольной разлуки, самый краешек его сознания, куда он бывал отброшен своею собственною решимостью, лелеял мысль, что он свидится с Одеттой по ее возвращении, но Сван так терпеливо ее ждал, что невольно задавал себе вопрос, не увеличить ли вдвое срок воздержания, которое так мало брало у него душевных сил.
Оно продолжалось пока всего лишь три дня, – он часто не виделся с Одеттой гораздо дольше и не уговаривался точно о встрече. Но вот, под влиянием легкого раздражения или нездоровья, он начинал рассматривать этот случай как исключительный, который нельзя подвести ни под какие правила, случай, когда само благоразумие позволяет доставить себе радость, потому что она приносит успокоение и дает отдых воле до тех пор, когда появится необходимость в полезном ее применении, и это раздражение или нездоровье приостанавливали действие воли: воля переставала сдерживать его; а иногда он цеплялся за сущие мелочи: то он забыл спросить Одетту, в какой цвет решила она выкрасить свой экипаж, то забыл спросить, как она намерена распорядиться своими деньгами – купить обыкновенные акции или же привилегированные (разумеется, очень приятно показать ей, что он может без нее обойтись, но хорош он будет, если экипаж придется перекрашивать или если акции не принесут дивиденда), – и вот уже, точно растянутая резинка, которую вдруг отпускают, или точно воздух, когда открывают насос, мысль о встрече с Одеттой из тайников, где она была заперта, выскакивала на поле сегодняшнего дня и насущных надобностей.
Она возвращалась, не встречая сопротивления, возвращалась неотвратимо, так что Свану куда легче было ждать две недели до приезда Одетты, чем потерпеть десять минут, пока его кучер запряжет лошадей, которые отвезут его к Одетте, и за это время нетерпение беспрестанно сменялось радостью излить на нее свою нежность, радостью, какую ему доставляла мысль снова увидеться с Одеттой, вернувшаяся неожиданно, как раз когда он думал, что она далеко-далеко, и вновь оказавшаяся совсем близко, на самой поверхности его сознания. Дело в том, что эта мысль уже не наталки-валась на преграды: у Свана пропадала охота ей сопротивляться, как только он убеждал себя, – и ему казалось, что убедил, – будто ему ничего не стоит оказать ей сопротивление: раз у него теперь не вызывает сомнений, что при желании он в любой момент расстанется с Одеттой, то ему нисколько не стыдно отложить опыт разлуки. Помимо всего прочего, мысль о том, чтобы вновь увидеть Одетту, возвращалась к нему в уборе новизны, искушения, отравленная ядами, наделенная всем, что притупила привычка и что оживило лишение, но не трехдневное, а двухнедельное (продолжительность отказа себе в чем-либо должна измеряться заранее установленным сроком), и потому то, что до сих пор было для него ожиданным наслаждением, которым нетрудно пожертвовать, превращалось в нечаянное счастье, с которым нет сил бороться. Наконец, мысль эта возвращалась, приукрашенная незнанием того, что Одетта подумает, даже как она поступит, не получая от Свана вестей: так все, что он там, у нее, найдет, представлялось ему волнующим открытием какой-то почти неведомой ему Одетты.
Но Одетта, не верившая, что он в самом деле не даст ей денег, усматривала в его просьбе оставить ему распоряжения относительно окраски экипажа или покупки бумаг только предлог, и ничего больше. Ведь Одетта не давала себе труда последовательно воссоздать в своем воображении случившийся с ним приступ, – составляя себе представление о нем, она не задавалась целью постичь, из чего он слагается: она верила только в то, что ей было известно заранее, – в его раз навсегда предуказанный, неизбежный и всегда один и тот же конец. Представление у Одетты складывалось неполное, – и, может быть, именно потому особенно глубокое, – если судить о нем с точки зрения Свана, который, конечно, решил бы, что Одетта не понимает его: так морфинист или чахоточный, уверенные, что одному из них какая-нибудь чисто внешняя причина помешала избавиться от укоренившейся в нем привычки – помешала именно в тот момент, когда он эту привычку перебарывал, а другому повредило случайное заболевание, как раз когда дело наконец-то пошло на поправку, полагают, что врач не разобрался в их случаях, что он напрасно не придал такого же значения, как они, этим мнимым совпадениям, а врач смотрит на эти совпадения просто как на личины, которые надели порок одного и болезнь другого, чтобы те снова почувствовали себя больными: ведь на самом-то деле, пока один тешил себя мечтою о том, что взял себя в руки, а другой – о том, что выздоровел, порок и болезнь не переставали тяготеть над ними. Действительно, любовь Свана дошла до такого состояния, когда врач или, при некоторых заболеваниях, самый смелый хирург задают себе вопрос, разумно ли избавлять одного больного от его порока и возможно ли излечить другого.
Понятно, у Свана не было ясного представления, как велико его чувство. Когда он пытался измерить его, то иной раз ему казалось, что его чувство ослабело, почти сошло на нет; так, например, бывали дни, когда выразительные черты Одетты и поблекший цвет ее лица не прельщали, даже почти отвращали его, как в ту пору, когда он ее еще не любил. «Кое-чего я уже добился, – говорил он себе на другой день. – Вчера, признаться, я почти не испытывал удовольствия, лежа с ней в постели. Странно: мне она казалась даже некрасивой». И, понятно, он не лукавил, но его любовь вышла далеко за пределы вожделения. Одетта уже не занимала в этой любви большого места. Когда она смотрела на Свана с карточки, стоявшей у него на столе, или когда она сама приходила к нему, он не без труда связывал ее лицо, живое или запечатленное на бристольской бумаге, с жившей в нем неутихающей, мучительной тревогой. Он говорил себе почти с изумлением: «Так это она?» – словно человеку показали то, что у него болело и что, пока ему это не удалили, он представлял себе совершенно иначе. «Она?» – спрашивал себя Сван, силясь понять, что же это такое, ибо мы только и слышим, что тайна личности больше похожа на любовь и на смерть, чем на наше смутное представление о болезнях, и из боязни, как бы разгадка тайны от нас не ускользнула, мы доискиваемся ее с особой настойчивостью. А между тем болезнь Свана, – ведь его любовь была именно болезнью, – так распространилась, так сплелась со всеми его привычками, поступками, мыслями, с его здоровьем, с его сном, с его жизнью, даже с его желаниями, переходившими за черту, когда его уже не будет, так срослась с ним, что удалить ее – это было равносильно тому, чтобы разрушить почти всего Свана: как выражаются хирурги, его любовь была уже неоперабельна.
Любовь отвлекла Свана от всех его интересов настолько, что когда он теперь случайно появлялся в свете, – убеждая себя, что его связи, подобно изящной оправе, которую Одетта, впрочем, не умела ценить, могут до известной степени повысить в ее глазах его самого (и, пожалуй, он был бы прав, если б его любовь не обесценивала этих связей, ибо, в представлении Одетты, она умаляла все, к чему бы он ни прикоснулся, – его любовь как бы заявляла, что все это не может идти с ней ни в какое сравнение), – он не только тосковал, оттого что находится там, где Одетта не бывает, среди людей, ей незнакомых, нет, он испытывал столь же бескорыстное наслаждение, какое доставил бы ему роман или картина, на которых изображены развлечения нетрудового класса, так же как у себя он наслаждался бы упорядоченностью своего домашнего обихода, элегантностью своей одежды и одежды слуг, выгодностью помещения своих ценностей, чтением Сен-Симона, одного из любимых своих авторов, тем, как Сен-Симон описывает распорядок дня и меню г-жи де Ментенон[162]162
Г-жа де Ментенон Франсуаза (1635—1719) – воспитательница детей Людовика XIV, с которой он тайно обвенчался после смерти королевы Марии-Терезии.
[Закрыть], потрясающую скупость Люлли[163]163
Люлли Жан-Батист (1632—1687) – итальянский скрипач и композитор, проведший большую часть жизни во Франции и ставший создателем французской оперы.
[Закрыть] и его широкий образ жизни. То был не полный отрыв от Одетты, и Сван отчасти был этому обязан до сих пор не испытанным блаженством на время укрыться в тех немногих уголках своего «я», куда почти не проникала его любовь, его печаль. Вот почему личность, какою его наградила моя двоюродная бабушка, – «сын Свана», – и которая отличалась от его личности, наделенной более ярко выраженными индивидуальными чертами, – «Шарль Сван», – была ему теперь особенно отрадна. Как-то, по случаю дня рождения принцессы Пармской (а еще потому, что принцесса косвенным образом могла быть во многих случаях полезной Одетте, так как через нее можно было доставать билеты на торжества и юбилеи), Сван решил послать ей фруктов, но он не очень хорошо себе представлял, как это делается, и поручил это своей двоюродной тетке со стороны матери, – та была рада оказать ему услугу и написала, что купила фруктов в разных местах: виноград взяла у Крапота, магазин которого славился именно виноградом, землянику у Жоре, груши у Шеве, у которого можно было найти лучшие сорта, и т. д.: «Я осмотрела и проверила каждую ягодку». В самом деле: по тому, как благодарила Свана принцесса, он мог составить себе представление об аромате земляники и о сочности груш. А слова: «Я осмотрела и проверила каждую ягодку» – явились успокоением для его исстрадавшейся души: они переносили его мысль в ту область, куда он заглядывал редко, хотя она досталась ему по наследству, как члену богатой и добропорядочной буржуазной семьи, из поколения в поколение передававшей знание «хороших магазинов» и уменье купить, – знание и уменье, которыми он мог воспользоваться в любую минуту.
И правда: он так надолго забывал, что он – «сын Свана», что как только снова временно им становился, то получал от этого более острое наслаждение, чем те, какие испытывал постоянно и какими был уже пресыщен; и хотя любезность буржуа, для которых он по-прежнему оставался «сыном Свана», была не такая пылкая, как любезность аристократии (впрочем, более лестная, поскольку у буржуа она неотделима от уважения), тем не менее письмо от «светлости», какие бы торжественные празднества оно ему ни сулило, было ему менее приятно, чем письмо, в котором его просили быть шафером или просто-напросто гостем на свадьбе в семье кого-нибудь из старинных друзей его родителей – друзей, продолжавших с ним встречаться, как, например, мой дед, пригласивший его в прошлом году на свадьбу моей матери, или почти с ним не знакомых, однако считавших долгом вежливости пригласить почтенного сына покойного г-на Свана.
Но люди из высшего общества, на правах давней дружбы, тоже в известной мере были связаны с его домом, с укладом его жизни, с его семьей. Окидывая мысленным взором блистательные свои знакомства, он ощущал ту же опору вовне, испытывал то же чувство комфорта, как при осмотре чудесных земель, чудесного серебра, чудесных скатертей и салфеток, доставшихся ему от родителей. И мысль, что если б он внезапно заболел, то первым движением камердинера было бы броситься к герцогу Шартрскому, принцу Рейскому, герцогу Люксембургскому и барону де Шарлю, так же утешала его, как утешала нашу старую Франсуазу мысль, что, когда она умрет, тело ее обернут в ее собственные простыни из тонкого полотна, на которых она сама вышила метки и которые еще ни разу не были в починке (а если и чинились, то эта тонкая работа свидетельствовала лишь об искусстве мастерицы), что ее обернут в саван, образ которого, постоянно бывший у нее перед глазами, доставлял ей известное удовлетворение: хотя саван особенной пышностью и не отличался, а все-таки тешил ее тщеславие. Но главное для Свана заключалось не в этом: всеми его поступками и мыслями, имевшими отношение к Одетте, управляло и руководило неосознанное чувство, что хотя, быть может, он не менее дорог ей, но вместе с тем и менее приятен, чем любой, самый скучный из верных Вердюренам, а потому, переносясь мыслью в общество, где все считали, что он – само очарование, в общество, куда его всячески старались заманить, где без него скучали, он вновь начинал верить, что есть более счастливая жизнь, и его уже тянуло к ней, как притягивает больного, которого несколько месяцев продержали в постели и на диете, напечатанное в газете меню официального завтрака или объявление о морском путешествии вокруг Сицилии.
Перед людьми из общества он извинялся за то, что не бывает у них, а перед Одеттой оправдывался в том, что заезжает к ней. В довершение всего он платил за свои приезды к ней (и в конце месяца задавал себе вопрос: поскольку он злоупотребил ее терпением и слишком часто у нее бывал, то не мало ли будет послать ей четыре тысячи франков?) и для каждого приезда подыскивал предлог: иногда это бывал подарок, иногда – какое-нибудь известие, которого она ожидала, иногда – встреча с де Шарлю, который направлялся к ней и, встретив по дороге Свана, потребовал, чтобы тот его проводил. Если же предлога не было, то он просил де Шарлю немедленно отправиться к Одетте и, начав разговор, вдруг его оборвать, якобы он вспомнил, что ему нужно что-то срочно сообщить Свану, так вот, не будет ли она, мол, так любезна и не пошлет ли за ним; чаще всего Сван ждал напрасно, а вечером де Шарлю сообщал ему, что потерпел неудачу. Итак, мало того, что Одетта теперь часто выезжала из Парижа, но и когда она оставалась в городе, они виделись редко, и если в ту пору, когда Одетта любила Свана, он постоянно слышал от нее: «Я всегда свободна» и «Какое мне дело до того, что подумают другие!», то теперь, стоило ему выразить желание повидаться с ней, она ссылалась на приличия или выдумывала, что занята. Когда он заговаривал о том, что ему хочется побывать на увеселении с благотворительной целью, на выставке, на премьере, словом, там, куда собиралась Одетта, – она отвечала, что он, как видно, добивается, чтобы их связь ни для кого уже не являлась тайной и что поступает он с ней как с уличной девкой. Чтобы их встречи в конце концов не прекратились совсем, Сван, осведомленный о том, что Одетта знает и очень любит моего двоюродного деда Адольфа, с которым он тоже был дружен, решил обратиться к нему с просьбой повлиять на Одетту и однажды пришел в его квартирку на улице Бельшас. Так как Одетта всегда говорила со Сваном о моем деде высоким слогом: «О, это совсем не то, что ты! В нашей дружбе есть для меня что-то необыкновенно прекрасное, возвышенное, упоительное. Вот он относится ко мне с уважением – он не станет показываться со мной в публичных местах», – то Сван был растерян и не знал, как приступить. Начал он с априорного утверждения совершенства Одетты, с аксиомы о ее серафической надмирности, с обнаружения ее недоказуемых добродетелей, понятие о которых не может быть выведено из опыта. «Я хочу с вами поговорить. Кто-кто, а вы-то знаете, что среди женщин нет равной Одетте, что это дивное существо, что это ангел. Но вы знаете и другое– вы знаете, что такое парижская жизнь. Всем прочим Одетта представляется не в том свете, как нам с вами. И вот находятся люди, которые утверждают, что я играю довольно смешную роль, – из-за этого она не хочет со мной встречаться на улице, в театре. Она так прислушивается к вашим мнениям – не могли ли бы вы замолвить за меня словечко, убедить ее, что она преувеличивает неприятности, которые могут ей грозить оттого, что я поклонюсь ей на улице?»
Дед посоветовал Свану некоторое время не встречаться с Одеттой, – так она, мол, еще сильнее к нему привяжется, – а Одетте посоветовал разрешить Свану видеться с нею где угодно. Несколько дней спустя Одетта рассказала Свану о постигшем ее разочаровании: мой дед такой же, как все, – он только что пытался овладеть ею. Сван хотел было тут же вызвать моего деда на дуэль – Одетта его отговорила, но при встрече с дедом Сван все-таки не подал ему руки. Сван очень жалел, что поссорился с моим дедом Адольфом: он надеялся поговорить с ним по душам и выяснить, как вела себя Одетта в Ницце, о чем до Свана дошли темные слухи. Мой дед Адольф имел обыкновение зимой жить в Ницце. И у Свана мелькала мысль, не там ли он познакомился с Одеттой. Один человек в присутствии Свана намекнул, что некто был, по всей вероятности, ее любовником, и это потрясло Свана. Но когда он узнавал что-нибудь такое, что, по его понятиям, ужаснуло бы его до того, как он про это узнал, и чему он отказывался бы тогда верить, в то же мгновение оно сливалось с его тоской, и он это принимал, он уже не постигал, как могло этого не быть. И каждая такая подробность прибавляла к портрету его любовницы, который он нарисовал себе, новую неизгладимую черту. В голове у Свана уже как будто укладывалось, что Одетта прославилась легкостью своего поведения, в чем он сам никогда бы ее не заподозрил, и что в Бадене и в Ницце, где она прежде жила по нескольку месяцев, она приобрела сомнительную популярность. Он попытался снова сблизиться кое с кем из прожигателей жизни и расспросить их, но они были осведомлены о его знакомстве с Одеттой, да он и сам боялся напомнить им о ней, навести их на ее след. До сих пор он считал, что нет ничего скучнее, чем космополитический дух Бадена и Ниццы, но теперь, допытавшись, что Одетта когда-то, быть может, вела рассеянную жизнь в этих веселых городах, и вместе с тем убедившись, что он так никогда и не узнает, что ее на это толкнуло: безденежье, которое благодаря Свану больше ее уже не тяготит, или блажь, которая всегда может вернуться, он в бессильной, слепой, доводящей до головокруженья тоске наклонялся над бездной, поглотившей первые годы Септената[164]164
Септенат – семилетие (1873—1879 гг.) президентства Мак-Магона.
[Закрыть], когда было принято проводить зиму на Английском бульваре[165]165
Английский бульвар – приморский бульвар в Ницце.
[Закрыть], а лето – под сенью баденских лип, – годы, в которых для Свана открывалась хотя и томящая, но лучезарная глубина, увиденная взором поэта. И Сван вложил бы в воссоздание мелких событий, происходивших на тогдашнем Лазурном побережье, если б только это помогло ему что-то постичь в улыбке или во взгляде Одетты, – таком, однако, открытом и простодушном, – больше пыла, чем поклонник прекрасного, который изучает документы, относящиеся к Флоренции XV века, чтобы как можно глубже проникнуть в душу «Весны», прекрасной Ванны[166]166
Прекрасная Ванна. – Речь идет об изображении Джованны Торнабуони на фреске виллы Лемми работы Боттичелли (1480-е годы), находящейся теперь в Лувре.
[Закрыть] или Боттичеллиевой Венеры[167]167
Боттичеллиева Венера. – Имеется в виду картина Боттичелли «Рождение Венеры» (ок. 1486 г.), находящаяся во флорентийском музее Уффици.
[Закрыть], Сван погружался в молчаливое ее созерцанье, в мечтанье – и слышал ее восклицанье: «Какой печальный у тебя вид!» Не так давно от убеждения, что она хороший человек, что таких, как она, наперечет, он перешел к убеждению, что она – содержанка, но иногда шел обратным путем: от Одетты де Креси, быть может находившейся в чересчур близких отношениях с кутилами, с бабниками, он возвращался мыслью к ее лицу с таким иногда мягким выражением, к ее человеколюбивой душе. Он говорил себе: «Ну и что ж, что вся Ницца знала, какова Одетта де Креси? Такие репутации, даже если для них есть какие-нибудь данные, создаются на основании чужих мнений». Он полагал, что эта легенда, – пусть даже правдивая, – не затрагивает сущности Одетты; что этот неистребимый и вредоносный дух от нее не исходит; что у этой женщины, – хоть ее, может быть, и сводили с пути истинного, – добрые глаза, отзывчивая душа н покорное тело, которое он держал в своих объятиях, которое он прижимал к себе, которое он ласкал; что когда-нибудь, если только он сумеет стать ей необходимым, вся ее жизнь будет принадлежать ему. У нее часто был усталый вид, с лица на время сходило выражение лихорадочной и радостной озабоченности чем-то неизвестным Свану и причинявшим ему боль; она поправляла волосы; ее лоб, все ее черты словно крупнели; и вот тут вдруг ее глаза золотисто лучились какою-нибудь простою человеческою мыслью, каким-нибудь добрым чувством, появляющимся у всех людей, когда они, наедине с самими собой, находятся в состоянии покоя или самоуглубленности. И тогда все лицо ее озарялось: так в пасмурный день облака на закате неожиданно расходятся, и все вокруг преображается. В такие минуты Сван готов был связать свою жизнь с Одеттой, связать свое будущее с ее будущим, в которое она сейчас, казалось, задумчиво вглядывалась; греховное возбуждение, по-видимому, не оставляло мути в ее жизни. Как бы ни были редки теперь эти мгновенья, все же они свое дело делали. С помощью памяти Сван связывал эти обрывки, восстанавливал пробелы и отливал как бы из золота Одетту добрую и утихомирившуюся, ради которой он потом (что будет видно из следующей части этого произведения) пойдет на жертвы, каких другая Одетта от него бы не добилась. Но как мало было этих мгновений и как редко он теперь виделся с ней! Даже вечерние свидания она назначала ему в последнюю минуту: рассчитывая на то, что Сван всегда свободен, она ждала, не придет ли к ней кто-нибудь еще. Ссылалась Одетта на то, что ей должны дать ответ по очень важному делу, и если даже она разрешала Свану прийти, а друзья, уже вечером, звали ее в театр или поужинать, она подпрыгивала от радости и второпях начинала переодеваться. Каждое движение Одетты приближало Свана к моменту расставания – к моменту, когда она в неудержимом порыве покинет его; наконец, совершенно готовая, в последний раз погружала она в зеркало блестящий от напряжения и от пристальности взгляд, подмазывала губы, выпускала на лоб прядь, просила подать ей небесно-голубого цвета манто с золотыми кисточками, и Свану становилось так грустно, что у Одетты вырывалось нетерпеливое движение, и она говорила: «Так-то ты благодаришь меня за разрешение побыть со мной до последней минуты! Я думала, что доставляю тебе этим удовольствие. В другой раз буду знать!» Иногда, рискуя навлечь на себя ее гнев, он старался вызнать, кто был ее спутником, и намеревался вступить в сговор с Форшвилем, который, наверное, мог бы дать ему интересующие его сведения.








