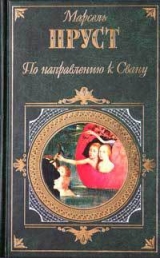
Текст книги "По направлению к Свану"
Автор книги: Марсель Пруст
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 30 страниц)
Иной раз по полуденному небу украдкой, без всякой торжественности, белая, словно облачко, скользила луна: так не занятая в спектакле актриса, надев свое обиходное платье, нарочно тушуясь, чтобы не обращать на себя внимание, забегает на минутку в зрительный зал посмотреть на товарищей. Я любил отыскивать ее изображение на картинах и в книгах, но эти произведения, попадавшиеся мне, во всяком случае, до того, как Блок приучил мой глаз и мысль воспринимать более тонкую гармонию, резко отличались от тех, в которых луна показалась бы мне красивой сейчас и в которых я не узнал бы ее тогда. Это был, например, роман Сентина[85]85
Сентин Ксавье (1798—1865) – французский писатель, автор чувствительных романов.
[Закрыть] или пейзаж Глейра[86]86
Глейр Шарль-Габриель (1808—1874) – французский салонный живописец.
[Закрыть], где она серебряным серпом отчетливо вырисовывается на небе, словом, одно из творений, которые были так же до наивности несовершенны, как мое тогдашнее художественное восприятие, и мое пристрастие к которым возмущало сестер бабушки. Они считали, что надо с детства воспитывать вкус на произведениях, которые по-настоящему начинаешь любить уже в зрелом возрасте. Вне всякого сомнения, они представляли себе художественные достоинства в виде материальных предметов, которые только слепой может не заметить, – медленное вызревание в твоем сердце соответствующих способностей здесь, мол, не обязательно.
Когда мы шли по направлению к Мезеглизу, то в Монжувене, на берегу большого пруда, у поросшего кустарником холма, нам виден был дом Вентейля. Мы здесь часто встречали его дочь – она мчалась в двуколке и сама правила. С некоторых пор она стала появляться вместе со своей старшей подругой, о которой в наших краях шла дурная слава и которая вдруг окончательно поселилась в Монжувене. Это вызвало толки: «Должно быть, бедняга Вентейль совсем ослеп, – он не обращает внимания на все, что про нее рассказывают, и позволяет дочери, – а ведь ее оскорбляет всякое «не к месту сказанное» слово, – жить под одной крышей с подобной женщиной! Он говорит, что она прекрасный человек, что у нее золотое сердце и что если б она развивала свои музыкальные способности, то из нее вышла бы выдающаяся пианистка. Он может быть уверен, что с его дочерью она занимается не музыкой». Вентейль утверждал, что именно музыкой; в самом деле, вот что замечательно: особа, находящаяся в телесной близости с другой, всегда вызывает восхищение у родственников этой последней душевными своими качествами. Плотская любовь, совершенно несправедливо очерненная, столь властно заставляет человека растрачивать весь имеющийся у него запас доброты и самоотверженности, что эти его свойства бросаются в глаза непосредственному его окружению. Доктор Перспье, которому густой бас и густые брови предоставляли возможность, сколько ему заблагорассудится, играть не подходившую к его внешним данным роль злоязычника, нимало не подрывая своей прочной и незаслуженной репутации добродушного ворчуна, умел насмешить до слез священника и кого угодно. «Так вот в чем дело, – грубым тоном говорил он. – Оказывается, она со своей подругой, мадмуазель Вентейль, занимается музыкой. Вы, я вижу, удивлены. Я-то ничего не знаю. Мне об этом сказал вчера сам папаша Вентейль. В конце концов, эта девица имеет полное право любить музыку. Я, например, против того, чтобы мешать развитию артистических способностей у детей. Вентейль, как видно, тоже. Да ведь он и сам занимается музыкой с подругой своей дочери. Не дом, а музыкальная школа, ей-богу! Чего вы смеетесь? Я хочу только сказать, что они чересчур увлекаются музыкой. На днях я встретил папашу Вентейля около кладбища. Он еле брел».
Тем, кто, как мы, замечали, что Вентейль избегает встреч со своими знакомыми, а завидев их, отворачивается, что он постарел за последние месяцы, что он весь погружен в свое горе, что у него одна-единственная цель в жизни: счастье дочери, что он проводит все дни на могиле жены, – нетрудно было догадаться, что он скоро умрет от горя и что до него не могут не доходить толки. Он знал, что говорят, и, может быть, даже верил слухам. Видимо, нет такого высоконравственного человека, которого сложность обстоятельств не заставила бы жить бок о бок с пороком, хотя бы он самым решительным образом его осуждал, но только он не сразу узнаёт его под маской необыкновенного, которую тот надевает, чтобы войти к нему в доверие, а потом причинить ему боль: под маской непонятных слов, сказанных однажды вечером, необъяснимого поведения существа, которое он за многое любит. Для такого человека, как Вентейль, должно было быть особенно мучительно мириться с одним из положений, которые неправильно считаются уделом мира богемы: эти положения возникают всякий раз, как порок испытывает потребность обеспечить себе убежище и безопасность, причем порок этот развивается в человеке сызмала, и развивает его сама природа, иной раз просто-напросто смешивая достоинства отца и матери, как она смешивает цвет их глаз. Но то, что Вентейль, может статься, был осведомлен о поведении дочери, не мешало ему по-прежнему боготворить ее. Фактам недоступен мир наших верований – не они их породили, не они и разрушают их; они вольны самым настойчивым образом опровергать их, но это их не подрывает, – целая лавина бед или болезней, беспрерывно обрушивающихся на какую-нибудь семью, не заставит ее усомниться в Божьем милосердии или в искусстве врача. Но когда Вентейль, думая о дочери и о себе, вспоминал о своей репутации, когда он мысленно пытался вновь занять вместе с дочерью то место, которое им обоим отводило общественное мнение, он судил себя и дочь точно таким же судом, каким судил бы их наиболее враждебно настроенный к ним житель Комбре, ему представлялось, что он и его дочь опустились на самое дно, и в его манерах стала проглядывать униженность, почтительность к вышестоящим лицам, на которых он смотрел теперь снизу вверх (хотя еще так недавно они были гораздо ниже его), стремление подняться до них, – словом, то, что является почти неизбежным следствием падения. Как-то раз, когда мы со Сваном шли по одной из комбрейских улиц, из-за угла вышел Вентейль и налетел на нас, и тут Сван с вызывающей отзывчивостью светского человека, отрешившегося от всяких предрассудков в области морали и усматривающего в позоре другого человека лишь повод выказать к нему благожелательность, проявление которой тем больше льстит самолюбию проявляющего ее, что он чувствует, насколько она дорога опозоренному, завел с Вентейлем длинный разговор, хотя до этой встречи не сказал с ним и двух слов, и, перед тем как распрощаться, попросил его как-нибудь прислать свою дочь в Тансонвиль, чтобы она поиграла. Два года назад подобное приглашение возмутило бы Вентейля, а сейчас он был преисполнен благодарности и только из скромности счел за нужное не принять его. Любезность Свана по отношению к его дочери уже сама по себе казалась ему благородной и неоцененной нравственной поддержкой, и он рассудил, что, пожалуй, лучше не прибегать к ней, а зато получать чисто платоническое наслаждение от сознания, что она у тебя есть.
– Какой прелестный человек! – когда Сван с нами расстался, сказал Вентейль с тем благоговейным восторгом, какой испытывают умные и красивые мещанки, преклоняющиеся перед герцогиней и находящиеся под ее обаянием, хотя бы она была уродлива и глупа. – Какой прелестный человек! И какое несчастье – эта его неудачная женитьба!
И тут, – в силу того, что лицемерие укореняется в душе у самых чистосердечных людей и они, разговаривая с кем-либо, не выказывают своего истинного отношения к нему, а стоит ему отойти, и они говорят то, что думают, – мои родные вместе с Вентейлем пожалели неудачно женившегося Свана во имя тех принципов и приличий, которые якобы не нарушались в Монжувене, именно потому, что они с Вентейлем смотрели на вещи одинаково, как порядочные люди одной породы, они делали вид, что это сомнению не подлежит. Вентейль так и не послал дочь к Свану. И об этом особенно жалел Сван. Расставшись с Вентейлем, он всякий раз вспоминал, что давно уже собирается у него спросить про одного человека, который, как он предполагал, приходился Вентейлю родственником. И он твердо решил не забыть узнать про него, когда дочь Вентейля приедет в Тансонвиль.
Прогулка по направлению к Мезеглизу была короче другой нашей прогулки в окрестности Комбре, и в неустойчивую погоду мы предпочитали ходить туда, а так как там все-таки часто перепадали дожди, то мы никогда не теряли из виду опушки русенвильского леса, в чаще которого можно было укрыться.
Солнце часто пряталось за облаком, изменяло его форму и позлащало края. Казалось, будто вся жизнь замирала на равнине, утрачивавшей блеск, но не освещение, а в это время сельцо Русенвиль с удручающей четкостью и тщательностью вырезывало на небе рельеф своих белых гребней. Легкий порыв ветра срывал ворона с дерева, и ворон пропадал вдали, а напротив белеющего края небес синели дальние леса, словно нарисованные на картинах в одну краску, висящих в простенках старых доков.
А иногда шел дождь, которым грозила нам настурция в витрине у оптика; капли падали с неба сомкнутым строем, какой соблюдают перелетные птицы, пускающиеся в путь одновременно. Они не отрывались одна от другой, они не падали наугад в стремительном своем низвержении, – нет, каждая, не теряя своего места в строю, увлекала за собой следующую, и небо от этого становилось еще темнее, чем при отлете ласточек. Мы прятались в лесу. Но вот уж и кончился, по-видимому, их перелет, и теперь только редкие капли, более слабые, более медлительные, все еще прибывали. Мы покидаем наше убежище, оттого что каплям хорошо на листьях, – земля почти уже высохла, а капли не спешат: сверкая под лучами солнца, они нежатся на жилках у самого края, а затем соскальзывают с высоты ветки прямо нам на нос.
Часто мы укрывались от дождя вперемежку со святыми и библейскими патриархами на паперти Андрея Первозванного. Какая это была французская церковь! Святые, короли-рыцари с лилией в руке, бракосочетания и похороны были изображены так, как их могла бы себе представить Франсуаза. Еще скульптор рассказал анекдоты об Аристотеле и Вергилии в том же духе, в каком Франсуаза с удовольствием толковала на кухне о Людовике Святом, точно она была с ним знакома, – толковала обыкновенно для того, чтобы пристыдить сопоставлением дедушку и бабушку, которые были не такие «справедливые». Чувствовалось, что представления средневекового художника и средневековой крестьянки (дожившей до XIX века) о древнем и христианском мире, в одинаковой мере неточные и простодушные, были почерпнуты не из книг, а из предания, старинного и непосредственного, непрерывавшегося, устного, искаженного, неузнаваемого и живого. Еще одного обитателя Комбре, тайно преображенного, я узнавал в готической скульптуре Андрея Первозванного-в-полях: это был Теодор, мальчик, служивший у Камю. И я не ошибался: Франсуаза так остро ощущала в нем отчий край и своего современника, что, когда тетя Леония тяжело заболевала и Франсуаза была не в силах без посторонней помощи ворочать ее на постели и переносить в кресло, она предпочитала звать Теодора – лишь бы не дать судомойке подняться к тете, а то она еще, не дай Бог, «покажется» госпоже. И вот этот малый, с полным основанием стяжавший себе славу паршивца, был преисполнен духа, веявшего от Андрея Первозванного, и, в частности, почтения, которое Франсуаза считала необходимым проявлять к «несчастным больным», к своей «несчастной госпоже», и когда Теодор приподнимал тетину голову, его лицо принимало наивное и ревностное выражение, как на барельефах у ангелочков, теснившихся со свечками в руках вокруг Божьей Матери в час ее успения, и вид у ангелочков был такой, как будто эти высеченные из камня лики, серые и голые, были, точно деревья, погружены в зимнюю спячку, точно они копят силы, чтобы потом ожить и вновь зацвести бесчисленными крестьянскими лицами, благочестивыми и хитрыми, как у Теодора, раскрашенными румянцем спелого яблока. Еще там была, но только не лепившаяся, как ангелочки, к каменной стене, а, чтобы предохранить ноги от сырости, словно на табурете стоявшая у паперти на постаменте, какая-то святая выше человеческого роста, круглолицая, полногрудая, грудью натягивавшая покров, подобно тому как гроздь спелого винограда натягивает мешок, с узким лбом, с курносым и задорным носом, с глубоко сидевшими глазами, со здоровым, загрубелым и бестревожным лицом, как у местной крестьянки. Это сходство, неожиданно для меня очеловечивавшее статую, нередко удостоверяла деревенская девушка, как и мы, прятавшаяся от дождя, и ее присутствие, наводившее на мысль о листьях ползучего растения, обвивающегося вокруг листьев, высеченных из камня, словно имело целью дать нам возможность путем сравнения с природой судить о том, насколько правдиво произведение искусства. Вдали, перед нами – земля обетованная, а быть может, проклятая Богом: Русенвиль, и вот этот Русенвиль, в стенах которого я никогда не был, то, когда дождь здесь уже не шел, все еще подвергался каре, подобно библейскому селению, и его осыпали косые стрелы ливня, впивавшиеся в жилища, то получал прощение от Бога-Отца, который ниспускал на него неодинаковой длины золотые бахромчатые стебли своего вновь показавшегося солнца, напоминавшие лучи на потире.
Бывало и так, что погода портилась безнадежно, тогда уж ничего не оставалось делать, как возвращаться и сидеть дома. В сумраке и от влажного воздуха равнина становилась похожей на море, а вдалеке одинокие дома, разбросанные по склону холма, погруженного во тьму и в воду, сверкали, словно кораблики, свернувшие паруса и заночевавшие в открытом море. Но что такое дождь, что такое гроза! Летом дурная погода – это всего лишь скоропреходящее, поверхностное раздражение погоды хорошей, глубоко залегающей и постоянной, резко отличающейся от неустойчивой и быстротечной зимней погоды, ибо летнее вёдро, установившееся и оплотневающее в виде густой листвы, которую поливает дождь, не портя, однако, ее стойкого и неизменного в своей жизнерадостности настроения, на весь сезон повесило на улицах городка, на стенах домов и садовых оградах лиловые и белые шелковые флаги. Читая перед обедом в маленькой гостиной, я слышал, как струилась с наших каштанов вода, но я знал, что ливень только лакирует листья и что они провисят на ветвях всю дождливую ночь как залоги лета, обеспечивающие непрерывность хорошей погоды; я знал, что дождь волен идти сколько угодно – все равно завтра над белой оградой Тансонвиля будут колыхаться столь же многочисленные, как и сегодня, «сердечки» листиков; и у меня не болела душа, когда я видел, как тополь на улице де Першан просит у грозы пощады и в отчаянии склоняется перед ней; у меня не болела душа, когда из глубины сада до моего слуха доносились последние раскаты грома, рокотавшего в кустах сирени.
Если хмурилось уже с утра, мои родные не гуляли, и я сидел дома. В такие дни я потом ходил один по направлению к Мезеглиз-ла-Винез, но это было уже в ту осень, когда нам пришлось съездить в Комбре по поводу наследства тети Леонии, потому что она наконец умерла, и смерть ее была торжеством как для тех, кто утверждал, что нездоровый образ жизни в конце концов сведет ее в могилу, так и для тех, кто всегда держался мнения, что ее заболевание не воображаемое, а органическое, бесспорное наличие которого теперь, когда она скончалась, не могут не признать даже скептики, но никого особенно не огорчила, за исключением одного-единственного существа; зато для него это было страшное горе. Последние две недели Франсуаза ни на шаг не отходила от умирающей тети, не раздевалась, никому не позволяла за ней ухаживать и до самого погребения не расставалась с ее телом. Тут только мы поняли, что вечный страх, который внушали Франсуазе упреки моей тети, ее подозрения, вспышки развили у Франсуазы чувство, которое мы принимали за ненависть, но которое на самом деле представляло собой преклонение и любовь. Истинной ее повелительницы, чьи намерения невозможно было предугадать, чьи козни трудно было расстроить, чье доброе сердце легко было смягчить, ее владычицы, ее загадочной и всемогущей монархини не стало. Мы теперь мало что для нее значили. Прошло время, когда, проводя каникулы в Комбре, мы пользовались у Франсуазы таким же уважением, как и тетя. В ту осень у моих родителей все время уходило на разные формальности, на переговоры с нотариусами, фермерами, так что гулять им было некогда, да и погода не благоприятствовала, поэтому они отпускали меня одного пройтись по направлению к Мезеглизу, закутывая от дождя в длинный плед, который я тем охотнее накидывал на плечи, что шотландские его клеточки, как я чувствовал, оскорбляли Франсуазу, ибо мысль, что цвет одежды не имеет никакого отношения к человеческому горю, была недоступна ее пониманию, да и вообще она была недовольна нами за то, что мы, по ее мнению, недостаточно тяжело переживаем кончину тети: ведь мы же не устроили торжественного поминального обеда, говорили о ней обыкновенным тоном, а я даже иногда напевал. Я убежден, что в книге, – этим я был похож на Франсуазу, – подобное представление о горе в духе «Песни о Роланде» и изваяний на паперти Андрея Первозванного-в-полях вызвало бы у меня сочувствие. Но когда Франсуаза была тут, злой дух наущал меня рассердить ее, и я при всяком удобном случае говорил ей, что жалею тетю, так как она, несмотря на ее чудачества, была хорошая женщина, а совсем не потому, что она моя тетя, будь она другим человеком, я бы ее терпеть не мог, и ее смерть меня бы нисколько не огорчила, а между тем в книге такие рассуждения показались бы мне вздорными.
Если Франсуаза, подобно поэту, полная неясных мыслей о скорби, полная семейных преданий, оправдывалась, что не может опровергнуть мои теории, и говорила: «Я не больно речиста», – мой насмешливый и грубый здравый смысл, достойный здравого смысла доктора Перспье, выслушав это признание, торжествовал; если же она добавляла: «Все-таки она ваша родильница, родильницу завсегда надо почитать», – я пожимал плечами и говорил себе: «Что мне за охота ввязываться в спор с безграмотной женщиной, которая путает слова!» – так, судя Франсуазу, я разделял узкий взгляд тех, что в сценах обыденной жизни отлично играют роль людей, рассуждающих беспристрастно, а на самом-то деле относящихся к себе подобным с глубочайшим презрением.
В ту осень прогулки были мне тем более приятны, что я выходил из дому, несколько часов подряд просидев за книгой. Устав читать все утро в комнате, я накидывал плед и уходил; мое тело, вынужденное долгое время сохранять неподвижное положение и накапливавшее, сидя на месте, живость и быстроту, теперь, как пущенный волчок, испытывало потребность растрачивать их без малейшего удержу. Стены домов, тансонвильская изгородь, деревья в русенвильском лесу, кусты, к которым прислонился Монжувен, получали удары зонтом или тросточкой, слышали радостные крики: и в ударах и в криках находили выражение смутные мысли, волновавшие меня и не обретавшие покоя в уяснении, – вот почему они предпочитали медленному и трудному просветлению наслажденье легче дающегося мгновенного взрыва. Большинство мнимых толкований того, что мы ощущаем, есть не что иное, как наше стремление отделаться от них, заставить их выйти из нас в таком расплывчатом обличье, которое мешает нам постичь их. Пытаясь отдать себе отчет, чем я обязан прогулкам по направлению к Мезеглизу, пытаясь осмыслить скромные открытия, для которых они служили случайной рамкой или на которые они меня вдохновляли, я припоминаю, что именно в ту осень, на прогулке, возле заросшего кустарником холма, прикрывающего Монжувен, я впервые был поражен несоответствием между нашими впечатлениями и обычным их выражением. После часовой веселой борьбы с дождем и ветром я вышел на берег монжувенского пруда, к лачуге, крытой черепицей, где садовник Вентейля хранил свой инструмент, и тут внезапно проглянуло солнце, и его вымытая ливнем позолота заблестела как новенькая на небе, на деревьях, на стене лачуги, на ее еще мокрой черепичной крыше, по гребню которой прогуливалась курица. Ветер заставлял проросшие на стене травинки принимать горизонтальное положение и раздувал перья на курице, так что и травинки и перья отдавались на волю ветра до самого своего основания с покорностью неодушевленных, невесомых предметов. Черепичная крыша провела в пруду, который вновь стал прозрачным, розовую прожилку – прежде я на нее не обращал внимания. Увидев на воде и на стене бледную улыбку, отвечавшую улыбке солнца, я, размахивая сложенным зонтом, в полном восторге закричал: «Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты!» Но я тут же почувствовал, что не имею права довольствоваться этими ничего не значащими словами, что я должен пристальнее вглядеться в мое восхищение.
И в это самое мгновенье – благодаря проходившему мимо крестьянину с уже довольно угрюмым выражением лица и ставшим еще угрюмее после того, как я чуть-чуть не ткнул его зонтом в лицо, вследствие чего на мои слова: «В такую славную погоду приятно прогуляться, правда?» – он ответил кисло, – я понял еще, что одни и те же чувства не рождаются у разных людей одновременно, в предуказанном порядке. Впоследствии, всякий раз, когда после долгого чтения мне припадала охота поговорить, товарищ, с которым мне не терпелось перекинуться словом, уже наговорился всласть и теперь мечтал об одном: чтобы ему не мешали читать. А если я с нежностью думал о моих родных, если я принимал наиблагоразумнейшие решения, которые должны были бы особенно порадовать их, то именно в это время они узнавали о моем давно мной забытом грешке и, когда я бросался их целовать, делали мне строгий выговор.
Иной раз к возбуждению, вызванному одиночеством, примешивалось иного рода возбуждение, и я не знал, какое из них предпочесть: это другое возбуждение возникало из желания неожиданно увидеть крестьянку и сдавить ее в объятиях. Вызываемое этим желанием радостное чувство рождалось внезапно, когда у меня в голове роились самые разные мысли, так что я не успевал точно определить, откуда оно, и я воображал, что это высшая степень наслаждения, которое я получал от мыслей. Я находил дополнительную прелесть во всем, что сейчас входило в мое сознание: в розовом отблеске черепичной крыши, в траве на стене хижины, в Русенвиле, куда меня тянуло уже давно, в его лесу, в колокольне его церкви, в том необычном смятении, благодаря которому все эти явления становились еще желаннее: ведь мне казалось, будто они-то и вызывают во мне смятение и будто единственная цель этого смятения – как можно скорее, надувая мой парус сильным, мне неведомым попутным ветром, перенести меня к ним. Жажда встречи с женщиной прибавляла в моих глазах к очарованию природы нечто еще более возбуждающее, зато очарование природы расширяло ограниченное очарование женщины. В моем представлении красота деревьев была вместе с тем и ее красотой, а ее поцелуй должен был раскрыть мне душу этих далей, душу Русенвиля, душу прочитанных в этом году книг; мое воображение черпало силы в соприкосновении с чувственностью, между тем как чувственность охватывала все области воображения, и моя жажда была уже неутолима. Вот почему – так бывает, когда нам случается замечтаться на лоне природы, когда действие привычки приостанавливается, а наши отвлеченные представления о вещах отходят на второй план, и мы начинаем глубоко верить в неповторимость мест, где мы находимся, в то, что они живут своей, особенной жизнью, – я видел в прохожей, которую пыталось притянуть к себе мое желание, не просто представительницу некоего общего типа, типа женщины, но вызываемое необходимостью, естественное порождение именно этой земли. Надо заметить, что земля и живые существа – все, что не было мною, – казались мне тогда более ценными, более значительными, живущими более реальной жизнью, чем это представляется людям уже сложившимся. Землю от живых существ я не отделял. Я вожделел к крестьянке из Мезеглиза или из Русенвиля, к рыбачке из Бальбека так же, как вожделел к самому Мезеглизу или Бальбеку. Если б я мог произвольно изменить обстановку, наслаждение, какого я ожидал от этих женщин, показалось бы мне менее подлинным, я бы утратил веру в него. Сблизиться в Париже с рыбачкой из Бальбека или с крестьянкой из Мезеглиза – это было для меня все равно, что получить в подарок от кого-нибудь раковины, которые я никогда не видел на берегу моря, или папоротник, который я никогда не видел в лесу, это значило бы отнять у наслаждения, какое доставила бы мне женщина, те наслаждения, среди которых мне его представляло воображение. Но бродить по русенвильским лесам и не обнять крестьянку – это было все равно, что не знать, где схоронен клад в этих лесах, не знать, в чем глубина их красоты. Я рисовал себе эту девушку не иначе как в теневых пятнах, которыми ее покрывали листья, да и вся она была для меня местным растением, но только высшей породы и чье строение дает возможность с особенной силой ощутить глубокое своеобразие здешних мест. Мне тем легче было в это верить (как и в то, что ее ласки, которые помогли бы мне почувствовать это своеобразие, тоже были бы необыкновенными и доставили бы мне наслаждение, какого с другой женщиной мне бы не изведать), что я долго пребывал в том возрасте, когда это наслаждение мы еще не отделяем от обладания разными женщинами, с которыми мы его испытали, когда оно еще не стало для нас общим понятием, порождающим взгляд на женщин как на сменяющиеся орудия всегда одинакового наслаждения. В том возрасте это наслаждение не существует даже как нечто обособленное, отъединенное, как осознанная цель сближения с женщиной, как причина его предвестницы – тревоги. Мы даже вряд ли мечтаем о нем, как обычно мечтают о предвкушаемом наслаждении; мы всё готовы приписать обаянию женщины: ведь мы же не думаем о себе – мы думаем, как бы выйти за пределы своего «я». Неясно предощущаемое, неискоренимое, затаенное, это наслаждение в тот миг, когда мы его испытываем, обладает только одной способностью: доводить наслаждения от нежных взглядов, от поцелуев той, что сейчас с нами, до такого исступления, что главным образом мы сами воспринимаем его как нечто близкое восторженной благодарности нашей подруге за ее доброту и за трогательное предпочтение, которое она оказала нам и которое мы измеряем ее милостями, тем счастьем, каким она одаряет нас.
Увы, напрасно я молил башню русенвильского замка послать мне навстречу какую-нибудь юную сельчанку, взывал же я к башне, потому что она была единственной моей наперсницей, которой я поверял первые мои желания, и, глядя с верху нашего дома в Комбре, из пахнувшей ирисом комнатки, и только эту башню и видя в четырехугольнике полуотворенного окна, испытывал героические колебания путешественника, отправляющегося в неведомые края, или человека, в отчаянии решившегося на самоубийство, и, изнемогая, прокладывал в себе самом новую дорогу, казавшуюся мне дорогою смерти, прокладывал до тех пор, пока на листьях дикой смородины, тянувшихся ко мне, не намечался некий естественный след, напоминавший след, оставляемый улиткой. Напрасно я обращался к башне с мольбой во время прогулки. Напрасно впивался взглядом в окрестности, надеясь, что он притянет женщину. Так я мог дойти до самого Андрея Первозванного-в-полях; я не встречал крестьяночку, которая неизменно попадалась мне на пути, когда я шел с дедом и не мог заговорить с ней. Я бесконечно долго смотрел на ствол далекого дерева, из-за которого она показывалась и потом шла мне навстречу; обнятая моим взглядом даль по-прежнему оставалась безлюдной; темнело; теперь мое внимание уже ничего не ожидало и все-таки не отвлекалось от бесплодной почвы, от истощенной земли как бы в чаянии таящихся под нею живых существ; и уже не весело, а в ярости ударял я по деревьям русенвильского леса, из-за которых никто не появлялся, точно это были деревья, нарисованные на полотне панорамы, – ударял до тех пор, пока, – хоть и трудно мне было примириться с мыслью, что я вернусь домой, так и не сжав в объятиях желанную женщину, – вынужденный сознаться, что случайная встреча становится все менее вероятной, не поворачивал назад, в Комбре. А если бы даже я и повстречался с женщиной, отважился ли бы я заговорить с ней? Я боялся, как бы она не подумала, что я сумасшедший; я уже не верил, что другие поймут меня, я уже не верил, что желания, возникавшие у меня во время прогулок и никогда не осуществлявшиеся, не утрачивают своей подлинности вовне. Теперь они представали передо мной как чисто субъективные, хилые, призрачные создания моего темперамента. У них уже не было связи с природой, с действительностью, которая теперь теряла в моих глазах всякое очарование, всякое значение и превращалась в условную рамку моей жизни – наподобие той, какою служит для вымысла, воплощенного в романе, вагон, на скамейке которого пассажир читает, чтобы убить время.
Быть может, на основе впечатления, которое явилось у меня тоже неподалеку от Монжувена, но только несколько лет спустя, – впечатления, тогда еще смутного, – я гораздо позже составил себе представление о садизме. Дальше будет видно, что в силу совсем других причин воспоминание об этом впечатлении сыграет важную роль в моей жизни. Это было в очень жаркую пору; родители уезжали на целый день и разрешили мне погулять подольше; и вот, дойдя до монжувенского пруда, чтобы полюбоваться отражением черепичной крыши, я лег и заснул под кустом, на холме, возвышавшемся над домом, там, где я поджидал отца, когда он заходил к Вентейлю. Проснулся я, когда почти уже совсем стемнело, хотел было встать, но увидел мадмуазель Вентейль (узнал я ее с трудом, так как встречался с ней в Комбре не часто, да и то когда она была еще девочкой, а теперь она уже превращалась в девушку): должно быть, она только что пришла домой и стояла передо мной, совсем близко, в той комнате, где ее отец принимал моего отца и где она теперь устроила себе маленькую гостиную. Окно было приотворено, лампа горела, мне было видно каждое движение мадмуазель Вентейль, а она меня не видела, но если бы я двинулся и затрещали бы кусты, она услышала бы и подумала, что я за ней подсматривал.
Ее отец недавно умер, и она была в глубоком трауре. Мы у нее не были: мою мать удержала одна-единственная добродетель, способная ставить предел ее отзывчивости: нравственность, но ей было глубоко жаль сиротку. Мама помнила грустный конец жизни Вентейля, сперва всецело поглощенного заботами матери и няньки, которых он заменял своей дочери, потом – горем, какое причинила ему дочь; мама так и видела перед собой страдальческое выражение, последнее время не сходившее с лица старика; ей было известно, что он не стал переписывать набело свои произведения последних лет – слабенькие вещицы старого учителя музыки, бывшего сельского органиста, о которых у нас было такое мнение, что сами по себе они не представляют большой ценности, но мы не отзывались о них пренебрежительно потому, что они были очень дороги самому Вентейлю: они составляли смысл его жизни до того, как он посвятил свою жизнь дочери, хотя большую их часть он даже не записывал, а держал в памяти, те же, что были записаны на клочках, прочтению не поддавались, и ожидала их безвестность; моя мать не могла отделаться также от мысли о другом, еще более жестоком ударе, постигшем Вентейля: у него была отнята надежда на честное и почетное счастье дочери; представляя себе всю глубину отчаяния бывшего учителя, дававшего уроки музыки моим тетушкам, она скорбела всей душой и с ужасом думала о той по-иному гнетущей скорби, которая должна была мучить мадмуазель Вентейль, – скорби, к которой постоянно примешивались угрызения совести от сознания, что, в сущности, это она убила отца. «Бедный Вентейль! – говорила моя мать. – Он жил для дочери и умер из-за нее, так и не получив награды. Получит ли он ее после смерти и что это будет за награда? Вознаградить его может только дочь».








