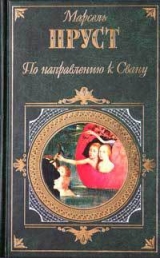
Текст книги "По направлению к Свану"
Автор книги: Марсель Пруст
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц)
При каждой новой встрече отец снова заговаривал с Легранденом о Бальбеке, донимал его расспросами, но – тщетно; если б мы продолжали к нему приставать, то Легранден, подобно сведущему мошеннику, употребляющему на фабрикацию поддельных палимпсестов столько труда и знаний, что сотой их доли было бы достаточно, чтобы он, избрав более почтенное занятие, имел больше дохода, в конце концов создал бы целую этику пейзажа и небесную географию Нижней Нормандии, но так и не признался бы, что в двух километрах от Бальбека живет его родная сестра, и ни за что не дал бы к ней рекомендательного письма, мысль о котором не внушала бы ему, впрочем, такого ужаса, если б он был твердо уверен, – а он мог бы быть уверен: он же знал характер моей бабушки, – что мы к нему не прибегнем.
* * *
Чтобы успеть зайти к тете Леонии до ужина, мы гуляли недолго. Первое время после нашего приезда в Комбре темнело все еще рано, и когда мы доходили до улицы Святого Духа, на окнах нашего дома рдел отблеск заката, рощи кальвария опоясывала пурпурная лента, а еще дальше эта же лента отражалась в пруду, и ее пламя в обычном сочетании с довольно резким холодом рисовало в моем воображении огонь, на котором жарился в это время цыпленок, обещавший мне, вслед за поэтическим блаженством прогулки, блаженство чревоугодия, отдыха и тепла. Когда же мы возвращались с прогулки летом, солнце еще не заходило, и, пока мы сидели у тети Леонии, его свет, снизившийся и бивший прямо в окно, запутывался в широких занавесках, дробился, распылялся, просеивался, инкрустировал крупинки золота в лимонное дерево комода и косо, с той мягкостью, какую он приобретает в лесной чаще, озарял комнату. Однако были такие редкие дни, когда мы уже не заставали на комоде непрочных инкрустаций, при повороте на улицу Святого Духа мы уже не видели на окнах закатного отсвета, пруд у подножья кальвария не пламенел, иной раз он становился опаловым, и его от одного берега до другого пересекал длинный, постепенно расширявшийся и размельченный всеми его морщинками луч месяца. В такие дни, подходя к дому, мы различали силуэт на пороге, и мама мне говорила:
– Ах, боже мой! Да ведь это Франсуаза поджидает нас, – наверно, тетя беспокоится: запоздали мы сегодня. – Не тратя времени на раздеванье, мы спешили успокоить тетю Леонию и доказать ей, что вопреки тому, что она себе навоображала, с нами ничего не случилось, мы ходили «по направлению к Германту», а тетя должна же знать, что когда предпринимаешь такую прогулку, то время рассчитать невозможно.
– Ну вот, Франсуаза! – восклицала тетя. – Я же вам говорила, что они пошли по направлению к Германту! Как они, наверно, проголодались-то, Господи! А ваша баранина, наверно, пережарилась. Разве можно приходить так поздно? Значит, вы ходили по направлению к Германту?
– Я думала, вы знаете, Леония, – отвечала мама. – Мне показалось, что Франсуаза видела, как мы выходили через калитку.
Дело в том, что в окрестностях Комбре было два «направления» для прогулок, столь противоположных, что мы выходили из дому через разные двери, смотря по тому, в каком направлении мы собирались идти: по направлению к Мезеглиз-ла-Винез, которое иначе называлось «направлением Свана», так как дорога здесь проходила мимо его именья, или по направлению к Германту. Откровенно говоря, я знал не самый Мезеглиз, а направление к нему да незнакомых людей, приходивших по воскресеньям погулять в Комбре, – людей, которых даже тетя «совсем не знала» и которые на этом основании относились к числу «людей, должно быть, из Мезеглиза». А вот Германт я узнал лучше, но только произошло это значительно позднее, и если Мезеглиз на протяжении всего моего отрочества оставался для меня не менее недоступным, чем горизонт, если, как бы далеко мы ни зашли, его утаивали от наших взоров складки местности, уже непохожей на комбрейские места, то Германт был для меня скорее воображаемым, чем реальным, пределом своего направления, неким абстрактным географическим наименованием, чем-то вроде линии экватора, полюса, востока. Тогда «идти на Германт», чтобы попасть в Мезеглиз, или наоборот показалось бы мне столь же бессмысленным, как идти на восток, чтобы попасть на запад. Мой отец всегда говорил о направлении в Мезеглиз как о самой красивой долине, какую он когда-либо видел, а о направлении в Германт – как о характерном речном пейзаже, и они представлялись мне двумя разными сущностями, я наделял их той внутренней связью, тем единством, какими обладают лишь создания нашей мысли; малейшая частица каждой из них казалась мне драгоценной, мне казалось, что в ней проявляется их превосходство, тогда как, прежде чем ступить на священную землю любого из этих направлений, мы уже начинали смотреть на проложенные вокруг идеального вида равнины и идеального речного пейзажа чисто материальные дороги не более внимательно, чем завзятый театрал смотрит на улочки, прилегающие к театру. Но еще больше, чем километры, разделявшие эти два направления, их разделяло расстояние между частями моего мозга, которыми я о них думал, одно из тех умозрительных расстояний, что только отдаляют и отдаляют, разъединяют и помещают в разные плоскости. Грань между двумя направлениями становилась все резче потому, что мы никогда не ходили на прогулку и туда и сюда – сегодня мы шли по направлению к Мезеглизу, завтра к Германту, и это делало их непознаваемыми одно для другого, это их, если можно так выразиться, заключало, вдали одно от другого, в закрытые и несообщавшиеся сосуды дней.
Когда мы собирались идти по направлению к Мезеглизу, то выходили (не очень рано и даже если небо было облачным, так как прогулка предстояла недолгая и далеко не уводила), как будто нам все равно было, куда идти, через парадную дверь тетиного дома, на улицу Святого Духа. С нами здоровался оружейник, мы опускали письма в почтовый ящик, мимоходом говорили Теодору от имени Франсуазы, что у нас вышло масло или кофе, и, пройдя город, шли по дороге, тянувшейся вдоль белой ограды парка Свана. Когда мы только еще приближались к ограде, нас встречал выходивший к прохожим навстречу запах сирени. А сама сирень с любопытством свешивала над оградой окруженные зелеными, свежими сердечками листьев султаны из лиловых или белых перьев, блестевших даже в тени от солнечного света, в котором они выкупались. Несколько сиреневых кустов, наполовину скрытых домиком под черепичной крышей, где жил сторож, – домиком, носившим название Дома стрелков, увенчивало его готический щипец розовым своим минаретом. Нимфы весны показались бы вульгарными рядом с этими юными гуриями, вносившими во французский сад чистые и живые тона персидских миниатюр. Мне так хотелось обвить руками гибкий их стан, притянуть к себе звездчатые локоны их душистых головок, но мы шли, не останавливаясь: после женитьбы Свана мои родные перестали бывать в Тансонвиле, и, чтобы не создавалось впечатления, будто мы заглядываем в парк, мы сворачивали с дороги, тянувшейся вдоль ограды и выходившей прямо в поле, и шли туда же, но окольным путем, заставлявшим нас давать изрядного крюку. Как-то раз дедушка обратился к моему отцу:
– Помните, Сван вчера сказал, что по случаю отъезда его жены и дочери в Реймс он собирается на один день в Париж? Раз дамы уехали, мы могли бы пройти мимо парка, – это сильно сократило бы нам расстояние.
Мы постояли у ограды. Сирень отцветала; на некоторых кустах высокие лиловые люстры еще вздували хрупкие пузырьки цветов, но на многих, там, где еще неделю назад бушевала в листве их благоуханная пена, блекла опавшая, потемневшая, полая накипь, сухая и ничем не пахнувшая. Дедушка показывал отцу, в какой части парка все осталось по-прежнему и что изменилось с того дня, когда он с отцом Свана гулял здесь в день смерти его жены, и, воспользовавшись случаем, опять рассказал об этой прогулке.
От нас к дому поднималась залитая солнцем аллея, обсаженная настурциями. Справа, в ровной низине, раскинулся парк. Высокие деревья, окружавшие пруд, выкопанный родителями Свана, бросали на него густую тень; но даже когда человек создает что-нибудь в высшей степени искусственное, работает он над природой; иные места никому не уступают своего господства; они с незапамятных времен сохраняют в парке отличительные свои знаки, как если бы человек ни во что здесь не вмешивался, как если бы глушь вновь и вновь обступала их со всех сторон, принимая по необходимости их очертания и напластовываясь на творения человеческих рук. Так, в конце аллеи, спускавшейся к искусственному пруду, образовался двуслойный, сплетенный из незабудок и барвинка изящный естественный голубой венок, окружавший светотень водной поверхности, а над посконником и водяными лютиками на мокрых ножках, с царственною небрежностью склоняя мечи, простирал взлохмаченные фиолетовые и желтые, в виде лилий, цветы своего прудового скипетра шпажник.
Отъезд мадмуазель Сван устранял грозную возможность увидеть в аллее эту счастливицу, которая дружит с Берготом и осматривает с ним соборы, которая узнает меня и обдаст презрением, но от этого мне уже не так хотелось полюбоваться Тансонвилем, на что я впервые получил разрешение, а в глазах дедушки и отца это обстоятельство, по-видимому, напротив, придавало усадьбе Свана особый уют, недолговечную прелесть; оно было для них все равно что безоблачное небо во время похода в горы: благодаря ему день оказывался исключительно благоприятным для прогулки в этом направлении; я мечтал, чтобы их расчеты не оправдались, чтобы каким-нибудь чудом мадмуазель Сван и ее отец внезапно выросли перед нами, так что мы не успели бы скрыться и нам волей-неволей пришлось бы с ней познакомиться. Вот почему, когда я обнаружил на траве знак возможного ее присутствия: забытую корзинку и рядом удочку, поплавок которой дрожал на воде, я постарался отвлечь от этого внимание отца и деда. Впрочем, Сван ведь нам говорил, что ему неудобно уезжать, потому что к нему приехали родственники, а значит, удочка могла принадлежать кому-нибудь из гостей. В аллеях не было слышно ничьих шагов. Рассекая высоту какого-то неведомого дерева, невидимая птица, чтобы убить время, проверяла с помощью протяжной ноты окружавшую ее пустынность, но получала от нее столь дружный отклик, получала столь решительный отпор затишья и покоя, что можно было подумать, будто птица, стремившаяся, чтобы это мгновенье как можно скорей прошло, остановила его навсегда.
Солнечный свет, падавший с неподвижного небо-свода, был до того беспощаден, что хотелось исчезнуть из его поля зрения; даже стоячая вода в пруду, чей сон беспрестанно нарушали мошки, – вода, грезившая, по всей вероятности, о каком-нибудь сказочном Мальстреме[83]83
Мальстрем – водоворот в Норвежском море вблизи Лофотенских островов.
[Закрыть], – и та усиливала тревогу, которую вызвал во мне пробковый поплавок: я думал, что вот сейчас его понесет с бешеной скоростью по безмолвным просторам неба, отражавшегося в пруду; казалось, стоявший почти вертикально поплавок сию секунду погрузится в воду, и я уже спрашивал себя: может быть, отрешившись от желания и от страха познакомиться с мадмуазель Сван, я должен сообщить ей, что рыба клюет, но мне пришлось бегом догонять звавших меня отца и деда, которых удивляло, что я не пошел за ними по ведущей в поля тропинке, куда они уже свернули. Над тропинкой роился запах боярышника. Изгородь напоминала ряд часовен, погребенных под снопами цветов, наваленными на престолы; у престолов, на земле, солнечные лучи, как бы пройдя сквозь витражи, вычерчивали световые квадратики; от часовен исходило елейное, одного и того же состава благоухание, словно я стоял перед алтарем во имя Пречистой Девы, а цветы, такие же нарядные, как там, с рассеянным видом держали по яркому букетику тычинок, похожих на тонкие, лучистые стрелки «пламенеющей» готики, что прорезают в церквах ограду амвона или средники оконных рам, но только здесь они цвели телесной белизной цветков земляники. Какими наивными и деревенскими покажутся в сравнении с ними цветы шиповника, которые несколько недель спустя оденутся в розовые блузки из гладкого шелка, распахивающиеся от дуновенья ветерка, и тоже станут подниматься на солнце по этой же заглохшей тропе!
Однако я напрасно останавливался перед боярышником, чтобы вобрать в себя этот незримый, особенный запах, чтобы попытаться осмыслить его, – хотя моя мысль не знала, что с ним делать, – чтобы утратить его, чтобы вновь обрести, чтобы слиться с тем ритмом, что там и сям разбрасывал цветы боярышника с юношеской легкостью, через неожиданные промежутки, как неожиданны бывают иные музыкальные интервалы, – цветы с неиссякаемою щедростью, неустанно одаряли меня своим очарованием, но не давали мне углубиться в него, подобно мелодиям, которые проигрываешь сто раз подряд, так и не приблизившись к постижению их тайны. Я отходил от них и снова со свежими силами начинал наступление. Я отыскивал глазами за изгородью, на крутой горе, за которой начинались поля, всеми забытые маки, из-за своей лени отставшие от других васильки, чьи цветы местами украшали склоны горы, напоминая бордюр ковра, где лишь слегка намечен деревенский мотив, который восторжествует уже на самом панно; еще редкие, разбросанные, подобно стоящим на отшибе домам, которые, однако, уже возвещают приближение города, они возвещали мне бескрайний простор, где колышутся хлеба, где барашками курчавятся облака, а при взгляде на одинокий мак, водрузивший на своей мачте трепещущий на ветру, над черным, маслянистым бакеном, красный вымпел, у меня учащенно билось сердце, как у путешественника, замечающего в низине первую потерпевшую крушение лодку, которую чинит конопатчик, и, ничего еще больше не видя, восклицающего: «Море!»
Затем я возвращался к боярышнику, – так возвращаются к произведениям искусства, ибо, по нашему мнению, они производят более сильное впечатление после того, как некоторое время на них не смотришь, но я напрасно делал из своих рук экран, чтобы перед моими глазами был только боярышник: чувство, какое он пробуждал во мне, оставалось смутным и неопределенным, и оно тщетно пыталось высвободиться и слиться с цветами. Цветы боярышника не проливали света на мое чувство, а другие цветы не насыщали его. И вот, когда я испытывал радость, переполняющую нас при виде картины любимого художника, – картины, непохожей на те, которые были известны нам прежде, – или когда нас подводят к картине, которую мы раньше видели у него в карандаше, или когда музыкальное произведение, которое нам до этого проигрывали на рояле, предстает перед нами облаченным в цвета оркестра, меня подозвал дед и, показав на изгородь тансонвильского парка, сказал: «Ты любишь боярышник – погляди-ка на этот розовый куст: какая красота!» В самом деле: это был боярышник, но только розовый, еще красивее белого. Он тоже был в праздничном уборе, в одном из тех, какие надевают в настоящие праздники, то есть в праздники церковные, ибо они тем и отличаются от праздников светских, что случайная прихоть не приурочивает их к дням, для них не предназначенным, в которых ничего праздничного, по существу, и нет, но только убор его был еще богаче, потому что цветы, лепившиеся на его ветвях, одни над другими, точно помпончики, увешивающие пастуший посох в стиле рококо и унизывавшие весь куст, были «красочные», следовательно, по законам комбрейской эстетики, – высшего качества, если судить о ней по шкале цен в магазине на площади или у Камю, где самыми дорогими бисквитами были розовые. Да я и сам выше ценил творог с розовыми сливками, то есть такой, куда мне позволяли положить давленой земляники. Эти цветы избрали окраску съедобной вещи или изящного украшения в наряде, надеваемом по большим праздникам, – окраску, которая именно потому, что детям ясно, в чем ее преимущество, с полной очевидностью представляется им самой красивой, и по той же причине они неизменно отдают ей предпочтение, как самой, на их взгляд, живой и самой естественной, даже когда они узнают, что цветы эти ничего лакомого им не сулят и что портниха не прикрепляла их к платью. И впрямь: я сразу почувствовал, как и при виде белого боярышника, но только с большим восторгом, что праздничное настроение передается цветами не искусственно, подобно ухищрениям человеческой выделки, – что так, непосредственно, с наивностью деревенской торговки, украшающей переносный престол, выразила его сама природа, перегрузив куст чересчур нежного оттенка розетками в стиле провинциального «помпадур». На концах ветвей, как на розовых кустиках в горшках, обернутых в бумагу с вырезанными зубчиками, – кустиках, по большим праздникам распускающих на престоле тонкие свои волоконца, – кишели полураскрытые бутончики более бледной окраски, а внутри этих бутончиков, словно на дне чаши из розового мрамора, виднелись ярко-красные пятнышки, – вот почему бутоны, в еще большей степени, чем цветы, обнаруживали особенную, пленительную сущность боярышника, которая, где бы он ни распускался, где бы он ни зацветал, могла быть только розовой. Составлявший часть изгороди и все же отличавшийся от нее, как отличается девушка в праздничном платье от одетых по-домашнему, которые никуда не собираются, вполне готовый для майских богородичных Богослужений, он уже словно участвовал в них – так, в новом розовом наряде, сиял, улыбаясь, этот дивный католический куст.
Сквозь изгородь была видна аллея парка, обсаженная жасмином, анютиными глазками и вербеной, между ними левкои раскрывали свои новенькие розовые сумочки, душистые и сухие, как будто сделанные из старой кордовской кожи, а на самой аллее, усыпанной гравием, из дырочек выкрашенного в зеленый цвет длинного рукава, разматывавшего свои круги, взметывался над цветами, аромат которых он впитывал, вертикальный, призматический веер разноцветных капелек. Вдруг я остановился, я не мог сделать ни шагу дальше, как это бывает, когда явление не просто открывается нашему взору, но требует более глубокого восприятия и овладевает всем нашим существом. Подняв лицо, усеянное розовыми крапинками, на нас смотрела рыженькая девочка, по-видимому вернувшаяся с прогулки и державшая в руке копалку. Черные ее глаза блестели, но я не умел тогда, да так потом и не научился, выделять из сильного впечатления объективные элементы, я не отличался тем, что называется «наблюдательностью», необходимой для того, чтобы точно определить цвет ее глаз, а потому всякий раз, как я о ней думал, блеск этих глаз долго еще рисовался в моей памяти ярко-голубым, потому что девочка была блондинка, а если б глаза у нее были не такие черные, особенно поражавшие своей чернотой при первой встрече, я бы, может статься, так не влюбился в эти глаза, показавшиеся мне голубыми.
Сначала я смотрел на нее не только взглядом – передатчиком для глаз, но и взглядом-окном, куда с тревожным изумлением глядят все чувства, взглядом, которому не терпится коснуться, покорить, унести с собой созерцаемое им тело, а вместе с телом и душу; потом, из боязни, что каждую секунду дед и отец, заметив девочку, могут оторвать меня от нее, сказать, чтобы я шел впереди, я стал смотреть на нее уже другим взглядом, бессознательно умоляющим, взглядом, который старался обратить на меня ее внимание, заставить ее познакомиться со мной. Девочка устремила свои зрачки сперва вперед, потом вбок, чтобы получить представление о моем деде и отце, и, по всей вероятности, мы произвели на нее жалкое впечатление, потому что она с равнодушно-пренебрежительным видом отвернулась, чтобы моему деду и отцу было не видно ее лицо; и они ее не заметили и, продолжая свой путь, обогнали меня, а она, насколько хватал ее глаз, метала взгляды в мою сторону, не придавая им никакого особого выражения и не видя меня, однако смотрела она пристально и с полуулыбкой, которую я на основании полученных мною понятий о благовоспитанности не мог истолковать иначе, как доказательство обидного презрения: а рука ее в это время едва уловимо выписывала непристойный жест, имевший в словарике приличий, который я всегда носил в себе, – если этот жест обращен публично к незнакомому лицу, – одно-единственное значение: значение умышленного оскорбления.
– Жильберта, иди же сюда! Что ты там делаешь? – резким, повелительным тоном крикнула дама в белом, которую я никогда раньше не видел, а поблизости от нее стоял незнакомый мне господин в полотняном костюме и, вытаращив глаза, смотрел на меня; мгновенно смахнув с лица улыбку, девочка взяла копалку и, не оборачиваясь в мою сторону, с покорным, непроницаемым и таинственным видом удалилась.
Так произнесенное неподалеку от меня имя Жильберта было мне вручено как некий талисман, который, вероятно, поможет мне впоследствии отыскать ту, что благодаря ему из смутного образа только что превратилась в определенную личность. Так промелькнуло оно над жасмином и левкоями, терпкое, свежее, словно капельки, вытекавшее из зеленого рукава, насыщая, расцвечивая зону чистого воздуха, через которую оно прошло и которую оно отгородило тайною жизни той, кого могли так называть жившие, путешествовавшие с нею счастливцы, – промелькнуло, раскрывая передо мной, сквозь розовый боярышник, на уровне моего плеча, суть столь мучительных для меня отношений между этими людьми и ею вместе со всем неведомым, что таила в себе ее жизнь, и мне недоступным.
На мгновенье (пока мы удалялись и мой дед бормотал: «Бедный Сван! Какую роль они заставляют его играть! Его выпроводили, чтобы она могла побыть со своим Шарлю, – ведь это Шарлю, я его узнал! А девчушка должна смотреть на всю эту грязь!») впечатление, произведенное на меня деспотическим, не допускающим возражений тоном, каким мать Жильберты говорила с ней, тем самым показывая, что Жильберта обязана кого-то слушаться, что она не царит над всем, утишило мою душевную боль, подало мне слабую надежду и уменьшило мою любовь. Но очень скоро любовь выросла снова как противодействие: мое униженное сердце пыталось или подняться до уровня Жильберты, или низвести ее до моего уровня. Я любил ее, мне было жаль, что я не успел и не нашелся чем обидеть ее, как сделать ей больно и оставить по себе память. Она казалась мне такой красивой, что хотелось вернуться и, поведя плечами, крикнуть ей: «Какая вы уродина, до чего же вы безобразны, до чего же вы мне противны!» Тем не менее я уходил все дальше и дальше, унося с собой навсегда, словно символ счастья, в силу незыблемых законов природы недоступного таким детям, как я, образ рыженькой девочки с розовыми крапинками на лице, державшей в руке копалку и долго водившей по мне, улыбаясь, загадочным и безразличным взглядом. И вот уже очарование, которым ее имя, как фимиамом, окурило то место, где мы, глядя друг на друга сквозь боярышник, услышали его одновременно, охватывало, пропитывало, овевало своим благоуханием все, что ее окружало: ее дедушку и бабушку, с которыми мои дедушка и бабушка имели несказанное счастье быть знакомы, благородную профессию биржевого маклера, унылый квартал Елисейских полей, где она жила в Париже.
«Леония! – вернувшись с прогулки, сказал дедушка. – Жаль, что тебя не было с нами. Ты бы не узнала Тансонвиля. Будь я посмелей, я бы срезал для тебя ветку розового боярышника – ты ведь так его любила!» Дедушка подробно рассказал тете Леонии о нашей прогулке – быть может, чтобы развлечь ее, а быть может, потому, что он еще не окончательно утратил надежду вытащить ее погулять. В былое время она очень любила эту усадьбу, да и потом, когда двери ее дома были закрыты для всех, последний, кого она еще принимала, был Сван. И тем же тоном, каким она приказывала ответить ему, когда он теперь осведомлялся о ее здоровье (из всех нас ему только с ней и хотелось повидаться), что сейчас она устала, но что в следующий раз она его примет, – тем же тоном она сказала в тот вечер: «Да, как-нибудь, в хорошую погоду, я проедусь в экипаже до ворот парка». Говорила она это искренне. Она с удовольствием еще раз увидела бы Свана и Тансонвиль, но самое желание поглощало последние ее силы; исполнение желания было ей уже не по силам. Иногда хорошая погода приободряла ее, она вставала, одевалась; но она уставала, еще не дойдя до соседней комнаты, и требовала, чтобы ее уложили в постель. Для нее уже начиналось – раньше, чем для других, – великое отречение старости, готовящейся к смерти, прячущейся в свою куколку, то отречение, какое можно наблюдать в конце жизни каждого человека, который зажился, даже у самых давних и страстных любовников, у друзей, связанных теснейшими узами духовной дружбы, когда, по прошествии стольких-то лет, они вдруг перестают ездить или даже просто выходить из дому, чтобы повидаться, перестают переписываться, ибо отдают себе отчет, что в этом мире общение для них кончено. Тетя, наверное, ясно сознавала, что она больше не увидит Свана, что она никогда больше не выйдет из своего дома, но это окончательное заточение она, видимо, переносила довольно легко по той причине, по которой, на наш взгляд, оно должно было бы быть для нас особенно мучительным: ее заточение вызывалось уменьшением сил, которое она замечала в себе ежедневно и вследствие которого всякое действие, всякое движение утомляло ее, превращалось для нее в пытку, а бездействие, уединение, молчание приобретало укрепляющую, благодатную сладость покоя.
Тетя так и не поехала посмотреть изгородь из розового боярышника, но я поминутно спрашивал моих родных, поедет она или нет и часто ли она бывала раньше в Тансонвиле: этим я старался вызвать их на разговор о родителях и о дедушке и бабушке мадмуазель Сван, которых я себе представлял великими, как боги. Имя Свана стало для меня почти мифологическим, и когда я говорил с родными, я томился желанием услышать его из их уст; сам я не осмеливался произнести его, но я нарочно заводил разговор на темы, касавшиеся Жильберты и ее семьи, имевшие к ней прямое отношение, не отгонявшие меня прочь от нее: так, например, притворившись, будто я убежден, что должность дедушки до него занимал кто-то еще в нашей семье или же что изгородь из розового боярышника, которую хотелось посмотреть тете Леонии, находилась на общественной земле, я вынуждал отца поправлять меня, говорить как бы наперекор мне, как бы по своей доброй воле: «Да нет же, это была должность отца Свана, эта изгородь составляет часть парка Свана». Тут я переводил дух – так это имя давило на то место во мне, где оно было начертано навсегда, так оно душило меня, ибо в тот момент, когда я его слышал, оно казалось мне весомее всякого другого: оно утяжелялось всякий раз, как я, еще до этого разговора, мысленно произносил его. Оно доставляло мне наслаждение, которое я, преодолевая стыд, выпросил у родных, наслаждение это было так велико, что, наверно, требовало от них крайних усилий, усилий не вознаграждавшихся, поскольку для них это не было наслаждением. И я из деликатности переводил разговор на другие темы. А еще из-за своей щепетильности. Когда родные произносили имя Сван, я вновь обретал в нем то обаяние, которое у меня было с ним связано. И тогда мне вдруг приходило в голову, что эти обольщенья возникают и перед моими родными, что родные становятся на мою точку зрения, что от них не укрылись мои мечты, что они мне их прощают, что они их разделяют, и я чувствовал себя таким несчастным, как если б я их сломил и развратил.
В тот год мои родители решили вернуться в Париж несколько раньше обычного и в день отъезда, утром, собрались повести меня к фотографу, но, прежде чем повести, завили мне волосы, в первый раз осторожно надели на меня шляпу и нарядили в бархатную курточку, а некоторое время спустя моя мать после долгих поисков наконец нашла меня плачущим на тропинке, идущей мимо Тансонвиля: я прощался с боярышником, обнимая колючие ветки, и, не испытывая ни малейшей благодарности к надоедливой руке, выпустившей мне на лоб кудряшки, я, как героиня трагедии – принцесса, которую давят ненужные украшения, топтал сорванные с головы папильотки и новую шляпу. Мои слезы не тронули мать, но она невольно вскрикнула при виде испорченной прически и разодранной куртки. Я не слышал, что она кричит. «Милые мои цветочки! – причитал я. – Это не вы меня огорчаете, не вы меня увозите. Вы – вы никогда не обижали меня! За это я всегда буду вас любить». И, вытирая слезы, я обещал им, что когда вырасту большой, то не буду вести глупый образ жизни, какой ведут другие, и, даже живя в Париже, весной, вместо того чтобы ездить с визитами и слушать всякую чепуху, буду вырываться в окрестности, только чтобы взглянуть на первые цветы боярышника.
Выйдя в поля, мы уже не расставались с ними во все время прогулки по направлению к Мезеглизу. По ним бродягой-невидимкой беспрестанно пробегал ветер, который я считал добрым гением Комбре. Каждый год по приезде я непременно выходил из дому, и тут я чувствовал, что я действительно в Комбре: ветер вновь обегал складки моего плаща и подгонял меня в спину. Если идти по направлению к Мезеглизу, по возвышенности, где на протяжении нескольких миль не встретишь ни одной неровности почвы, ветер всегда дует попутный. Я знал, что мадмуазель Сван часто ездила на несколько дней в Лан, и хотя до него было не близко, расстояние казалось не таким большим благодаря полному отсутствию препятствий, и когда, в жаркие дни, я видел, как ветер, прилетевший из чуть видных пределов, там, далеко-далеко, клонит к земле хлеба, разливается волной по всему неоглядному простору и, теплый, шуршащий, ложится меж эспарцетом и клевером у моих ног, то эта общая для нас обоих равнина, казалось, сближала, соединяла нас; я думал, что тот же самый ветер провеял мимо нее, что он принес мне от нее весточку, но только я не могу разобрать, о чем он шепчет, и я целовал его на лету. Слева было село Шампье (Campus Pagani[84]84
Языческое поле (лат.).
[Закрыть], как объяснял священник). Справа, за хлебами, виднелись резные шпили сельского храма Андрея Первозванного-в-полях: то были два острых, чешуйчатых, ячеистых, гильошированных, желтоватых, зернистых шпиля, похожих на колосья.
На равном расстоянии одна от другой яблони раскрывали широкие белые атласные лепестки, неподражаемо орнаментированные листьями, которые не спутаешь с листьями никакого другого фруктового дерева, или свешивали робкие букетики розовеющих бутонов. Идя именно по направлению к Мезеглизу, я впервые заметил круглую тень, которую бросают яблони на залитую солнцем землю, и призрачные шелковые золотистые нити, – закат наклонно прял их под листьями яблонь, а мой отец у меня на глазах пытался разорвать их тросточкой, но они оставались на прежнем месте.








