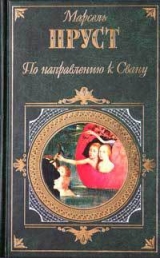
Текст книги "По направлению к Свану"
Автор книги: Марсель Пруст
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 30 страниц)
Часть вторая
Любовь Свана
Чтобы вступить в «ядрышко», в «группку», в «кланчик» Вердюренов, требовалось только одно, но зато необходимое условие: нужно было безоговорочно принять символ веры, один из членов коего состоял в том, что молодой пианист, которому в тот год покровительствовала г-жа Вердюрен и про которого она говорила: «Пусть кто-нибудь попробует так сыграть Вагнера!» – «забивает» и Планте[93]93
Планте Франсис (1839—1934) – французский пианист.
[Закрыть] и Рубинштейна, а доктор Котар как диагност лучше Потена[94]94
Потен Пьер (1825—1901) – французский медик, член Академии медицинских наук.
[Закрыть]. Любой «новобранец», которого Вердюренам не удавалось убедить, что на вечерах у тех, кто не вхож к Вердюренам, можно умереть от скуки, немедленно исключался из их общества. Женщины оказывались в этом отношении непокорнее мужчин: подавить в себе праздное любопытство и стремление разузнать самим, что творится в других салонах, – это было выше их сил, и Вердюренам, опасавшимся, как бы демон легкомыслия и пытливый дух в силу своей заразительности не внесли раскола в их церковку, пришлось изгнать одну за другой всех «верных» женского пола.
Если не считать молодой жены доктора, в тот год представительницами женского пола у Вердюренов (сама г-жа Вердюрен была женщина добродетельная, из почтенной буржуазной семьи, очень богатой, но совершенно безвестной, с которой она по собственному желанию постепенно прервала всякие отношения) были только дама чуть что не полусвета, г-жа де Креси, которую г-жа Вердюрен называла по имени – Одеттой и говорила про нее, что она «душка», и похожая на привратницу тетка пианиста; так как обе не знали света, то в простоте душевной принимали на веру, что княгиня Саганская и герцогиня Германтская платят несчастным страдальцам за то, чтобы они являлись на их званые обеды, и если бы кто-нибудь вызвался получить для бывшей привратницы и кокотки приглашение к этим знатным дамам, то и та и другая с презрением отвергли бы подобное предложение.
Никто не получал от Вердюренов особого приглашения к обеду – каждый знал, что для него «поставлен прибор». Вечера не имели программы. Молодой пианист играл, но только если бывал «в настроении», – здесь никого не принуждали, г-н Вердюрен говорил: «У нас попросту, по-товарищески!» Если пианист изъявлял желание сыграть «Полет валькирии»[95]95
«Полет валькирии» – вступление к последнему действию музыкальной драмы Вагнера «Валькирия» (1870 г.) из цикла «Кольцо Нибелунга».
[Закрыть] или прелюдию к «Тристану»[96]96
«Тристан» – «Тристан и Изольда» (1859 г.), музыкальная драма Вагнера.
[Закрыть], то г-жа Вердюрен возражала не потому, чтобы эта музыка ей не нравилась, а потому, что она производила на нее слишком сильное впечатление: «Вы хотите, чтобы у меня разболелась голова? Ведь после этого у меня всегда бывает мигрень. Я себя знаю! Завтра утром я не смогу встать с постели – нет уж, сделайте милость, увольте!» Если пианист не играл, то шел общий разговор, и один из друзей, чаще всего – художник, который тогда был у Вердюренов в чести, «отмачивал», по выражению Вердюрена, «что-нибудь этакое забористое, и все надрывали себе животики от смеха», особенно г-жа Вердюрен, которая так привыкла понимать в буквальном смысле образы, выражавшие ее душевные состояния, что доктору Котару (в то время начинающему врачу) пришлось лечить ее от болезни желудка.
Являться во фраках было запрещено; помните: вы здесь «в своей компании», избави бог походить на «скучных», от скучных нужно бегать, как от чумы, а если и приглашать их, то лишь на званые вечера, устраивавшиеся елико возможно реже, и то чтобы позабавить художника или чтобы у музыканта прибавилось поклонников. Обыкновенно играли в шарады, устраивались костюмированные ужины, но – «в своем кругу», без участия посторонних.
В жизни г-жи Вердюрен «товарищи» занимали большое место, а потому все, что их отдаляло от «кланчика», что мешало им иногда быть свободными, становилось для нее скучным, неприемлемым: мать кого-нибудь из них, род занятий другого, дача или недомоганье третьего. Если доктор Котар должен был встать из-за стола, потому что ему опять надо было ехать к тяжелобольному, то г-жа Вердюрен говорила доктору: «А может быть, гораздо лучше вам не ехать и не беспокоить вечером больного; без вас он только скорее заснет; а завтра поезжайте к нему как можно раньше – вот увидите, что он будет совсем здоров». Уже в начале декабря она заболевала от одной мысли, что верные «дернут от нее» на первый день Рождества и первого января. Тетка пианиста требовала, чтобы первого января он пошел с ней на семейный обед к ее матери.
– А что, ваша мать умрет, если вы не пообедаете с ней на Новый год, провинциал вы несчастный? – грубым тоном спрашивала г-жа Вердюрен.
Тревога охватывала ее также на Страстной неделе.
– Вы, доктор, человек ученый, свободомыслящий, вы, конечно, приедете к нам в Великую пятницу, как в любой другой день? – задала она вопрос Котару в первый год, когда Вердюрены стали принимать, и задала его таким тоном, как будто была заранее уверена в ответе. На самом деле она очень волновалась: ведь если доктор не придет, у них никого не будет.
– В Великую пятницу я приду… попрощаться с вами, потому что Пасху мы проведем в Оверни.[97]97
Овернь – область в Центральном массиве (по названию старинной французской провинции).
[Закрыть]
– В Оверни? Да вас там заедят вши и блохи! Умнее ничего не могли придумать?
Помолчав, она добавила:
– Вы бы хоть предупредили нас – мы бы все наладили и поехали бы вместе, со всеми удобствами.
Точно так же, если у кого-нибудь из «завсегдатаев» был друг, а у какой-нибудь верной – роман, и из-за этого они могли «дернуть», Вердюрены, которых не пугало, что у женщины есть любовник, лишь бы она приходила с ним, лишь бы этот роман протекал у них на глазах и не отвлекал ее от них, говорили: «Ну так приводите же вашего друга!» И его подвергали испытанию, способен ли он не иметь секретов от г-жи Вердюрен и можно ли принять его в «кланчик». Если он не подходил, то верного, который ввел его в дом, отзывали в сторонку и делали ему одолжение: ссорили его с другом или же с любовницей. Если «новенький» приходился по нраву, то он становился верным. И вот когда дама полусвета сообщила Вердюрену, что познакомилась с очаровательным человеком, г-ном Сваном, и намекнула, что он был бы очень рад, если б Вердюрены его пригласили, Вердюрен тут же уведомил об ее ходатайстве свою жену. (Он высказывал свое мнение только после нее, вся его роль сводилась к тому, чтобы исполнять ее желания и желания верных, и тут он проявлял необыкновенную изобретательность.)
– У госпожи де Креси есть к тебе просьба. Она хочет познакомить тебя со своим другом, господином Сваном. Как ты на это смотришь?
– Да разве я могу в чем-нибудь отказать этой прелести? Молчите, вас не спрашивают, я вам говорю, что вы – прелесть.
– Ну, если вы так думаете… – жеманясь, говорила Одетта и добавляла: – Вы же знаете, что l am not fishing for compliments.[98]98
Я не напрашиваюсь на комплименты (англ.).
[Закрыть]
– Ну так приводите же вашего друга, если это в самом деле приятный человек.
Разумеется, «ядрышко» Вердюренов было весьма далеко от общества, где вращался Сван, и настоящие светские люди нашли бы, что человек, занимающий такое исключительное положение, не должен добиваться приглашения к Вердюренам – для них, мол, это слишком много чести. Но Сван так любил женщин, что, перезнакомившись почти со всеми аристократками и взяв от них все, чему они могли научить его, он смотрел на свидетельства о подданстве, на дворянские грамоты, в сущности пожалованные ему Сен-Жерменским предместьем, как на меновую стоимость, как на аккредитив, сам по себе ничего не стоивший, но предоставлявший ему возможность разыграть из себя важную птицу в какой-нибудь провинциальной дыре или в парижской трущобе, где на него произвела впечатление дочка захудалого дворянина или судейского. В ту пору желание и любовь будили в нем тщеславие, от которого он теперь в повседневной жизни избавился (ведь именно тщеславие внушило ему мысль о светской карьере, из-за которой он растратил свои способности на пустые забавы, а свои познания в области искусства обнаруживал в советах дамам из общества, покупавшим картины и обставлявшим свои особняки), и не что иное, как тщеславие, вдохновляло его на то, чтобы блеснуть перед пленившей его незнакомкой, в глазах которой фамилия Сван сама по себе блеску ему не прибавляла. Особенно хотелось этого Свану, если незнакомка была из низшего сословия. Умному человеку не страшно показаться глупцом другому умному человеку, – вот так и светский человек боится, что его светскость не получит признания у мужлана, а не у вельможи. С тех пор как существует мир, три четверти душевных сил, три четверти лжи, на которую людей подбивало тщеславие и от которой они только проигрывали, были ими расточены перед людьми ниже их по положению. И Сван, державший себя просто и свободно с герцогиней, боялся уронить себя в глазах ее горничной и рисовался перед ней.
Он не принадлежал к многочисленному кругу людей, которые то ли по лени, то ли покорно исполняя долг, возлагаемый на них высоким общественным положением – быть всегда пришвартованным к определенному берегу, отказываются от удовольствий, какие жизнь может доставить им за пределами высшего света, где они замыкаются на всю жизнь и в конце концов, смирившись со своею участью, за неимением лучшего называют удовольствиями убогие развлечения и терпимую скуку, на которую их обрекает свет. Сван не принуждал себя называть хорошенькими женщин, с которыми он проводил время, он старался проводить время с женщинами, которых он действительно считал хорошенькими. И часто он проводил время с женщинами, красота которых была довольно вульгарна, – внешняя их привлекательность, к которой он бессознательно тянулся, ничего общего не имела с тем, что так восхищало его в женских портретах или бюстах, выполненных любимыми его мастерами. Задумчивое или печальное выражение охлаждало его чувство, и наоборот: здоровое, пышное, розовое тело возбуждало его.
Если во время путешествия он встречал семейство, с которым ему, с точки зрения светской, лучше было бы не общаться, но в котором он углядел женщину, наделенную неведомым для него очарованием, то остаться «при своих», притворяться перед самим собой, что он ничуть ею не взволнован, заменить наслаждение, какое он мог бы изведать с нею, другим, вызвав письмом свою бывшую любовницу, – это показалось бы ему таким же малодушным отказом от радостей жизни, таким же нелепым отречением от нового счастья, как если бы он, вместо того чтобы побывать в невиданном краю, заперся у себя в комнате и стал любоваться видами Парижа. Он не замыкался в здании своих общественных отношений, – он сделал себе походную палатку, вроде тех, какие берут с собой путешественники, чтобы ее можно было разбивать всюду, где только он влюблялся в женщину. Все, что нельзя было переносить с места на место или же обменять на еще не испытанное наслаждение, не имело в его глазах цены, какую бы зависть это ни вызывало у других. Сколько раз он, уподобясь голодному, готовому выменять бриллиант на кусок хлеба, мгновенно утрачивал влияние на какую-нибудь герцогиню, уже несколько лет старавшуюся сделать ему приятное, но все не находившую случая, – утрачивал лишь из-за того, что в бестактной депеше просил рекомендательной телеграммы, надеясь благодаря ей сразу завязать знакомство с одним из управляющих герцогини, дочь которого обратила на себя его внимание в деревне! Получив щелчок, он только посмеивался над собой: дело в том, что ему была свойственна искупавшаяся редкой деликатностью известная доля нахальства. Помимо всего прочего, он был одним из тех умных и праздных людей, которые успокаивают и, может быть, даже оправдывают себя тем, что праздность предоставляет их уму объекты, в такой же степени достойные внимания, как искусство или наука, и что «Жизнь» изобилует более любопытными, более романическими положениями, чем все романы, вместе взятые. Так, по крайней мере, он убеждал самого себя и легко убеждал самых утонченных из светских своих друзей, в особенности – барона де Шарлю, которого ему нравилось забавлять рассказами о своих занимательных похождениях: то о женщине, которую он встретил в поезде и увез к себе и только потом узнал, что это родная сестра государя, в чьих руках были тогда сосредоточены все нити европейской политики, и вот благодаря такому очаровательному приключению Сван оказывался в курсе этой политики; или о том, что от выборов на конклаве папы в силу запутанности обстоятельств зависело, удастся или не удастся ему, Свану, стать любовником одной кухарки.
Впрочем, не одну только блистательную фалангу добродетельных вдов, генералов, академиков, с которыми он был особенно близок, Сван с таким цинизмом заставлял сводничать. Все его друзья время от времени получали письма, в коих он излагал просьбу рекомендовать его или ввести в дом – излагал с дипломатическим искусством, которое не изменяло ему ни в любовных похождениях, ни в других случаях, и обличало в нем ярче, чем его оплошности, настойчивость в достижении цели. Много лет спустя, заинтересовавшись характером Свана из-за его сходства с моим, – вот только проявлялось это сходство совсем в другом, – я часто просил его рассказать, как мой дедушка (который тогда еще не был дедушкой, сильное увлечение Свана, из-за которого он долго не прибегал к обычным своим приемам, падает примерно на год моего рождения), узнав на конверте почерк своего друга, восклицал: «Сван о чем-то просит – берегись!» И то ли из чувства недоверия, то ли из неосознанно демонического чувства, которое толкает нас предлагать людям то, в чем они как раз не нуждаются, мои дедушка и бабушка решительно отклоняли самые легкоисполнимые его просьбы, как, например, познакомить его с девицей, обедавшей у нас по воскресеньям, и всякий раз, когда Сван об этом заговаривал, они уверяли, что больше с ней не видятся, а между тем целую неделю ломали голову над тем, кого бы это пригласить вместе с ней, и иной раз так ничего и не могли придумать, хотя им стоило только поманить Свана – и он был бы счастлив.
Иногда дружившие с моими дедушкой и бабушкой супруги, жаловавшиеся, что совсем не видят Свана, вдруг с удовлетворением, и, может быть, даже не без желания возбудить зависть, говорили, что Сван – само очарование, и сообщали, что он с ними не расстается. Дедушке не хотелось портить им настроение, он только поглядывал на бабушку и напевал:
Что же это за тайна?
Не могу разгадать.
Или:
Быстролетное виденье…
Или:
Тут все так непонятно,
Что лучше не вникать.
Несколько месяцев спустя, когда дедушка обращался с вопросом к новому другу Свана: «Вы по-прежнему часто видитесь со Сваном?» – лицо у этого человека вытягивалось: «Я имени его слышать не хочу!» – «А я думал, что вы с ним такие друзья…» Несколько месяцев он был своим человеком у родственников моей бабушки, обедал у них чуть не каждый день. Внезапно, без всякого предупреждения, он у них бывать перестал. Решили, что он болен, и двоюродная сестра моей бабушки уже собиралась послать к нему узнать, как он себя чувствует, но вдруг обнаружила в буфетной его письмо – кухарка положила письмо в расходную книгу и забыла про него. В нем он извещал ее, что больше сюда не придет, что он уезжает из Парижа. Кухарка была его любовницей, и когда он решил порвать с ней, то счел нужным предупредить о своем исчезновении ее одну.
Если же очередной его любовницей была светская дама или, во всяком случае, женщина, чье незнатное происхождение или шаткое положение не мешали ему, однако, открыть ей доступ в свет, то ради нее он туда возвращался, но только на ту особую орбиту, по которой двигалась она или на которую завлек ее он. «Сегодня на Свана рассчитывать нельзя, – говорили про него, – вы же знаете, что это тот день, когда его американка бывает в Опере». Он добивался для нее приглашений в недоступные салоны или туда, где он сам был завсегдатаем, куда он раз в неделю ездил ужинать, где он играл в покер; каждый вечер, слегка взбив свои жесткие рыжие волосы, отчего умерялась живость его зеленых глаз, он выбирал цветок для бутоньерки и отправлялся ужинать к той или иной даме его круга, чтобы встретиться у нее с любовницей; и тогда – стоило ему представить себе, как будут им восхищаться при любимой женщине и как будут заверять его в своих дружеских чувствах обезьянничавшие с него хлыщи, – наскучившая ему светская жизнь вновь его околдовывала, и самое ее вещество, прохваченное и окрашенное в яркие тона бушевавшим внутри нее пламенем, которое разжег он, казалось ему, с тех пор как он ввел в эту жизнь новую свою любовь, прекрасным и драгоценным.
Все эти связи и все эти флирты более или менее полно осуществляли мечту Свана, возникавшую в нем, когда он влюблялся в чье-нибудь лицо или тело и непосредственно, не принуждая себя, отдавался своему чувству, но вот как-то раз в театре один из старых друзей Свана познакомил его с Одеттой, о которой он еще раньше говорил с ним как о чудной женщине, – намекнув, что Сван, быть может, чего-нибудь от нее и добьется, однако, чтобы увеличить в глазах Свана размеры своей услуги, изобразив ее менее доступной, чем она была на самом деле, и Одетта действительно показалась Свану красивой, но красивой той красотой, к которой он был равнодушен, которая не будила в нем никаких желаний, напротив, вызывала в нем что-то вроде физического отвращения: ведь у каждого из нас есть свой любимый, непохожий на другие, тип женщины, а она была не во вкусе Свана. На взгляд Свана, у нее был слишком резко очерченный профиль, слишком нежная кожа, выдающиеся скулы, слишком крупные черты лица. Глаза у нее были хороши, но чересчур велики, так что величина подавляла их, от нее уставало все лицо, и поэтому казалось, будто она или нездорова, или не в духе. Некоторое время спустя после встречи в театре она написала Свану и, попросив показать ей его коллекции, которые очень интересовали ее, «женщину невежественную, но питавшую слабость к красивым вещам», добавляла, что она лучше узнает его, когда увидит его в home[99]99
Домашнем быту (англ.).
[Закрыть] в уютной обстановке, за чашкой чаю, обложившимся книгами, хотя и не скрывала своего удивления, что он проживает в унылом квартале, «недостаточно smart[100]100
Изысканном, аристократическом (англ.).
[Закрыть] для такого человека, как он». Он пригласил ее к себе, и, прощаясь, она сказала, что побывать у него в доме – это для нее счастье, и выразила сожаление, что так мало здесь пробыла, из слов же ее о самом Сване можно было понять, что он для нее значит больше, чем кто-либо другой, она как бы намекала на то, что у них уже начался роман, и этим вызвала у Свана улыбку. Однако в том уже довольно трезвом возрасте, к какому приближался Сван, в том возрасте, когда довольствуются состоянием влюбленности, потому что оно приятно, особенно не претендуя на взаимность, сердечная близость хотя уже не является, как в ранней юности, целью, которой во что бы то ни стало стремится достигнуть любовь, тем не менее она, эта близость, продолжает оставаться связанной с любовью такой прочной ассоциацией идей, что может вызвать любовь даже в том случае, если появилась раньше ее. Прежде мы мечтали завладеть сердцем женщины, в которую были влюблены; теперь одно ощущение, что ты владеешь сердцем женщины, может оказаться достаточным, чтобы мы влюбились в нее. Следовательно, в том возрасте, когда кажется – поскольку в любви ищут прежде всего субъективного наслаждения, – что самое главное – это женская красота, любовь может возникнуть – любовь самая что ни на есть плотская – и не на основе желания, она не обязательно вырастает из него. Мы уже не раз испытывали волнения любви; теперь она уже не развивается в нашем изумленном и бездеятельном сердце самостоятельно, следуя своим собственным, непостижимым и роковым законам. Мы идем ей навстречу, мы подделываем ее с помощью памяти и самовнушения. Узнав одну из ее примет, мы воскрешаем, мы воссоздаем другие. Песнь ее запечатлелась в наших сердцах вся целиком, а потому нам не нужно, чтобы женщина пела ее с начала, исполненного восторга перед красотой, – мы и так вспомним ее продолжение. Пусть начинает с середины – со сближения сердец, с того, что нельзя жить друг без друга, – мы знаем эту песнь наизусть, и стоит певице в ожидании смолкнуть на миг, как мы подхватываем без промедленья.
Одетта де Креси вскоре опять побывала у Свана, потом стала приходить к нему все чаще и чаще; и, без сомнения, каждый ее приход вызывал в нем разочарование при виде ее лица, черты которого успевали в промежутке между встречами слегка потускнеть в его памяти, несмотря на то что оно было у нее такое выразительное и такое не по годам увядшее; когда она разговаривала с ним, он с сожалением думал о том, что редкая ее красота не принадлежит к тому роду, которому он невольно отдавал предпочтение. Впрочем, надо заметить, что лицо Одетты казалось ему особенно худым и вытянутым оттого, что лба и верхней части щек, этих гладких и почти плоских поверхностей, не было у нее видно под волосами, женщины напускали их тогда на лоб «кудряшками», завивали «барашком» и закрывали уши небрежными локонами; сложена Одетта была изумительно, однако трудно было представить себе ее фигуру как единое целое (трудно только из-за тогдашней моды, потому что одеваться с таким вкусом, как Одетта, умели лишь очень немногие парижанки): корсаж приподнимался так, словно под ним был большой живот, затем образовывал мыс, и уже под корсажем ширился колокол юбок, отчего создавалось впечатление, что Одетта состоит из разнородных частей, неплотно пригнанных одна к другой, и, подчиняясь лишь прихоти рисунка или плотности ткани, рюши, оборки и вставки совершенно свободно двигались по направлению к бантикам, кружевной отделке, к отвесно спускавшейся стеклярусной бахроме или располагались вдоль корсета, но и в том и в другом случае они жили обособленной жизнью, не связанной с жизнью тела, а тело в зависимости от того, облегали его все эти финтифлюшки или, напротив, отделялись от него, чувствовало себя скованным или тонуло в них.
Когда же Одетта уходила от Свана, он с улыбкой вспоминал ее слова о том, как долго будет тянуться для нее время, пока он опять позволит ей прийти к нему; он представлял себе, с каким взволнованным, смущенным видом она просила его однажды, чтобы он не очень откладывал встречу с ней, какая робкая мольба читалась тогда в ее взгляде, не менее трогательная, чем ее круглая белая соломенная шляпка с букетиком искусственных анютиных глазок, подвязанная черными шелковыми лентами. «А вы не придете как-нибудь ко мне на чашку чая?» – спросила она. Он сослался на спешную работу, на этюд – заброшенный им несколько лет назад – о Вермеере Дельфтском[101]101
Вермеер Дельфтский (1632—1675) – голландский жанровый живописец и пейзажист; забытый после своей смерти, он был «открыт» в середине XIX в.
[Закрыть]. «Я сознаю всю свою никчемность, сознаю, какой жалкой я выгляжу рядом с такими крупными учеными, как вы, – заметила она. – Я лягушка перед ареопагом. И все же мне так хочется учиться, много знать, иметь большой запас сведений! Как это должно быть интересно – рыться в старинных книгах, заглядывать в манускрипты! – продолжала она с самодовольным видом элегантной женщины, пытающейся уверить, что для нее нет ничего приятнее, как заняться, не боясь выпачкаться, какой-нибудь грязной работой – ну, например, стряпней – и «собственноручно месить тесто». – Вы будете надо мной смеяться, но я ничего не слышала об этом художнике, из-за которого вы не едете ко мне (она имела в виду Вермеера), – он еще жив? В Париже есть его картины? А то мне хочется иметь понятие о том, что вы любите, постараться угадать, что скрывается за этим высоким многодумным лбом, в этой голове, в которой не прекращается работа мысли; я должна знать: вот о чем он сейчас думает! Какое счастье было бы для меня помогать вам в ваших занятиях!» Он оправдывался тем, что боится заводить новых друзей, причем эту боязнь он изящно называл боязнью стать несчастным. «Вы боитесь привязанностей? Как странно! А я только этого и ищу, я бы за это жизнь отдала, – проговорила она естественным и убежденным тоном, который невольно тронул его. – Наверное, вы много выстрадали из-за какой-нибудь женщины. И решили, что все такие же, как она. Она не сумела вас понять, – ведь вы же совсем особенный! За это-то я вас прежде всего и полюбила, я сразу почувствовала, что вы не такой, как все». – «Да ведь и вы тоже, – заметил он. – Я хорошо знаю, что такое женщины, у вас, наверное, масса дел, вы редко бываете свободны». – «Кто, я? Мне совершенно нечего делать! Я всегда свободна, для вас я всегда буду свободна. Вам захочется меня видеть – пошлите за мной в любое время дня и ночи, и я с восторгом примчусь к вам. Хорошо? Как было бы славно, если б вы познакомились с госпожой Вердюрен, – я бываю у нее каждый вечер. Понимаете: мы бы с вами там встречались, и я думала бы, что вы бываете у нее отчасти ради меня!»
Конечно, вспоминая разговоры с нею, думая о ней в одиночестве, он ограничивался тем, что в любовных своих мечтах представлял себе ее образ среди многих других женских образов; но если б благодаря какому-нибудь случайному обстоятельству (а может быть, даже независимо от него, ибо в тот самый момент, когда сокровенное чувство внезапно себя обнаруживает, обстоятельство иной раз никак на это не влияет) образ Одетты де Креси поглотил бы все его мечты, если б воспоминание о ней срослось с ними, то физические ее недостатки утратили бы для него всякое значение, как утратило бы для него значение, насколько ее наружность в его вкусе: с той поры, как она стала бы наружностью его любимой, это был бы для него единственный источник радостей и страданий.
Мой дед хорошо знал семейство Вердюренов, чего нельзя сказать об их нынешних друзьях. Но он порвал всякие отношения с тем, кого он называл «молодым Вердюреном»: он считал, несколько упрощая положение вещей, что «молодой Вердюрен», сохранив свои миллионы, окружил себя богемой и всякой шушерой. Однажды дед получил письмо от Свана, в котором Сван спрашивал, не может ли он познакомить его с Вердюренами. «Берегись! Берегись! – воскликнул дед. – Меня это нисколько не удивляет – так именно и должен кончить Сван. Хорошо общество, нечего сказать! Я не могу исполнить его просьбу прежде всего потому, что с этим господином я больше не знаком. А потом, здесь, наверно, замешана женщина, не хочу я лезть в такие дела. Сван завязнет в болоте у молодых Вердюренов, и мы же будем потом в ответе!»
Дед отказал, и к Вердюренам ввела Свана Одетта.
Когда Сван пришел к Вердюренам в первый раз, у них обедали доктор Котар с женой, молодой пианист с теткой и художник, который в то время был у них в чести, а вечером начали подходить и другие верные.
Доктор Котар никогда не знал, каким тоном нужно отвечать собеседнику, не умел различить, шутит тот или говорит серьезно. И на всякий случай он добавлял к любому выражению своего лица запрашивающую, прощупывающую собеседника условную улыбку, выжидательная двусмысленность которой должна была избавить его от упрека в наивности, если бы выяснилось, что с ним шутят. Но ему приходилось считаться и с другой возможностью, – вот почему он не позволял улыбке проступать отчетливо; по его лицу постоянно скользила неуверенность, и в ней читался вопрос, который он не решался задать: «Это вы серьезно?» На улице, да и вообще в жизни, он чувствовал себя так же неуверенно, как в гостях, и смотрел на прохожих, на экипажи, на происшествия все с той же лукавой улыбкой, заранее отводившей от него упрек в том, что он поступил неловко, ибо она доказывала в том случае, если он допускал бестактность, что он сам это прекрасно знает и что неуместный этот поступок он совершил в шутку.
Когда же доктор полагал, что может задать вопрос без обиняков, он не упускал случая уменьшить количество пробелов в своем образовании и пополнить запас знаний.
Вот почему, следуя совету, который ему дала предусмотрительная мать, когда он уезжал из провинции, доктор не пропускал ни одного незнакомого ему образного выражения или имени и собирал о них точные сведения.
Что касается образных выражений, то тут его пытливость не знала границ: он часто искал в них точного смысла, какого на самом деле они не имеют; он хотел понять, что значат буквально те выражения, которые ему приходилось слышать особенно часто: «брать молодостью», «голубая кровь», «вести рассеянную жизнь», «четверть часа Рабле»[102]102
«Четверть часа Рабле» – выражение, обозначающее затруднительный момент, в особенности при денежных расчетах. Согласно анекдоту имеется в виду затруднительное денежное положение, в котором оказался Рабле во время своей поездки в Лион.
[Закрыть], «законодатель мод», «не в масть», «поставить в тупик» и т. д., и в каких случаях он сам мог бы безошибочно употребить их. Заменял он обычно эти выражения заученными каламбурами. Когда же при нем называли неизвестное ему имя, он не спрашивал, кто это, – он считал, что для получения разъяснений достаточно повторить имя вопросительным тоном.
Он был убежден, что на все смотрит критически, а между тем именно критического взгляда на вещи ему и не хватало, вот отчего утонченная вежливость, которая заключается в том, чтобы делать кому-нибудь одолжение и при этом утверждать – вовсе не желая, чтобы этот человек вам поверил, – что не вы ему, а он вам делает одолжение, не производила на доктора никакого впечатления: он все понимал в прямом смысле. Как ни была ослеплена доктором г-жа Вердюрен, все же доктор, хотя она по-прежнему считала его очень умным человеком, в конце концов навлек на себя ее неудовольствие тем, что, когда она, пригласив его в литерную ложу на Сару Бернар, сказала, стараясь быть с ним сверхлюбезной: «Как это мило с вашей стороны, доктор, – ведь вы, конечно, много раз видели Сару Бернар, и потом, мы, пожалуй, сидим слишком близко от сцены», – он, войдя в ложу с улыбкой, готовой расплыться по лицу или исчезнуть, в зависимости от того, какое мнение выскажет о спектакле кто-нибудь из авторитетных лиц, проговорил: «В самом деле, мы слишком близко от сцены, да и Сара Бернар мне уже надоела. Но вы изъявили желание, чтобы я пришел. Ваше желание для меня закон. Я счастлив, что могу хоть чем-нибудь услужить вам. Чего бы я не сделал, чтобы доставить вам удовольствие, – ведь вы такая добрая! Сару Бернар называют «Золотой голос», – верно? – продолжал он. – А еще про нее часто пишут, что она играет с подъемом. Странное выражение, верно?» – спросил он, ожидая пояснений, но их не последовало.
– Знаешь, – сказала мужу г-жа Вердюрен, – мы из скромности снижаем ценность того, что дарим доктору, по-моему, это неправильно. Он принадлежит к числу ученых, далеких от практической жизни, он не знает цены вещам и верит нам на слово.
– Я тоже это заметил, только не хотел тебе говорить, – подтвердил Вердюрен.
И на Новый год, вместо того чтобы послать доктору Котару в три тысячи франков стоимостью рубин с запиской, что это, мол, сущий пустяк, Вердюрен купил за триста франков поддельный драгоценный камень и намекнул, что такой красивый камень – это большая редкость.
Когда г-жа Вердюрен объявила, что на вечере у них будет г-н Сван, доктор переспросил: «Сван?» – грубым от удивления тоном, потому что даже незначительная новость всегда заставала врасплох этого человека, который был уверен, что готов ко всякой неожиданности. Ему не ответили. «Сван? А кто такой этот Сван?» – взревел он в сильнейшей тревоге, но его тревога мгновенно рассеялась, как только г-жа Вердюрен сказала: «Да это же друг Одетты, про которого она нам говорила». – «Ах, это вот кто, теперь я понял!» – успокоенно проговорил доктор. Зато художник, узнав, что у г-жи Вердюрен будет Сван, ликовал: ему представлялось, что Сван влюблен в Одетту, а он покровительствовал романам. «Устраивать свадьбы – это моя страсть, – говорил он на ухо доктору Котару. – До сих пор мне здорово везло по этой части, даже у женщин!»








