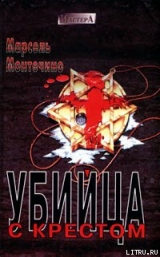
Текст книги "Убийца с крестом"
Автор книги: Марсель Монтечино
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 36 страниц)
Суббота, 4 августа
3.47 утра
Собака в исступлении грызла дужку замка. Ее клыки блестели в свете уличных фонарей, а глаза затуманились от ярости и ненависти.
Уолкер продолжал шлепать по железным штырям забора свернутой газетой, и разъяренное животное (это была сука-доберман) высоко подпрыгивало, каждый раз извиваясь в воздухе, словно исполняя какой-то грозный танец. Наконец Уолкер просунул газету сквозь дужку замка, и собака выхватила ее, вмиг разорвав в клочки, – при этом она яростно мотала головой.
Уолкер отступил от забора и засмеялся. Собака застыла над разлетающимися клочками газеты и оскалилась. Полное ненависти рычание заклокотало у нее в глотке как нагревающийся мотор.
Уолкер коротко, по-мальчишески хохотнул, затем его лицо стало бесстрастным, и легкой трусцой он побежал на восток, в глубь квартала. Собака побежала вдоль забора, опережая его. В углу, где забор перпендикулярно упирался в стену, она остановилась. Когда Уолкер пробегал мимо, сука бросилась на забор в последней, тщетной атаке. Уолкер даже не повернул головы.
Следуя на восток, он пробежал еще несколько кварталов и, повернув на север, потрусил по сонной улице двухэтажных домиков, покрытых штукатурным гипсом. Пробежав еще три квартала и свернув на посыпанную гравием аллею за приземистым неприметным зданием из железобетона, Уолкер затаился в ожидании в затененном дверном проеме. Дышал он легко и ровно. Улица вспыхнула в свете фар, и он вжался в дверной проем и стоял так, пока автомобиль не проехал мимо. Через несколько минут медленно и осторожно повернул дверную ручку – дверь была заперта. Он подождал еще. Где-то вдалеке завыла сирена. Проехал еще один автомобиль. Уолкер закинул руку за спину, порылся в рюкзачке и нашел то, что ему было надо. Прождав еще несколько минут, вышел из проема на улицу. С севера и юга улица была пуста. Уолкер поднял баллончик с краской и принялся неторопливо писать на ровной серой стене – удлиненные, со множеством петель буквы, казалось, сами возникают на поверхности. Окончив, он отступил на шаг и с минуту любовался своим произведением. Затем двумя быстрыми движениями нанес «последний штрих» – на стене появился грубо намалеванный крест. И еще один рядом. Не оглядываясь, он выскользнул на аллею и беззвучно побежал. Через пять минут он был уже в миле от серого дома.
7.33 утра
Когда раздался первый звонок, Голд опустил ноги на пол и сел на кровати, уставившись на телефон. Этот старый трюк он применял уже более пятнадцати лет: смотрел на трезвонящий телефон и с каждым звонком заставлял свой мозг мыслить яснее – вновь и вновь. Внезапно разбуженный коп ни в коем случае не должен говорить по телефону, пока полностью не придет в себя, – об этом он знал по собственному горькому опыту. Как-то раз его маленький худой осведомитель (именуемый всеми Чарли Браун) позвонил в четыре утра и очень взволнованно что-то зашептал в трубку. Голд фыркнул и опять заснул, сжимая в руке трубку. Через час его словно подбросило с кровати, так что спавшая рядом Эвелин проснулась. А через три недели какие-то мексиканские ребятишки, игравшие на пустующей стоянке в Бойл-Хайтс, нашли полуразложившийся, труп Чарли Брауна с перерезанным горлом – его завернули в толь и запихнули в сточную трубу.
Обычно Голд приходил в форму на четвертом или пятом звонке. Сегодня он очухался на седьмом. Рука, протянутая к трубке, дрожала чуть сильнее обычного. Ну иночка была!
– Да. – Голос прозвучал глухо.
– Джек, это Хониуелл.
– В чем дело, Хони?
– Джек, мы влипли. Сегодня утром Том Форрестер звонил из кабинета босса!
– Ну и?
– Нас повесят за яйца за то, что мы вчера сделали на Беверли-Хиллз с Псом. Эта сука состряпала на нас официальную жалобу, но в особенности на тебя. Шеф желает видеть тебя в своем кабинете в понедельник утром. Ровно в восемь. Потом меня – в девять.
Голд вздохнул, протер глаза:
– А Том не говорил, чего этому кретину надо?
– Ну, он не уверен на все сто... Однако ему кажется, что Гунц затребует у тебя назад полицейскую бляху. То есть сначала он попросит тебя уйти в отставку, а если ты откажешься, потребует бляху. Что до меня, Том думает, что мне просто слегка намылят шею. Может быть, письменный выговор будет. А может – нет. Том говорит, что поначалу Гунц рвал и метал, хотел на месяц отстранить меня от работы. Потом поостыл. Так что теперь ему только ты нужен.
– Чего-таки еще новенького? – спросил Голд, ввернув еврейское словечко.
– Что нам делать, Джек?
– Да ничего. Пойдем к нему в понедельник с утра. Что мы еще можем сделать?
– Мне тоже так кажется.
– Мы всего лишь выполняли свой долг. Работа у нас такая! А если они этого не понимают, это уж их проблема.
– Дело в том, что они могут сделать это нашей проблемой: это уж у них работа такая!
– Ублюдки!
Немного помолчали. Голд начал:
– Хони...
– Что, Джек?
– Я очень сожалею, если я впутал тебя в эту историю! Это все Гунц, у него всегда был зуб на меня.
– Эй, приятель, мы выполняли свой долг – ты сказал совершенно правильно. Пошли они все в задницу, если шуток не понимают!
– Ну ладно, Хони.
– Ладно, Джек.
– Увидимся там в понедельник утром.
– Да уж. – Хониуелл нервно рассмеялся.
Повесив трубку, Голд с минуту сидел и пытался собраться с мыслями. Внезапно заверещал будильник на захламленной тумбочке – Голд даже подпрыгнул. «Нервишки ни к черту!» – подумал он, заглушая будильник. На электронных часах мигало: 7.45. Голд порылся в памяти – зачем это он встал в субботу в семь сорок пять? Вспомнил: сегодня же у его сына день бар мицва![17]17
Бар мицва – букв, «сын заповеди» – совершеннолетний (иврит). День бар мицва справляется у евреев, когда ребенку исполняется 13 лет.
[Закрыть] Или это у ее сына бар мицва? Ссутулив плечи, мрачно ухмыльнулся. Подумал: «Выпить, что ли, или еще слишком рано?»
Голд встал и пошел в ванную. Однокомнатная квартирка с кухонной нишей была тесна и забита дешевой мебелью. При взгляде на эту мебель возникало ощущение, что ее взяли напрокат. Так оно и было – правда, очень давно. На заваленном всякой всячиной пластиковом столе было несколько фотографий в рамках. Все они изображали пухлощекую блондинку в разных возрастах: младенец, дитя, девочка-подросток, молодая женщина. Над столом висел последний снимок с блондинкой – она держала смеющегося младенца. Рядом с ней стоял темноволосый бородатый парень, на вид чуть младше тридцати. Стоя над унитазом и справляя нужду, Голд внезапно почувствовал, как в голове у него застучала кровь. Стряхнув последние капли, нагишом вышел на кухню. Открыл холодильник, вскрыл банку пива «Coors», выпил ее медленными, размеренными глотками, открыл еще одну и тяжело плюхнулся на табуретку за пластиковым столиком. Рядом с солонкой и перечницей всегда стояла на страже бутылочка с аспирином. Голд вытряхнул четыре пилюли и запил их ледяным пивом. Громко рыгнул – наконец-то начал приходить в себя. Допил пиво, смял банку, выбросил ее вместе с первой в пакет для мусора у плиты.
До чего надо докатиться, чтобы бояться праздника бар мицва собственного сына? Для этого надо быть стариком Голдом.
Как так получается, что твой сын уже тебе не сын?
– Загадки, шарады. К черту! – Голд выругался.
Взбил пару яиц, нашел в холодильнике черствые английские булочки и сделал тосты. Начал было делать себе растворимый кофе, передумал: выключил огонь под чайником и открыл еще одну банку пива. И чего ему сегодня не спится? Он поставил пиво и еду на столик. Чуть приоткрыл входную дверь – в квартиру просочился лучик солнца. Две пожилые дамы в соломенных шляпах с обвисшими полями уже подстригали розовые кусты во дворе. В шкафу валялся влажный, давно не стиранный халат. Голд облачился в него и, щурясь от солнца, босиком вышел во двор. Маленькая пушистая собачонка, путавшаяся в ногах у одной из женщин, стрелой метнулась на середину двора и залилась яростным лаем, подскакивая на негнущихся ножках. Пожилые дамы оторвались от своей работы и улыбнулись Голду.
– А, это мистер Голд. Доброе утро, мистер Голд. Целия, смотри-ка, мистер Голд вышел. Тише, Чингиз!
– Лейтенант Голд, Тоби. Он ведь полицейский. Все еще лейтенант. Да заткни ты своего пса, Тоби!
– Доброе утро, миссис Акерманн, миссис Ширер. Неплохой денек сегодня. – Голд без особой надежды искал что-то на ступеньках и под кустами. Собачонка металась по двору, рычала и норовила ухватить Голда за лодыжки.
– Чингиз! Ну будь же хорошим мальчиком! – умоляла миссис Акерманн.
– Вы потеряли что-то, лейтенант Голд? – осведомилась миссис Ширер.
Голд грубо проигнорировал ее и с минуту продолжал свои поиски, пока до него не дошло, что обе женщины молча смотрят на него.
– Э-э-э, что-то я газету свою никак не найду.
– А, это все мальчишка-почтальон виноват! Проносится здесь чертом по утрам. Столько шума от него! Каждый раз пугает моего Чингизика до смерти. Бедняжка лает целый час после этого, и я никак не могу его уложить спать. Может, вы поговорите с ним. Может, если поли...
– А, вот она где! – Голд вытащил газету из живой изгороди и удалился к себе, бросив: – Всего доброго, леди!
Миссис Акерманн продолжала говорить, но Голд поспешно захлопнул дверь. Пища на столе уже остыла, а пиво нагрелось.
За завтраком он пробежал глазами заголовки вверху газеты. В городе разразился очередной бюджетный кризис. Продолжался смог: сообщалось, что из-за него погибло по меньшей мере двое. На холме, в Ривер-сайд-Каунти, пожар уничтожил полдюжины домов, каждый стоимостью не меньше миллиона. В Бейкерсфилде погиб офицер полиции – был убит в перестрелке. Голд взглянул на фото: лицо было незнакомое. Он перевернул газету. В нижнем правом углу была фотография полуразрушенного дымящегося здания. Над входом можно было с трудом различить разбитую звезду Давида. В Жене взорвана синагога. Подпись гласила:
ЕВРОПУ ЗАХЛЕСТНУЛА ВОЛНА АНТИСЕМИТИЗМА. ПОДРОБНОСТИ СМ. НА СТР. 3.
Голд раскрыл газету на третьей странице. Там была еще одна фотография: еврейский ресторан в Париже, изрешеченный пулеметными очередями. В статье сообщалось, что за последние семьдесят два часа европейские города пережили целую волну нападений, направленных против еврейских и израильских учреждений. В Риме израильский посол попал в засаду и ушел живым лишь чудом – пули превратили его лимузин в решето. В Лондоне пострадала секретарша известного еврейского газетчика (ему удалось добиться широкой международной поддержки для Израиля): бомба-бандероль, адресованная ее шефу, оторвала ей руки. Ответственность за большинство этих преступлений взяло на себя радикальное крыло ООП, или «Красные бригады», однако несколько самых «свежих» терактов приписывались вновь возникшей группе европейских ультраконсерваторов. Похоже, у последних были собственные резоны ненавидеть евреев. Далее в статье утверждалось, что за большинством этих актов, несомненно, чувствовалось искусное планирование и организация центрального штаба международного терроризма, пользующегося активной поддержкой и помощью некоторых арабских государств. Инциденты, спровоцированные правыми, были организованы словно по шаблону: нападали на самые уязвимые места, использовали фактор неожиданности. Арестов не было.
Голд доел завтрак и допил пиво. Кое-как вымыл вилку с тарелкой, поставил на полку. По пути в ванную включил проигрыватель, что громоздился на книжном шкафу у стены. Тотчас же комнату затопил жалобный вой саксофона. «Коулмен Хокинз», – машинально отметил Голд. Он прислушался чуть внимательней, пытаясь определить, кто играет на остальных инструментах. На пианино – Рей Брант, на ударных – Кении Кларк, а на басу – либо Жорж Дювивье, либо Эл Маккиббон. Запись года этак пятьдесят восьмого или пятьдесят девятого. Названия пластинки Голд не помнил.
В ванной он включил душ и ждал, пока вода нагреется. Вкус к джазу у него появился во время службы в отделе наркотиков, миллион лет назад. В ту пору в городе была масса джаз-клубов, куда больше, чем сейчас. Некоторые из них превратились в притоны наркодельцов. Большинство из последних ошивались в «Сансете», некоторые – в «Вестерне», а кое-кто и в «Вашингтоне», на краю черного гетто. В этих темных прокуренных заведениях Голд провел бесчисленные ночи: выслеживал торговцев, наблюдал за наркоманами, ждал сделок. Именно тогда, вечер за вечером, он обнаруживал, что наслаждается музыкой, исполняемой в этих клубах, что понимает ее лучше, чем все то, что слышал на протяжении своей жизни. Абстрактные арабески солирующих музыкантов (сначала он слышал в них не более чем блеяние) приобрели для его слуха и логику и лиричность. Размах и ритм этой музыки – поначалу Голд воспринимал его как некий животный такт, помогающий «сидевшему на игле» барабанщику раскачиваться над своей ударной установкой – оказался в действительности самим пульсом жизни, биением сердца. Однажды обретя дыхание, эта музыка была неудержима в своей энергии. Это откровение повлияло на Голда: теперь, когда ему приходилось арестовывать или обыскивать музыкантов (что случалось нередко), он старался делать это по-доброму и с уважением. Музыканты понимали его и платили ему той же монетой. Он превратился в их среде в живую легенду: о детективе Голде ходили невероятные слухи, говорили, что ему достаточно послушать тебя пару минут и он скажет, кололся ты или нет, сколько «дерьма» вколол себе, как давно и даже у кого это «дерьмо» купил. И все это он узнавал по манере твоей игры! Голда уважали. Музыкантов, которых ему пришлось арестовывать, Голду было жаль. А торговцев он выводил на аллейку за клубом и ломал им челюсти. Или ребра. О... старые добрые дни. Древние дни! Это было еще до «битлов», до ЛСД, до революций. Это была доисторическая эра, когда настоящие «хилы» носили одежду в белую полосочку, кололись героином и слушали джаз. Двадцать пять, а то и все тридцать лет назад. В то время Голд еще не успел толком послужить в полиции. Он был новичком, «молодым львом». Детективом он стал в рекордно короткое время, и его направили в отдел наркотиков. В «наркотиках» он служил пятнадцать лет – вплоть до того дня, когда погибла Анжелика. Голд познакомился с Анжеликой в одном из тех самых клубов. Стройная, ладно скроенная Анжелика с длинными прямыми волосами. С кожей цвета cafe au lait[18]18
Кофе с молоком (фр.)
[Закрыть].
Сладостно прекрасная Анжелика с мозгами, растекшимися по синему покрывалу.
Голд стал под душ. Горячая вода барабанила по спине и плечам, промывала последние запыленные уголки его сознания.
«День, когда умерла музыка». Это из какой-то песни. Так юные «фаны» называли день смерти своего любимого рок-музыканта. Так он, Голд, называл день смерти Анжелики, День, Когда Умерла Музыка. День, когда погибло все. Он вновь видел перед собой лицо Гунца – гладкое и насмешливое. В той квартирке, недалеко от Вермонта. Тогда Гунц еще не был шефом, он служил в отделе внутренних дел. «Я прикрою твою задницу, ведь ты коп, – сказал тогда Гунц. – Но повышения тебе больше не видать, уж я позабочусь об этом. Девчонка погибла из-за тебя». Тогда Голд был лейтенантом. Он и по сей день лейтенант – один из старейших во всей полиции. Гунц сдержал свое обещание.
День, Когда Умерла Музыка. День, когда погибла его карьера. День, когда погиб его брак. Теперь он видел перекошенное лицо Эвелин – искаженное, залитое слезами. Эвелин стучала кулаками в ветровое стекло и вопила: «Ты ублюдок! Ублюдок!». Его одежда была разбросана по мокрой от дождя лужайке перед тем домиком в Калвер-Сити. Одежда была разодрана, разорвана в клочья. «Ты ублюдок!» Она стучала в окна машины. Она била в окна ногами! Он никогда не подозревал, что Эвелин способна на такую страсть.
День, Когда Умерла Музыка.
Уэнди видела, как Эвелин колотит по машине. Сколько ей тогда было – семь, что ли? Светловолосая пухлощекая девчушка с испуганными глазами пряталась за парадной дверью. И Голд подумал тогда: «Боже, неужели Уэнди тоже знает об Анжелике?»
Через два месяца, когда он нашел себе квартиру – эту самую квартиру, – посреди ночи зазвонил телефон. Голос Эвелин ядовито сообщил: «Я беременна. И ты никогда не увидишь ребенка, ублюдок! Молю Бога, чтобы это был мальчик – ты ведь так хотел мальчика. И ты его никогда не увидишь. Обещаю тебе».
Она сдержала свое обещание. Как и Гунц.
Фотографии он, конечно, видел. На снимках был худенький светлый мальчуган с такими, же, как у него, голубыми глазами. Он ходил смотреть фотографии к матери – пока та еще была жива. Его мать и Эвелин остались добрыми друзьями. Эвелин была у смертного одра матери. С Того Дня мать не выносила его:
– Как ты мог, Джек?
– Ты бросил все, Джек!
– Он даже не знает, кто его настоящий отец, Джек.
– У тебя было все, Джек. И ты пожертвовал этим.
– И это ради какой-то шварцы[19]19
Шварца – черная (идиш).
[Закрыть], Джек?!
Все было связано. Взаимосвязано. Гунц и Анжелика, Эвелин и Уэнди – все. Образы проплывали в сознании, как немного размытый фильм. Музыкальное сопровождение к фильму – саксофон Коулмена Хокинза. Но только теперь это был уже не Хок: теперь на саксе играл Минт Джулеп Джексон. Великолепный теплый звук инструмента, великолепное теплое движение.
– Позаботьтесь о ней, – говорил Джулеп. Его большое черное лицо блестело от обильного пота наркомана, обеспокоенные глаза были полуприкрыты тяжелыми веками. – Она хрупкая такая. – Джулеп говорил с сильным южным акцентом (так говорят негры в дельте Миссисипи). – Очень хрупкая. Позаботьтесь о ней.
Голд арестовал Минта Джулепа в крохотной гардеробной бара «Фолкэнер Лаундж». Героин был обнаружен в раструбе саксофона – там, где и указывал осведомитель.
– Боже мой, Боже мой! Это все, что она мне завернула, – сказал Минт Джулеп. – В прошлый раз судья говорил: «Еще раз попадешься – схлопочешь пожизненное». Это все, что она мне завернула.
– Правила не пишут, Джулеп. Любишь кататься, люби и саночки возить!
– Знаю, мистер Голд, знаю.
Минт Джулеп – здоровенный мужик весом чуть ли не в триста фунтов – рыдал в грязной гардеробной. Было тесно и жарко, слезы лились по его лицу, мешаясь с потом. Жирные руки в наручниках были завернуты за спину, так что он сидел не столько на расшатанном стуле из красного пластика, сколько на собственных ладонях.
– Послушайте, мистер Голд. Вы всегда были справедливы ко мне. Позвольте попросить вас об одном одолжении. – Джулеп поднял глаза и посмотрел на Голда. – Тут есть одна девчонка, она была со мной. Анжелика Сен-Жермен, не знаете такой? Она просто прелесть. Голосок у нее пронзительный. Может, из нее что-нибудь и выйдет, из Анжелики Сен-Жермен, а? Певицей себя воображает. Как бы там ни было, это моя девушка, и мне не безразлично, что с ней будет. Я люблю эту девочку. Боже, Боже, как я люблю эту малышку! Мистер Голд, вы должны помочь мне. Сходите ко мне, заберите девушку и посадите ее в автобус – ей надо вернуться в Луизиану. Если вы не сделаете этого, здешние сутенеры налетят на нее, как мухи на мед, и мне будет горько услышать об этом, сидя в тюряге. Уж я-то видел, как они на нее пялились, когда мы с ней ходили куда-нибудь. Мистер Голд, она слишком невинна, чтобы защитить себя. Силы в ней нет, понимаете? Она совсем хрупкая, мистер Голд. Умоляю вас, мистер Голд: позаботьтесь о ней!
И я позаботился о ней, это уж точно!
Хрупкая Анжелика. Сладостная Анжелика. Ее длинные тонкие пальцы, легкие как перья, играли на твоем позвоночнике, скользя вверх и вниз, когда ты трахал ее, Голд. Анжелика прекрасная, та самая, что обвивала тебя ногами, вопила и рыдала в бесконечном оргазме, пока соседи не начинали стучать в стену:
– Эй, там, вы что, совсем скоты, что ли?!
И тогда они лаяли и мычали, кукарекали и выли до изнеможения, падали в потные объятия друг друга и хохотали до слез.
– О, Джек, я не могу без тебя! Ты нужен мне больше, чем это.
Больше, чем это? Черт бы меня подрал!
«Позаботься о ней! Она такая хрупкая».
– Я так люблю тебя, Джек!
Даже больше, чем это?
Голд вышел из душа, насухо вытерся полотенцем. В комнате звучала музыка: Майлз играл на своей фисгармонии, Ред Гарланд – на пианино, Филли Джо Джонс – на ударных, Пол Чеймберз – на басу. Уж не пятьдесят ли седьмой год? Накануне падения Майлза. Еще до того, как он испугался быть нежным. До того как мы все испугались этого.
Он вспомнил о вчерашней встрече с Куки. Бедная Куки! Ведь отказать шлюхе в сексе – это все равно что запретить художнику рисовать. Но разве он мог признаться ей, что не имел женщины вот уже почти четырнадцать лет?
С того Дня, Когда Умерла Музыка.
Разве мог он признаться, что встречается с ней только потому, что женщина, умершая четырнадцать лет назад, начинала казаться не такой уж мертвой – благодаря их внешнему сходству? Разве мог он сказать ей, что она служила лишь суррогатом, фотографией привидения?
Голд взглянул на часы: чуть больше девяти. Время ничем не хуже и ничем не лучше любого другого. Он налил себе двойной виски и сел за кухонный столик.
Сегодня можно было бы никуда не ходить. Просто сидеть здесь и пить до отупения, пока боль не отступит. Кому он там нужен? Эвелин, конечно же, прислала приглашение. С единственной целью: разбередить старые раны. Торжественно продемонстрировать сына, которого отняла у него. Может быть, похвастать новым мужем. Хотя каким, к черту, новым – они женаты уже двенадцать лет. Почти столько же, сколько с Голдом. Теперь она Эвелин Марковиц. Доктор и миссис Стэнли Марковиц. А также их сын, Питер. Питер Марковиц. Ну, хоть Уэнди сохранила его фамилию, и на том спасибо. Пока замуж не вышла. Нынче она миссис Хоуи Геттельман. У них сын – Джошуа. Он взглянул на фото над столом. Уэнди звонила и просила прийти сегодня. Беленькая Уэнди с пухлыми щечками. Когда он наконец-то добился права посещать ее, она ожидала его у тротуара с чемоданчиком, где было упаковано самое необходимое. «Папочка, ты любишь меня? А со мной ты не разводишься?»
Что за гадский уик-энд нынче! То шеф Гунц с утра, то бар мицва сегодня. Слишком много воспоминаний. На песню похоже: «Слишком Много Воспоминаний». Однако «Так Мало Надежды».
Уэнди знала, что он придет, если она попросит его прийти. Он никогда ни в чем ей не отказывал. Хот-доги в Диснейленде. Летние отпуска в Испании. Все эти годы одна лишь Уэнди хотела быть с ним. Только она любила и прощала его. Голд знал, что Эвелин всячески мешала этому. Эвелин выпытывала у матери Голда, что он собирается подарить Уэнди на праздник Ханука[20]20
Ханука (букв. торжественное открытие) – еврейский восьмидневный праздник, справляемый в декабре в память победного восстания Маккавеев (иврит).
[Закрыть] или на день рождения, и дарила такой же подарок, но гораздо лучше и дороже.
Теперь у нее были деньги для подобных игр. Деньги доброго доктора. Доктор Марковиц пользовался популярностью в Беверли-Хиллз, Бель-Эйр и Энсино среди женщин, перешагнувших печальный порог сорокалетия. Убрать лишнее? Пожалуйста! Удалить морщинки, подтянуть лицо? Пожалуйста! Был и побочный рог изобилия – надо же чинить искривленные носовые перегородки кокаиновым деткам все тех же стареющих дам.
Захватив с собой стакан с виски, Голд пошел в ванную. Критически осмотрел себя в зеркале и заметил, что изрядно потерял форму. Как автомобиль: то одно вышло из строя, то другое, а в одно прекрасное утро не заведется, и все тебе! Лицо было не то чтобы изрыто морщинами, а совсем покрыто сетью филигранных морщинок: тонкие, как паутина, ручейки расходились в стороны от глаз, от углов рта. Цвет лица – бледный, аж просвечивающийся. «На мертвеца смахиваю», – подумал Голд. Только нос жил своей жизнью: виски уже бродило по капиллярам, и он светился розовым блеском. Ирландский нос. Не нос, а какой-то клюв цвета копченой лососины. Такие носы у тех, кто жрет солонину с капустой.
Голд отхлебнул виски и принялся рассматривать свое тело. Вообще-то всю жизнь он был скорее худым, нежели полным, но сейчас – увы! Над твердыми мускулистыми ногами громоздилось раздувшееся яйцевидное туловище. И еще: хотя полной уверенности не было, ему казалось, что руки у него уменьшились, стали тоньше, слабее. Он начал усыхать, прямо как девяностолетний дядюшка Мэнни. Усыхал он, правда, только там, где не раздавался вширь. Грудь и плечи Голда заросли густыми спутавшимися волосами: на груди волосы были седоватыми, но по мере продвижения вниз – где они плавно переходили в растительность на лобке – господствовал первозданный темный цвет. Анжелика говаривала, что он обезьяна. Грандиозная Обезьяна. Ей так нравилось проводить рукой по его груди, скручивать своими тонкими пальчиками завитки из волос.
Лицо Голда исказила гримаса боли: четырнадцать лет, как мертва, а он думает о ней каждый раз, когда смотрит в зеркало.
Он побрился и причесался. В серебристых волосах виднелись темные пряди, а совсем недавно было наоборот. Прическа у него была модная, короткая, правда, он всегда носил такую – задолго до того, как она вошла в моду. По крайней мере облысение ему вроде бы не грозило, в отличие от старика отца: тот облысел задолго до смерти.
Голд начал было напяливать свой лучший костюм темно-синей шерсти, но вспомнил, что день будет жаркий, и потянулся за коричневым летним костюмом. Когда натянул на себя летние брюки, внезапно передумал, сбросил их и стремительно оделся в синий костюм.
«Чего это я дергаюсь сегодня с утра», – удивился Голд, – ведь мне всегда было наплевать на мою внешность".
– Надо бы еще выпить, – сказал он вслух, не замечая этого.
Наливая виски, взглянул на часы: почти десять уже.
Завалился в тесное неудобное кресло перед телевизором. Закурил первую за сегодняшний день сигару. Покопался под подушкой, нашел пульт от телевизора, включил его. Радиола все еще играла – звучал какой-то дерьмовый джаз-рок, который Голд не переносил. Он прошелся по телеканалам: мультики, комитеты для тех, «кто еще не забыл, что они черные», теледискуссии для тех, «кто еще не забыл, что они мулаты»... А, наконец-то! – бейсбольный матч с Восточного побережья. «Ангелы» играют в Нью-Йорке. Подача была скучнейшая: очков никто не заработал. Мяч подавал Уоллли Джойнер. Когда пошла реклама, Голд вновь принялся переключать каналы. Остановился, наткнувшись на «Беседу с репортером». Эта передача всегда ему нравилась. Ведущую (это была красивая мулатка с довольно светлой кожей) звали Одра Кингсли. Голду она напоминала Анжелику.
"Сегодня в нашей студии необычный гость, – вещала Одра своими напомаженными, цвета персика, губами. – Это член городского совета Харви Л. Оренцстайн. Он представляет Совет Западного округа Лос-Анджелеса. Советник Оренцстайн – фигура известная, многие ожидают, что он выиграет ближайшие выборы и станет первым еврейским мэром Лос-Анджелеса. Мы не планировали встречу с господином Оренцстайном на сегодняшнее утро, но все же попросили его прийти в нашу студию, чтобы обсудить с ним отвратительную волну антисемитизма, прокатившуюся по Европе в течение минувшей недели. Кроме того, имеется информация о событиях, представляющих самый непосредственный интерес для наших зрителей. Об этом и многом другом мы будем говорить с членом городского совета Харви Л. Оренцстайном – после того как «Побеседуем с репортером».
Одра Кингсли была красива, но ее красота отличалась от красоты Анжелики. Цвет кожи и волос был у обеих одинаков – отличались глаза. Тлаза у Анжелики были гораздо светлее, карие, временами даже почти зеленые. Анжелика возненавидела бы Одру Кингсли – она не выносила телевидения. Кино она тоже терпеть не могла: так ни разу и не высидела ни одного фильма до конца. Еще она ненавидела рок-н-ролл, мотаун-саунд[21]21
Разновидность поп-музыки (англ. motovyn sound).
[Закрыть] и заниматься любовью при свете. Она была пылкой натурой – и в своих вкусах тоже.
«Она такая хрупкая!»
Она говорила, что любит все на букву «джей»: джаз, джанк[22]22
Жаргонное название наркотиков, особенно героина (англ. junk).
[Закрыть] и Джека Голда.
А еще джайвинг[23]23
Джайвинг – от глагола to jive: «играть быстрый джаз».
[Закрыть]. Это она секс так называла – джайвинг.
"Прошу вас, советник Оренцстайн! Мы очень благодарны вам за то, что вы пришли на «Беседу с репортером».
– А вам, Одра, спасибо за приглашение".
Харви Оренцстайн походил на этакого неряшливого медведя, облаченного в помятый костюм и белую рубашку с несвежим воротничком. Свою политическую карьеру он начал в шестидесятые как вожак студенческих волнений. И хотя длинные волосы были давным-давно подстрижены, а линялые джинсы выброшены на свалку, пятисотдолларовая, сделанная на заказ английская «тройка» сидела на Харви мешком. Когда он впервые вступил в должность, его заместители обнаружили, что у него нет ни единой пары носков. Ладно бы носки безвкусной окраски – а то вообще никаких! Все прошлые годы Харви не носил ничего, кроме кроссовок и сандалий. Для менеджера выборов он стал сущим кошмаром. Невзирая на все это, либерально настроенное еврейское население Вест-Сайда упрямо переизбирало его год за годом. Голд и тот голосовал за него.
"Советник Оренцстайн, расскажите нам, откуда вы прибыли этим утром в нашу студию.
– Как это ни прискорбно, Одра, я приехал сюда из оскверненной синагоги.
– Где же произошло это омерзительное святотатство, господин советник? В Париже? В Женеве? В каком-нибудь из европейских городов, о которых мы недавно читали?
– Нет, Одра. Мне тем более тяжело сообщать об этом, поскольку святотатство произошло в нашем Лос-Анджелесе.
– Не могли бы вы рассказать подробнее?
– Конечно, Одра. Рано утром мне позвонил мой добрый друг раввин Мартин Розен из синагоги «Бет Ахим»[24]24
Название синагоги означает «Дом братьев» (иврит).
[Закрыть].
Он был ужасно, просто ужасно взволнован, что неудивительно. Он сообщил мне ужасную новость об осквернении синагоги. Это произошло в промежуток времени от полуночи до шести утра (в шесть к синагоге подъехал техник, чтобы приготовить храм к субботней службе.) Какой-то подонок осквернил стены и входную дверь храма грязными антисемитскими лозунгами – у него был аэрозольный баллон с краской. Я успокоил раввина Розена и обещал быть на месте как можно скорее. Однако, как только я повесил трубку, телефон зазвонил вновь..."
Телефон Голда зазвонил.
– "...один из прихожан синагоги, мой избиратель, сообщил мне о святотатстве и просил меня, даже требовал от меня не оставить это дело без разбирательства!
В течение следующих десяти – пятнадцати минут мой телефон не смолкал, так что я не смог выехать из дому сразу. Звонили не только прихожане и даже не только евреи, но и просто жители нашего города, возмущенные и разгневанные этим отврати..."
Голд встал с кресла и поднял трубку. Не отрывая глаз от экрана, он внимательно слушал, время от времени односложно отвечал.
«...Мы немедленно направили на место происшествия наших операторов, так что в нашем распоряжении уже есть видеозапись, которую вы сейчас увидите. Господин советник, не могли бы вы прокомментировать эти кадры?»
Лицо Одры Кингсли растворилось в темноте, затем на экране возникла серая бетонная стена. Через всю стену ползли красные буквы со множеством петель:
БЕЙ ЖИДОВ!
СМЕРТЬ ПАРХАТЫМ!
Ниже были два креста.
Невысокого роста седой человечек в сером костюме с жемчужным отливом взволнованно жестикулировал, указывая на стену, и что-то говорил двум полицейским в форме.








