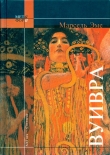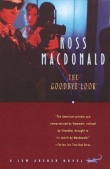Текст книги "Вино парижского разлива"
Автор книги: Марсель Эме
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)
Не отнимая трубки от уха, Гранжиль обернулся. Позади него стоял Мартен и пристально смотрел на него.
– Мразь, – кратко произнес Мартен.
– Я расскажу тебе обо всем завтра, – заторопился Гранжиль. – Надеюсь, ты повеселишься не меньше, чем я. Хотя, по сути, это скорее печально… Хорошо… Минутку…
Мартен схватил трубку, пытаясь вырвать ее у него из рук.
– Я скажу ей пару слов, твоей потаскухе.
Гранжиль не стал сопротивляться и нажал на рычаг, прервав разговор. Мартен с такой яростью швырнул трубку на пол, что она раскололась.
– Подонок, теперь я все понял. Выходит, ты решил надо мной поизгаляться. Я-то принял тебя за неудачника, хотел помочь тебе, а ты – ты посмеивался в кулак, думая о своем счете в банке. Уже одно это подлость. Ты обязан был отказаться, оставить эту работу тому, кто в ней в самом деле нуждался. Но господину вздумалось прогуляться по ночному Парижу. Господин искал приключений. На улице Лапп все позакрывали, и тебе этого недоставало. Повтори же это, подонок, повтори, что ты играл злодея, главаря…
– Мартен, не сердись. Сейчас я тебе все объясню…
Гранжиль хотел снять с себя обвинение в дешевом дилетантстве – самом постыдном, самом непростительном преступлении в глазах человека, трудом зарабатывающего себе на жизнь и имеющего преувеличенное представление о значимости если не роли своей, то действий. «Нет, – думал он, – я пошел с ним в погреб не как дилетант; я поддался серьезному, чисто человеческому любопытству, и то же самое любопытство толкнуло меня на эту проделку с Жамблье, стремление не довольствоваться первым впечатлением, а копнуть глубже, взбаламутить это болото». Тем не менее он не сказал это вслух, осознавая в глубине души, что в его поведении было нечто от игры или, по меньшей мере, от поисков эстетического наслаждения.
– Не нужны мне твои объяснения, – кипел от негодования Мартен. – И потом, тут нечего объяснять. Ты забавлялся как девка, не заботясь о последствиях. Да-да, как девка. Я зарабатываю себе на жизнь, мне приходится нелегко. А ты влез в мою работу, ты сделал все, чтобы мне подгадить.
– Ну все, будет, – сухо отрезал Гранжиль. – Работу, которая от меня требуется, я сделаю, и Жамблье не останется в накладе.
– Плевать мне на это. Ты влез в мою работу.
– Вот заладил: моя работа, моя работа… Уши вянут. Котелок – это, конечно, неплохо, но тебя заносит уже до цилиндра.
Пожав плечами, Гранжиль отошел. Мартен обернулся. Взгляд его упал вначале на столик, где были расставлены распаляющие воображение рисунки с голыми красотками, а затем на женский портрет, стоявший на мольберте. Ни секунды не колеблясь, он устремился к мольберту, сжимая в руке карманный нож. Всадив лезвие в самую середину неба, он распорол портрет сверху вниз и справа налево.
– Я тоже умею забавляться с чужой работой…
Он нагнулся было к пейзажу, стоявшему под мольбертом, но на него уже навалился Гранжиль. Пока они боролись, завыла сирена отбоя воздушной тревоги, и Мартен даже не услышал стона, который издал его напарник, когда лезвие ножа вошло ему в живот.
Мясник предложил Мартену холодный ужин, но он согласился только на стакан вина. Осушив его залпом, он застыл на стуле, на который плюхнулся, едва войдя в чулан. Последний участок пути его совсем вымотал. Мясник твердил, что он не понимает, как можно было в одиночку преодолеть такой крутой подъем с ношей более чем в сто кило. Но Мартен не слушал его. Он разглядывал свои руки, дрожавшие от усталости, и все еще чувствовал на затылке и плечах кожаную лямку, которой он связал чемоданы. Во время пути от мастерской до лавки мясника, всецело поглощенный физическими усилиями, он, словно вьючная лошадь, думал одними лишь мускулами. Теперь его сознание, еще наполовину затемненное тошнотворной усталостью, мало-помалу прояснялось. Отчетливая картина, всплывая из глубин памяти, завладевала его мыслями. Это было воспоминание о турецком солдате, которого он проткнул тесаком в 1915 году. О свежем трупе, лежавшем на правом боку скрючившись, с прижатыми к окровавленному животу руками. Так ясно, так правдиво, как сейчас, этот образ никогда еще не представлялся Мартену.
Обескураженный молчанием гостя, мясник ушел в лавку взвешивать свинину и укладывать куски мяса в ледник. Мартен не заметил, как тот вышел. Он смотрел на мертвеца. Время от времени от трупа турка отделялся труп Гранжиля и тотчас пропадал. Мартен, смутно осознавая свое мошенничество, пользовался этим совмещением трупов, чтобы оправдать свое преступление: «Тогда была война. По мне, так пусть бы себе жил. Я не злодей. Но если б не он, то я. Человек не всегда свободен в своих поступках. Вот где правда. Человек не всегда свободен в своих поступках». Мясник тем временем звонил по телефону:
– Алло! Жамблье?.. Это Маршандо. Вес правильный. Да, передаю ему трубку… Спокойной ночи.
Мартен дотащился до прилавка, где стоял телефонный аппарат.
– Да, это я. Он мертв… деньги он мне отдал… Не суйтесь не в свое дело. – Положив трубку, он сказал мяснику: – Я сейчас уйду. Но сначала дайте мне конверт и марку.
Он достал из бумажника пять тысяч франков, которые ему вернул Гранжиль, запечатал их в конверт и надписал на нем адрес Жамблье.
– Еще стаканчик вина? – предложил мясник. – Или глоток коньяку? У меня найдется.
– Спасибо. Могу я оставить у вас чемоданы? Я зайду за ними завтра вечером между шестью и семью.
Мартен вышел, не отвечая на любезности мясника. Было полвторого ночи. Ветер, тоненько подвывая, дул на безлюдных улицах. Мартен шагал в лунном свете, нимало не заботясь о том, что его может увидеть полицейский, он даже не думал об этом. Когда он шел с четырьмя чемоданами из мастерской Гранжиля, он тоже не прятался и брел по оживленным после отбоя тревоги улицам, не думая об опасности.
Его неотступно преследовал образ убитого им турецкого солдата. Мертвец одиноко лежал на выступе скалы, словно на специально для него предназначенном ложе, и ничто вокруг него не напоминало о сражении, в котором он пал. «Человек не всегда свободен в своих поступках», – твердил себе Мартен. Но мало-помалу мертвец раздваивался. Как при двойном экспонировании, тело Гранжиля поначалу было всего лишь смутным отпечатком на трупе солдата, но потом все яснее выделялось на его фоне. Иногда Мартену удавалось совместить оба силуэта в один, но фигура Гранжиля тотчас занимала свое место. Две головы, два торса вырисовывались раздельно. В конце концов рядом легли два мертвеца: солдат в мундире и художник в распахнутом халате поверх окровавленной одежды. Вид Гранжиля был не так уж страшен. Соседство солдата делало его смерть одной из неизбежностей войны. «Человек не всегда свободен в своих поступках», – вновь подумал Мартен. Внезапно труп турка отступил к горизонту его памяти и сгинул. Вокруг мертвого Гранжиля, лежавшего теперь посреди беспорядка разбросанных полотен и опрокинутого мольберта, возникла обстановка мастерской. Кровь вытекала из двух ран, на животе и на боку, и пропитывала одежду Гранжиля. Лужица крови расползалась на пейзаже бульвара Бастилии в серых тонах подобно солнечному закату. Впервые после трагедии Мартен почувствовал себя наедине с совершенным им убийством. Первая его мысль была о консьержке. Он представил себе ее исполненное укоризны лицо и осознал, что стал врагом общества. Тем временем он добрался до пересечения улиц Аббатис и Равиньяна. Ледяная пустынность перекрестка вызвала у него головокружительный страх. У консьержки было суровое лицо. Она стояла в центре группы, в которой он узнавал соседей по подъезду, коммерсантов улицы Сентонжа, родственников, брата Анри, который держал закусочную на маленькой улочке Шартра, кузенов из Менильмонтана, компаньонов по работе, друзей детства. Они переговаривались между собой: «Кто бы мог ожидать такое от Мартена?» На этих лицах из привычного мира, на которых он обычно искал отражение собственной личности, он обнаруживал свой лик убийцы и смутно различал уготованную ему кару. Он, самый общительный из людей, уже был приговорен к вечному одиночеству перед этими сурово нахмуренными лбами. Между ним и консьержкой вырастало непреодолимое расстояние. Никогда больше не осмелится он написать письмо брату Анри, навестить кузенов из Менильмонтана. По улице он будет ходить, избегая взглядов бывших компаньонов и делая вид, что никого не узнаёт. С работодателями будет разговаривать без былой самоуверенности. Перестанет торговаться с ними.
На безлюдных улицах Монмартра лунный свет обострил в нем чувство одиночества. Провалы теней таили в себе сплошное отчаяние. Мартен позабыл о Гранжиле, думая только о преступнике, коим он стал. Шел он быстро. Если б не усталость, он пустился бы бегом, чтобы удрать от этого одиночества и, быть может, оказаться среди других людей, незнакомых, для которых он и сам был бы незнакомцем. Мартен углубился в пугающие своей чернильной теменью улочки. Ему, обмирающему от страха, казалось, что на площади Пигаль он наконец найдет человеческое присутствие, в котором так нуждался. Много раз ему чудились какие-то отголоски, но, когда он вышел на площадь, она предстала ему белой от лунного света и пустынной. Только один немецкий солдат торопливо шагал по тротуару. Мартен бросился ему вдогонку. Встревоженный, солдат остановился и спросил:
– Вы хотите мне что-то сказать?
Мартен развернулся, сошел с тротуара и поспешил прочь. Солдат проводил его взглядом, проворчав:
– Verrückt, der Mann[1].
Под луной площадь была безобразно голой. Балюстрада метро, тротуары, иссякший фонтан с опустевшей чашей в чередовании холодного яркого света и непроглядно черных теней приобретали грубую, режущую глаза рельефность. Находясь в центре всех этих безжизненных улиц, берущих от нее начало, площадь, казалось, рассылала в бесконечность пустоту и тишь. Мартен брел без всякой надежды, но вдруг, подходя к пятачку в центре площади, отчетливо услышал звук голосов, доносившийся, похоже, с улицы Пигаль. Он ускорил шаг. Улица была погружена во тьму. На рубеже тени и света он увидел человека в черном пальто, беседующего с другими людьми, невидимыми в ночи. Когда он оказался в нескольких шагах от группы, неизвестные умолкли, и из темноты выступили двое полицейских.
– Что вы тут делаете? – спросил один из них.
– Возвращаюсь домой. Представьте, меня застигла воздушная тревога. Я был у друзей и уже собрался было уходить…
Избавившись от гнета одиночества, Мартен говорил свободно, с воодушевлением, в котором сквозило чуть ли не ликование.
– Отбой тревоги дали в двадцать минут первого. А сейчас два.
– Я знаю. Сейчас я вам все объясню…
Человек в штатском, до сих пор не вступавший в разговор, подошел, чтобы получше разглядеть Мартена.
– Берите его, – скомандовал он полицейским.
Мартен сопротивлялся – поскольку единственным его чаянием было провести ночь в участке, он решил вести себя дерзко. Полицейские зажали его с двух сторон, угощая тычками в ребра. Уперев кулаки в бедра, они с силой поддавали Мартену локтями. Группа двинулась во тьму, спускаясь по улице Пигаль. Из ночного кабаре с потушенными огнями едва просачивалась музыка.
– Вы не имеете права, – бубнил Мартен. – Вы еще попомните меня, будь вы хоть трижды фараоны.
Полицейские отвечали на это лишь тычками локтей, точными и чувствительными. Мартен успокоился – он наконец обрел пристанище, где до завтрашнего дня сможет спастись от тишины, от одиночества, от взглядов консьержки и друзей. Он уже чувствовал себя свободней и думал о человеке, которого убил. Его душа начала наполняться тихой грустью, сердце щемило дружеским сочувствием к убитому.
Они вышли на перекресток, залитый лунным светом. Инспектор, шагавший впереди, остановился и сделал им знак остановиться. При мысли о том, что его, быть может, отпустят на все четыре стороны, Мартен не на шутку встревожился. Здесь было так же пустынно и жутко, как и на площади Пигаль. Инспектор держал в руках плоский прямоугольный предмет, завернутый в газету. С неуклюжей, порывистой поспешностью он принялся разворачивать пакет – толстые шерстяные перчатки мешали ему. Его словно охватило нетерпение.
– Ты знал художника по имени Жилуэн?
– Нет, – ответил Мартен.
Инспектор сунул ему под нос блокнот в серой полотняной обложке, который он наконец извлек из обертки. Блокнот был открыт на странице, заложенной полоской газетной бумаги. Мартен увидел портрет, дату.
– За что ты его убил?
Мартен не ответил. Его молчание становилось многозначительным. Инспектор и полицейские озабоченно смотрели на него, поджидая момент, когда его можно будет расценить как признание. Мартен, впрочем, отнюдь не замечал их озабоченности. Он испытывал умиротворенность от того, что его судьба наконец пришла в согласие с его новым лицом, отражаемым зеркалом его повседневного бытия. Одиночество и тишина улиц, которые подстерегали его во время ночных походов, уже не таили в себе угрозы. Он больше ничего не боялся.
– За что ты его убил? – повторил инспектор уже мягче.
На этот раз Мартен попытался найти вразумительный ответ и надолго задумался. Тут были и уход Мариетты, и странное поведение Гранжиля, и его маленькие, излучавшие иронию глазки, и эта загадка противоречий, разрешившаяся столь неприятным сюрпризом, и воздушная тревога. Горстка мелочей, почти детских обид. Завершение неудачного дня. Был еще и турецкий солдат. В возрасте, в каком мальчишки из порядочных семейств еще ходят в школу, Мартена послали на штурм полуострова с тесаком в руке. Но пусть этим займется адвокат. Мартен ответил степенно и просто:
– Знаете, человек не всегда свободен в своих поступках.
Один из полицейских расхохотался. Впрочем, увидев, что двое его сослуживцев сохраняют серьезность, он смущенно умолк. До комиссариата было уже недалеко, и инспектор счел излишним надевать на убийцу наручники. Полицейские просто взяли его с обеих сторон под руки. Они снова двинулись в путь и вошли в тень. Мартен вдруг сообразил, что забыл опустить в почтовый ящик письмо с пятью тысячами франков для Жамблье – оно так и лежало в кармане пальто. Он вытащил его и незаметно для своих стражей уронил позади себя на мостовую. Утренний прохожий подберет конверт и опустит его в ящик. В честности этого безвестного прохожего Мартен не сомневался ни секунды. Никогда еще он не верил так безгранично в добродетель себе подобных.
Перевод Вал. Орлова
Сборщик жен
В маленьком городке Нанжикуре жил когда-то налоговый инспектор по фамилии Готье-Ленуар, которому было очень трудно платить налоги. Дело в том, что жена его тратила много денег на парикмахера и портниху, а причиной этому был красавчик лейтенант из расквартированного в городе обоза: каждое утро он проезжал верхом перед ее окнами, а днем она частенько встречала его на Главной улице.
Вообще-то г-жа Готье-Ленуар была верной женой и не держала в мыслях ничего – ну, почти ничего – дурного. Ей просто нравилось представлять себе, как она нарушила бы супружеский обет в объятиях статного молодого щеголя, и при этом знать про себя, что в ее мечтах не было ничего несбыточного – отнюдь! Вот потому-то лучший в Нанжикуре парикмахер каждую неделю мыл ей волосы шампунем и делал красивую укладку; все вместе стоило 17 франков, к этому еще надо добавить то массаж, то стрижку, то перманент. Но самая большая статья расходов приходилась на платья, костюмы и пальто: все это она заказывала у мадам Легри на улице Рагондена (Рагонден, Леонар, род. в 1807 г. в Нанжикуре, поэт, мастер изящного стиха, автор сборников «Влюбленная листва» и «Оды кузине Люси»; во время франко-прусской войны 1870–1871 гг. мэр города. Основал в Нанжикуре картинную галерею. Выдающийся археолог; последние годы его жизни омрачила нашумевшая ссора с проф. Ж. Понте по поводу развалин Алибьенской башни. Ум. в 1886 г.; мраморный бюст Р. работы нанжикурского скульптора Жалибье установлен на площади Обороны, куда выходит улица, названная именем Р.) – так вот, у мадам Легри, которая шила для самых знатных дам Нанжикура. Налоговый инспектор Готье-Ленуар знатным человеком не был, зато аккуратно платил по счетам от портнихи, как только получал их; потому-то, когда наступало время уплаты налогов, он неизменно оказывался в стесненных обстоятельствах.
Однако налоговый инспектор никогда не упрекал жену за непомерные расходы. Напротив. Он часто бросал одобрительные взгляды на ее туалеты, что могло быть воспринято как поощрение к новым тратам. Ему было 37 лет, рост 1 м 71 см при объеме груди 85 см, брюнет с овальным лицом, карими глазами, небольшим носом и черными усами; на щеке – поросшая жесткими волосками родинка, расположенная так, что никакая борода бы ее не скрыла. Инспектор очень добросовестно относился к своей работе и нередко трудился даже в неурочные часы, а так как ему самому всегда трудно было платить налоги, он от души сочувствовал простым смертным, то есть всем налогоплательщикам. Когда они приходили в налоговое управление, он встречал их добродушной улыбкой и с готовностью предоставлял любые отсрочки. «Я ведь не с ножом к горлу… – говорил он, – заплатите, когда сможете. В конце концов, выше головы не прыгнешь», а иногда даже позволял себе вздохнуть: «Ах, если бы это зависело от меня…» Налогоплательщики его намеки понимали с полуслова и не спешили платить. Были среди них и такие, что жили, не зная забот, и при этом задолжали казне налоги за несколько лет. Вот им инспектор особенно симпатизировал. Восхищаясь в душе этими людьми, он говорил о них с нескрываемой нежностью. Однако, будучи лишь маленьким колесиком в бюрократической машине, он был вынужден посылать задолжникам предупреждения, а иногда и направлять к ним судебного исполнителя. От необходимости принимать эти суровые меры у него разрывалось сердце. Всякий раз, решившись послать налогоплательщику последнее предупреждение, инспектор прилагал к нему любезное письмецо, чтобы по возможности смягчить суровость казенных формулировок. Иногда угрызения совести мучили его так, что после работы он даже отправлялся к кому-нибудь из своих задолжников и говорил с приветливой улыбкой: «Вы завтра получите предупреждение, но не придавайте, пожалуйста, этому значения. Я вполне могу еще немного подождать».
И лишь к одному налогоплательщику во всем Нанжикуре налоговый инспектор питал враждебные чувства. Это был г-н Ребюффо, богатый домовладелец, который жил в красивом особняке на улице Муанэ (Муанэ, Мельшиор, род. в 1852 г. в Нанжикуре. Изучал архитектуру в Париже, затем вернулся в родной город. Среди зданий, построенных по его проектам, наиболее примечательны сберегательная касса и крытый рынок для торговли зерном. Ум. в 1911 г. в результате несчастного случая на охоте). Этот г-н Ребюффо всегда платил налоги раньше всех. Получив налоговую карточку, он в тот же день являлся к инспектору и весело говорил: «Ну-с, господин Готье-Ленуар, давайте уладим наше дельце. Каждый платит, сколько с него причитается, не так ли? Терпеть не могу что-либо откладывать в долгий ящик». Он доставал из бумажника пачку тысячефранковых банкнот и начинал считать вслух: один, два, три, четыре и так до шестидесяти с лишним, потом переходил к купюрам по сто франков, добавлял немного мелочи, прятал в карман квитанцию и, ожидая от инспектора одобрения, неизменно произносил с довольной улыбкой человека, находящегося в ладу со своей совестью: «Теперь я чист до будущего года». Но инспектор ни разу не сумел выдавить из себя ни единого доброго слова в ответ. Он холодно прощался и вновь склонялся над бумагами, а когда посетитель направлялся к двери, провожал его сердитым взглядом.
Однажды – это было в 1938 году – у налогового инспектора совсем стало плохо с деньгами. А случилось вот что: проходя как-то по Главной улице, г-жа Готье-Ленуар увидела, как ее красавчик лейтенант следует по пятам за одной молодой вдовушкой, буквально раздевая ее взглядом (иного слова не подберешь). На другой день она послала лейтенанту анонимное письмо, в котором сообщалось, что вдовушка страдает венерической болезнью, затем отправилась к мадам Легри и заказала нарядное голубое платье, еще одно шерстяное спортивного фасона, твидовый костюм, крепдешиновый костюм с несколькими блузками и, наконец, светло-зеленое пальто с накладными карманами. Чтобы справиться с такими расходами, ее муж был вынужден потратить часть денег, отложенных на уплату налогов. Впрочем, это его не слишком встревожило. Каждый год он откладывал нужную сумму, но всякий раз она успевала растаять до августа. Он лишь заметил, что в нынешнем году события развивались быстрее обычного, и выразил надежду, что на этот раз жена запаслась туалетами по крайней мере на год вперед. Но всего месяц спустя она купила шесть шелковых комбинаций, четыре шелковые пижамы, шесть пар шелковых панталончиков, шесть шелковых лифчиков, два атласных пояса с подвязками, двенадцать пар шелковых чулок и две пары домашних туфелек без задников – розовые и белые.
И вот однажды октябрьским вечером налоговый инспектор покинул контору в крайне расстроенных чувствах. Когда он вышел на площадь Борнебель (Борнебель, Этьен де, род. в 1377 г. в замке Борнебель. В 1413 г. руководил обороной города, осажденного бургундцами, и поклялся, что скорее умрет, чем сдастся. Действительно не сдавался, пока, на восемнадцатый день осады, не кончились запасы продовольствия. Ум. в 1462 г. в Париже), заморосил дождь. Ярко освещенные витрины многочисленных лавок заливали площадь светом. Инспектор свернул к почте, расположенной на углу Главной улицы; остановившись перед почтовым ящиком, достал из кармана листок бумаги зеленого цвета и несколько раз прочел адрес на нем. Это было официальное уведомление, которое он направлял сам себе. Поколебавшись, он опустил его в ящик, потом вынул из другого кармана пачку таких же уведомлений, предназначавшихся другим задолжникам, и бросил их вслед за первым.
Дождь полил сильнее. Инспектор в каком-то лихорадочном состоянии смотрел на оживленную площадь, на сновавшие над тротуарами разноцветные зонтики и тормозившие на мокрой мостовой автомобили. Из пелены дождя в вечернее небо поднимался приглушенный гул, казавшийся ему ропотом налогоплательщиков, замученных бременем непосильных налогов. В толпе прохожих он вдруг заметил бегущего человека в пальто с поднятым воротником и узнал кондитера Планшона, которому только что было отправлено уведомление. В порыве сочувствия инспектор тоже побежал и вслед за Планшоном вошел в кафе «Центральное». В большом зале за столиками сидели человек двадцать: одни играли в карты, другие просто болтали. Инспектор сел рядом с кондитером и подчеркнуто горячо пожал ему руку; тот, похоже, не понял этого дружеского жеста, рассеянно и даже равнодушно поздоровался и, отвернувшись, уставился на соседний столик, где играли в пикет. Рядом с игроками сидел примерный налогоплательщик г-н Ребюффо и тоже следил за ходом партии, покуривая трубку. При виде этого человека с безупречной репутацией инспектор проникся еще большим сочувствием ко всем горожанам, которым не давала покоя налоговая инспекция. Он наклонился к Планшону и прошептал ему на ухо:
– Я видел, как вы вошли в кафе. Я бежал за вами. Хотел вас предупредить, что вам отправлено официальное уведомление. Поймите, я был вынужден… Только не принимайте это близко к сердцу…
Планшон был явно раздосадован. Переварив услышанную новость, он громко сказал:
– Ах вот как, вы послали мне уведомление?
– А что поделаешь? Порядок есть порядок, а я человек подневольный. Поверьте, никакой радости мне это не доставляет. – И скромно добавил: – Я вдвойне подневольный: ведь я тоже налогоплательщик.
Но Планшон вовсе не желал брататься с налоговым инспектором. Он, конечно, не сомневался, что инспектор платит налоги, но, наверное, воображал, что его положение дает какие-то льготы. Кондитер снова повернулся к соседнему столику и с горечью произнес:
– Вот радость-то! Завтра я получу уведомление от налогового инспектора.
Интерес к партии в пикет тут же угас. Игроки с опаской покосились на Готье-Ленуара, один них спросил:
– Верно, и я скоро получу?
Молчание инспектора подтвердило его предположение. Игрок досадливо поморщился:
– Ничего не поделаешь. Переживу как-нибудь.
Впрочем, непохоже было, что ему так уж трудно это пережить. Да и Планшон был не из тех, кто портит себе кровь из-за какого-то уведомления, но оба почувствовали, что атмосфера сгущается, и, недолго думая, заняли оборонительную позицию. Посетители, сидевшие за соседними столиками, включились в разговор, все стали отпускать едкие замечания по адресу налоговой администрации, не задевая, однако, лично инспектора, так что бедняга не мог даже слова сказать в свое оправдание. Враждебность к нему окружающих выражалась лишь намеками, впрочем, по-другому и быть не могло. Он был служащим налогового управления, а значит, заодно с администрацией, и, пожалуй, лишь осторожность не позволяла людям бросить ему в лицо это обвинение.
Инспектор и не пытался ничего сказать в свое оправдание – он был оскорблен до глубины души этой вопиющей несправедливостью. Ведь ему хотелось поделиться с этими враждебно настроенными людьми своими тревогами простого налогоплательщика, чтобы их объединил общий протест, или, по крайней мере, недовольство бюрократической машиной, но положение не позволяло ему высказаться. Г-н Ребюффо, откинувшись на спинку стула, посасывал трубочку и молча прислушивался к нараставшему ропоту. В глазах его вспыхивали насмешливые искорки, и он все время пытался поймать взгляд инспектора, ища в нем единомышленника и готовясь к совместному отпору. Но тот даже не смотрел в его сторону и потому не замечал знаков дружеского расположения, которые подавал ему г-н Ребюффо.
И г-н Ребюффо не выдержал. Очередное замечание Планшона о полной неразберихе в стране показалось ему особенно рискованным, и он решил наконец вмешаться. Дружелюбно улыбнувшись инспектору, домовладелец заговорил обстоятельно и неторопливо. Он убедительно объяснил, что налогообложение – это жизненная необходимость для всей нации и что если некоторые несознательные граждане пытаются уклониться от уплаты налогов, то делают они это только себе во вред. Потом он заверил, выразительно посмотрев на Планшона, что, к примеру, торговля кондитерскими изделиями процветает исключительно благодаря строгому налогообложению, ведь не располагай государство средствами на содержание церквей, все они давно разрушились бы, а если бы добрые христиане лишились возможности ходить к мессе, как могли бы они покупать торты и пирожные, выходя из церкви по воскресеньям? И г-н Ребюффо закончил свою речь похвалой в адрес скромных тружеников, которые так усердно взимают налоги и обеспечивают бесперебойную жизнедеятельность нашего общества. Тут он улыбнулся еще шире, подмигнул инспектору и снова закурил трубку. Готье-Ленуар густо покраснел, лоб его покрылся капельками пота. От сочувствия и поддержки г-на Ребюффо сердце его исполнилось горечи. Он хотел решительно возразить, но осекся: профессиональный долг не позволил ему спорить с примернейшим из налогоплательщиков и опровергать его столь разумные доводы.
Посетители слушали г-на Ребюффо внимательно и с почтением. Он занимал видное положение в обществе, пользовался всеобщим уважением – это придавало вес его словам, и, хотя каждый остался при своем мнении, возразить никто не решился. Наступила примиряющая пауза, все как будто успокоились, а Планшон, желая показать, что г-н Ребюффо не зря сотрясал воздух, любезно предложил инспектору что-нибудь выпить. Тот неуклюже отказался, что-то смущенно пробормотал на прощание и удалился, ссутулившись, ибо чувствовал спиной удивленные, беззлобно-насмешливые взгляды.
Инспектор пересек площадь Борнебеля, где еще попадались прохожие с зонтиками, и свернул на совсем пустынную улицу. Не обращая внимания на дождь, он вновь переживал в мельчайших подробностях все происшедшее в «Центральном». Он понимал, что личная неприязнь, которую он испытывал к г-ну Ребюффо, еще не объясняет вспыхнувшую в нем ярость против этого человека. Несомненно, существовали причины иного порядка, но почтение к своей должности помешало инспектору углубиться в их анализ. Если он докопается до этих причин, казалось ему, то окончательно лишится покоя, и он попытался больше об этом не думать. Чтобы отвлечься, он углубился в мысли о домашних заботах, но, как выяснилось, просто подошел к той же проблеме с другой стороны. Задумавшись о своих денежных затруднениях, он вспомнил о листке, опущенном в почтовый ящик: завтра утром он получит уведомление. Угроза надвигалась неотвратимо, но ситуация была не лишена юмора: инспектор как будто сам себе готовил сюрприз. Ведь он мог бы не опускать уведомление в почтовый ящик, а просто сунуть в карман и считать, что получил его. Но ему захотелось дать себе видимость отсрочки хотя бы на одну ночь. И теперь, идя по темным переулкам, он ловил себя на мысли: а вдруг письмо задержится на почте? – как будто это могло что-нибудь изменить.
И вот, размышляя об этом, он вдруг понял причину того яростного, невысказанного протеста, который вызвало в нем поведение г-на Ребюффо. Этот счастливец, всегда такой пунктуальный, не откладывал уплату налогов ни на день, ни на час, а значит, никогда не преподносил себе подобных сюрпризов. Расплачиваясь почти всегда без промедления, он избегал риска, которому подвергаются все налогоплательщики, на время выбрасывая из головы необходимость уплаты налогов. В сознании инспектора понятие долга – долга налогоплательщика в том числе – было неразрывно связано с такими состояниями, как искушение, мучительные сомнения, колебания. Администрация не требует немедленной уплаты налогов, стало быть, налогоплательщику предоставляется некий льготный срок: он волен располагать своей наличностью на время, в течение которого может наделать глупостей, истратить предназначавшиеся для уплаты налога деньги на дурные дела, но может также преодолеть все искушения и с честью выполнить свой долг перед государством. А г-н Ребюффо уклонялся от того, что обязан делать каждый налогоплательщик, выполняя, таким образом, лишь самую ничтожную, самую необременительную часть долга. «Свинья, – пробормотал инспектор, – я таки знал. Я всегда подозревал, что этот тип пренебрегает своим долгом». Тем временем он вышел из темного переулка и уже видел впереди электрический фонарь на бульваре Вильсона (Вильсон, Вудро, род. в 1856 г. в Стэнтоне, штат Виргиния. Кандидат на пост президента США от демократической партии, был избран дважды: в 1912 и 1916 гг. Автор «Четырнадцати пунктов»[2]. Ум. в 1924 г. в Вашингтоне), освещающий маленький кирпичный домик, в котором он жил.