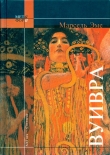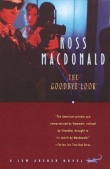Текст книги "Вино парижского разлива"
Автор книги: Марсель Эме
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)
Стоя на трибуне, ораторы разъясняли, что при нынешней ситуации положение всех молодых людей, вне зависимости от того, чем они занимаются, крайне ненадежно: рабочие потеряли трудоспособность, во всяком случае, она заметно снизилась, тогда как старики снова в расцвете сил и заявляют о своем праве на труд; молодых выгоняют, а стариков приглашают на их место. Военным десяти-одиннадцати лет грозит тотальная демобилизация и безработица. Комитет подготавливал тексты обращений к молодежи, писал прокламации и теперь заканчивал работу над списком требований, который намеревался предъявить правительству. Пьер во всем этом принимал самое живое участие. Он поднялся на трибуну и попросил слова:
– Минуточку внимания. Хорошо, допустим, мы представим правительству наши требования. Но мы теперь не избиратели, а парламент прислушивается только к мнению избирателей, то есть взрослых – наших врагов. Об этом следует задуматься уже сейчас, сегодня же, пока не поздно. У меня все.
Пьер сел на место в абсолютной тишине. До присутствующих еще не дошел смысл его слов, и они сосредоточенно их обдумывали. Через минуту все зашептались – каждому хотелось узнать мнение соседа. Помощник бакалейщика спросил у меня, что это может значить, и я в затруднении медлила с ответом, как вдруг полицейский лет этак тринадцати-четырнадцати в огромнейшем кепи – мой сосед справа – ответил вместо меня:
– Это значит, что нечего ждать помощи от правительства и надо полагаться только на себя.
С этими словами он похлопал по кобуре своего револьвера. Я готова была расцеловать его. Между тем с трибуны один из членов комитета спросил, нет ли у кого каких предложений. Полицейский справа от меня пожал плечами. Неожиданно для себя я поднялась на цыпочки и крикнула что было сил:
– Да зачем все эти требования?! Нужно одно – отменить закон о двойном годе и вернуться к нормальной жизни!
Мое выступление встретили восторженными криками. Президент клуба объявил заседание закрытым, прибавив, что поступившее предложение будет со вниманием рассмотрено.
Пьер ждал меня на подмостках, и я пробиралась к нему сквозь поток направлявшихся к выходу. То и дело слышалось: «Посмотри, какой я была!», «Глянь, каким я был!» Дети показывали друг другу фотографии и горестно вздыхали.
Из клуба мы вышли в половине двенадцатого.
Под впечатлением от собрания, пьяная от радости, я болтала без умолку. Вдруг мне пришло в голову:
– А не пойти ли нам на набережную Вольтера, к Бертрану в гости?
– Вот еще, – сказал Пьер. – В такой час тащиться через весь город… Может, его и дома-то нет. Вдобавок тебе не о чем с ним говорить.
– Не о чем? А вот увидишь!
Я остановила такси. Шофер, старик лет тридцати, смерил нас подозрительным взглядом.
– А деньги у вас есть? Ну-ка покажите! – Он явно был в прескверном настроении и всю дорогу брюзжал не переставая: – Дети ночью одни на улице! Вот уж я бы вам показал! Корку хлеба на ужин и марш в постель! Да парочку оплеух в придачу для острастки.
– Ишь разошелся! – не выдержал наконец Пьер. – Не пройдет и недели, как ты снова станешь старым хреном. Правда, с мозгами у тебя и сейчас хреновато.
По словам Пьера, в последние два-три дня взрослые нас буквально возненавидели. Во-первых, им перед нами стыдно да к тому же страшно, что наши клубы чего-нибудь добьются. А может, они просто чувствовали, как мы их ненавидим за гадкие поступки и мерзкое к нам отношение, и отвечали тем же. Выходя из такси, Пьер заплатил, не преминув свериться со счетчиком:
– Что, думаешь, на чай дам? Держи карман шире.
Мы поднимались по лестнице, а вслед нам неслись проклятия: шофер яростно поносил всю эту «мелочь пузатую». Мне стало весело. Бертран был дома и еще не лег.
Я позвонила, и он спросил, прежде чем открыть:
– Кто там?
– Это я, Жозетта. Твоя невеста.
Недовольно ворча, он открыл мне дверь: присутствие брата сразу его насторожило. Мы вошли в маленькую гостиную.
Бубнило радио, диктор сообщал новости. Бертран даже не предложил нам сесть. Окинул нас холодным, скучающим взглядом, ожидая, что мы объясним причину нашего визита в столь неурочный час. Молчание длилось недолго.
– Что, проблевался? Полегчало тебе? – выпалила я.
Он оторопел, вся чопорность слетела с него в один миг. Узкое личико от растерянности вытянулось еще больше. По-прежнему тихо бормотало радио. Я радовалась, что так быстро сбила с него спесь, но мне этого показалось мало, и я с веселой яростью набросилась на него. Обозвала хамом, предателем, воображалой, ослом и еще такими словами, каких отродясь не говорила и теперь не решаюсь даже вспоминать. Тогда же я упивалась их грубостью и бранилась самозабвенно, с наслаждением. Под мерный рокот радио непристойности шмякались перезрелыми грушами. А я сжимала в кармане пальто рукоять револьвера – я стащила его у брата в такси. На Бертрана обрушился поток оскорблений, а он только беспомощно моргал, и губы у него дрожали. Я достала револьвер и наставила дуло Бертрану в живот:
– Ты хвастал, что у тебя, видите ли, физиологические особенности. Вот мы сейчас и посмотрим, какие такие особенности. Ниже пояса господину графу по-прежнему двадцать семь лет, не так ли? А ну, раздевайся! Живо!
Он беспрекословно повиновался. Снял пиджак, брюки, галстук, потом рубашку. Что ж, «особенности» у него были вполне обычные, как у всех мальчишек. Но мы с Пьером изобразили необычайное веселье и хохотали, сгибаясь пополам и утирая слезы. Между приступами бурного смеха мы обменивались такими замечаниями, что лучше я не стану их здесь приводить. Тщедушное тельце – одни ребрышки, при виде его мы должны были бы испытать братские чувства жалости и сострадания, но Бертран нас предал, Бертран – враг. Мы страшно злились, что обречены на детство, и, измываясь над Бертраном, мстили не ему одному, мы мстили всему миру.
– Кругом! Чего у тебя там сзади?
Бертран послушно повернулся, но его острые плечи содрогнулись от рыданий, и мы возликовали. Я протянула Пьеру револьвер, сделав едва заметный знак. Он тут же все понял, подошел к приемнику и врубил его на полную мощность, пусть радио орет, заглушая крики. Потом схватил Бертрана за щиколотки и повалил, а я поддала бедняжке под зад коленом. Он упал ничком, и мы стали его бить. Били, а он тоненько повизгивал, как щенок. В ответ мы хохотали. Внезапно Пьер остановился и поднял руку, призывая меня к тишине. Диктор говорил: «Только что нам стало известно, что префект полиции объявил о роспуске детских клубов ввиду их антисанитарии, а также запретил детям до шестнадцати лет собираться на улице группами больше семи человек».
Бертран воспользовался передышкой и натянул штаны. Он тоже услышал новость и теперь исподтишка, явно довольный, злорадно поглядывал на нас.
Пьер озабоченно нахмурился и, кажется, даже забыл о нашем с Бертраном существовании. Он обзвонил всех, кого мог, и, наконец, громко сказал:
– Жозетта, мне нужно повидаться с друзьями. Так что проводить я тебя не смогу. Тебе лучше подождать меня здесь. Часам к четырем я вернусь. Ключи пока возьму с собой.
Пьер отобрал у Бертрана ключи и ушел. Дверь он запер на два поворота. Я выглянула в окно, чтобы посмотреть, как он будет выходить из дома. С минуту наблюдала: вот он идет по набережной Вольтера, вот поднимается на мост Руаяль… Внезапно на меня навалилась страшная усталость – еще бы, столько событий за один вечер, тем более что до этого я все время сидела дома. Мы с Бертраном не сказали друг другу ни слова. Не спросив разрешения, я улеглась на диванчике в гостиной. Он удалился в спальню, предварительно выключив свет. Несмотря на усталость, я никак не могла уснуть. В воспаленном мозгу проносились картины прошедшего вечера: я слышала шум толпы в клубе, голоса ораторов, свои собственные слова, и все это мешалось, точно в бреду. Так прошел час, я все еще надеялась заснуть, но вдруг чуть слышно скрипнула дверь, и я насторожилась. Думая, что я сплю, Бертран тихонько вошел в гостиную с карманным фонариком и стал подбираться к телефону. Луч света освещал его руку, вращающую диск. Нетрудно было догадаться, что он звонил моим родителям. Хотел сообщить, что я у него и он тут абсолютно ни при чем, надеялся, что папочка немедленно примчится да еще встретит Пьера и всыплет ему по первое число.
Невидимая в темноте, я, благо была теперь маленькой и легкой, сумела встать с дивана так, что ни одна пружина не скрипнула. На том конце провода послышался гудок. Бертран сказал: «Алло! Это…» Номер он произнести не успел – я как раз подкралась к нему сзади и схватила за горло. Потом попыталась отнять у него аппарат. Бертран сопротивлялся, мы боролись и, ничего не видя в потемках, ударили телефон об угол камина. Бертран включил свет: на ковре – обломки эбонита и расколотый аппарат. От этого зрелища у Бертрана вытянулось лицо, он стоял грустный, подавленный, и мне стало стыдно и больно. Во мне вдруг пробудилась любовь, да-да, любовь! Сердце мое сжалось. Я вспомнила его жалкие, крошечные физиологические особенности. Что ж, ему не смешно, да и мне не весело. Я бросилась ему на шею лепеча: «Бертран, миленький, я такая дрянь…» Но он с отвращением оттолкнул меня, загоготал, обозвал «вонючей пигалицей» и отправился к себе в комнату спать. Я же, плача от усталости, обиды и любви, горюя о безвозвратно ушедшем прошлом, вернулась на диван.
Открываю глаза. Солнце уже высоко, лучи его золотят Сену, мосты, Тюильри. Спала я крепко, без сновидений, даже ни разу не встала пописать. На часах половина десятого. Огляделась – нет ли Пьера, вижу только Бертрана, сидит в комнате за столом и что-то пишет. Уже половина десятого, а Пьер еще не пришел, и мы по-прежнему взаперти. Я обошла всю квартиру: обе комнаты, прихожую, туалет. На кухне сжевала кусок черствого хлеба с тремя кружочками колбасы, вместо умывания обтерла лицо краем посудного полотенца, причесалась пятерней и вернулась в гостиную. Снова слышится гул голосов, как на школьной переменке, только доносится он издалека и едва различим. Я высунулась из окна и внезапно поняла: «Так вот в чем дело!» Меня окрыляет надежда. На том берегу вся набережная перед Лувром и Тюильри, вся площадь Согласия запружены детьми, бесчисленные толпы их стекаются сюда по улице Руаяль и Елисейским Полям.
Мосты оцеплены: взрослые полицейские, построенные в несколько шеренг, стоят плечом к плечу. Пьер наверняка среди манифестантов. Я свесилась из окна, желая увидеть, что же творится у нас, на левом берегу. На набережной Вольтера и дальше, на сколько хватает глаз, нет ни одного ребенка, зато в полной боевой готовности ожидает команды национальная гвардия – вооруженные до зубов вояки. Битый час я проторчала у окна – никаких изменений. Изредка толпа детей вдруг приходит в движение, кто-то пытается напасть на полицейских, но дело ограничивается короткой стычкой. Волнуюсь до ужаса. И страшно, и нет сил ждать. То думаю: пусть поскорей начнется, то: пусть бы и вовсе не начиналось. Я зареклась говорить с Бертраном, он для меня – пустое место, но сейчас не до того. Нужно хоть с кем-то словом перемолвиться. Бертран все сидит за столом, но уже не пишет. Читает Расина и делает вид, что ему жутко интересно.
– Что скажешь, эй?
– О чем? – Уткнулся в книгу и не взглянет.
– О том, что делается на улице.
– Меня это не касается.
Презрительно хмыкнув, отхожу к окну, но мне неймется. То и дело подбегаю к Бертрану, пытаясь втянуть его в разговор, – в ответ одно невразумительное мычание. Я взрываюсь:
– Ах, тебя не касается, что тут под окном будет бой, будет литься кровь, кого-то ранят, может, даже убьют? Тебе плевать, что люди пожертвуют жизнью ради… ради тебя, в конце концов!
– Я читаю «Беренику». Я у себя дома, поэтому изволь оставить меня в покое.
Я отвернулась, посмотрела в окно, потом опять на него:
– А знаешь, Бертран?..
– Что еще?
– У тебя не голова, а кочан капусты.
С этими словами я вышла из комнаты. Уже полдень, и я проголодалась. Поев сардинок и джема, встала и стою у окна в спальне. Теперь Бертран удалился на кухню подкрепиться. За окном та же толпа, она бурлит на набережной и справа на площади Согласия. После полудня раздались первые выстрелы. Гляжу во все глаза, настороженно прислушиваюсь. Стреляют далеко, на Сите или даже за Сите, но все чаще и чаще. К окну подходит Бертран с набитым ртом. Из окон нижних этажей высовываются люди, перекликаются, переговариваются. С балкона свесился мужчина лет тридцати и сообщил соседям: мол, только что по телефону он узнал… Я улавливаю одно – манифестанты окружили префектуру полиции. Хочу узнать подробности, перегибаюсь через подоконник, но в ответ слышу:
– Да тебе-то какое дело, соплячка? Как ты смеешь вмешиваться!
Я огрызнулась грубо, как только смогла. Клятвенно заверила, что завтра ему непременно стукнет семьдесят. Он вышел из себя, кричит, топает ногами, орет: «Будь я префектом полиции, перестрелял бы всю эту наглую мелюзгу! Из автоматов – и порядок!» Обзываю его старым идиотом, паршивой сволочью. Бертран д’Алом, оскорбленный в лучших чувствах, велит мне замолчать. «Простите великодушно, Бертран старейший и мудрейший!» Между тем на площади Согласия «наглая мелюзга» сомкнутыми рядами устремилась прямо на заградительный кордон с криками: «Долой двойной год!» Полиция, яростно орудуя дубинками, отбросила атакующих. Дети отступили, оставив на месте сражения раненых и, возможно, убитых. Но атаки возобновлялись вновь и вновь. Со стороны Сите палили вовсю. Наши старались прорваться на мост Руаяль, на мост Карусель. Я места себе не нахожу. Кричу соседу снизу: «Крышка вам! Вас укокошат!»
В два часа пополудни на мосту Согласия кордон прорван. Схватка длилась не больше пяти минут, так что я почти ничего не разглядела. Видела только, как ребята облепили со всех сторон двух полицейских и столкнули их в воду, потом толпа детей мощным потоком хлынула на мост и вмиг заполнила его. Я кричу: «Ура!» Плюю тридцатилетнему старикашке на голову. По нашим открыли огонь. Толпа подалась назад, автоматы смолкли. Слышится страшный топот – подоспела кавалерия. Конная полиция набросилась на манифестантов, толпа разбежалась. Плохи наши дела. Конники развернулись веером, пронеслись галопом по площади и очистили ее в мгновение ока. Старикашка ополоумел от восторга. Завопил что есть мочи: «Так их, так! Перебейте всех! Грязный сброд, туда ему и дорога!» Я всхлипываю. Бертран хихикает, и мне слышится его мерзкий, скрипучий голосок: «С самого начала было ясно, что этим гаденышам крышка!»
Нет сил сказать, как я его ненавижу. Я будто мертвая.
И тут – о чудо! – все изменилось в один миг. На улице Руаяль появился отряд, одетый в хаки. Армия лилипутов, детей десяти-одиннадцати лет, в полном вооружении. Толпа сейчас же расступилась.
Отряд выстроился в шеренгу и расстрелял из автоматов конную полицию. Конница редеет, бежит, конницы больше нет! Один отряд, с начала боя отрезанный от остальных формирований, пожелал сдаться. Наши его уничтожили. И правильно сделали. Взрослых жалеть нечего. Солдаты вошли на мост, где их встретили пулеметной очередью. Тогда они отступили на набережные и стали палить оттуда по правительственным войскам. Те отстреливаются. В подкрепление нашим подходят все новые отряды.
Пока все спокойно. То на одном, то на другом берегу раздается залп, тут падают несколько взрослых, там – несколько детей. К вечеру со стороны Сите заговорили пушки. Всех мучает один и тот же вопрос: сколько лет артиллеристам? Но канонада длилась недолго, минут десять. На площадь Согласия с улицы Риволи выехали танки. Войне конец. Правительство капитулировало. Завтра мне вновь будет восемнадцать. Мужчины станут ловить мой томный отсутствующий взор. На вид я буду такой неземной, но про себя буду все понимать и веселиться. Буду чувствовать: им не дают покоя мои прелести, они пожирают глазами грудь, ноги, бедра, норовят заглянуть под юбку.
На набережной, на мостах ребята, мои собратья по несчастью, встречают радостными криками близкий час освобождения. Бертран стоит рядом со мной и сладко мне улыбается. Да как он смеет?!
– Ишь развеселился! Всем известно, что ты сотрудничал со взрослыми! И можешь не сомневаться, трибунал тебя по головке не погладит. – Я словно окатываю его ледяной водой.
Лицо у него помрачнело. Глазки забегали.
– Я не сотрудничал! – протестует он. – Мне, как и многим другим, вдруг стало тринадцать лет, я оказался в положении тягостном морально и крайне шатком материально. Разумеется, я был вынужден как-то примениться к обстоятельствам. Само собой, мне и в голову никогда бы не пришло силой возвращать порядок. Об этом мы не подумали.
– Не пытайся себя обелить. Ты встал на сторону взрослых, вступил с ними в сговор. Бесполезно оправдываться. Кто носил брюки? Кто говорил, что у него физиологические особенности? Кто собирался спать с женщинами?.. И не возражай, я слышала это своими собственными ушами. Тебя интересовали только взрослые женщины, а меня ты бросил только потому, что у меня не стало груди, я все отлично помню. Вполне достаточно, чтобы тобой занялся трибунал.
Бертран перепугался не на шутку. Он защищался изо всех сил, выкручивался как мог, мол, слова, что так оскорбили и ранили меня, были им сказаны против воли, они отнюдь не выражали его истинных чувств, просто он заботился о моем благе, быть может превратно понятом… Не дослушав, я встала и вышла в гостиную, захлопнув дверь прямо у него перед носом.
Стемнело. Солнце село где-то за Сеной, тени в комнате удлинились. Пьера все нет и нет, и я волнуюсь. А вдруг его убили? Вдруг он мечется в бреду на больничной койке? Я легла на диван и принялась корить себя: как я могла не подумать об опасностях, которые подстерегали брата?.. И тут я почувствовала страшную боль в ногах, да такую, что пришлось сбросить туфли. Детское платьице затрещало на мне по всем швам. Мне опять восемнадцать.
Я вошла в спальню. Бертран посмотрел на меня с ужасом, он-то успел надеть мужскую рубашку и взрослые брюки. А я из моего детского пальтишка соорудила себе что-то вроде набедренной повязки, прикрыв живот и бедра. Все остальное выставлено напоказ.
– Смотри, Бертран, теперь я настоящая женщина. А ты ведь, кажется, любишь женщин? Смотри, какая у меня грудь, какой живот, бедра, видишь? Теперь я тебе нравлюсь?
Я подхожу почти вплотную к нему. Он боится, отворачивается, избегает смотреть мне в глаза. Я отвешиваю ему с размаху пощечину. Он хватает меня за руку, обнимает, прижимает к себе, как тогда в папочкином кабинете, он сам толком не знает, что со мной сделает. Я не отбиваюсь, не напрягаюсь, напротив, прижимаюсь к нему, засматриваю в глаза. Его душит страсть. Он выдыхает: «Жозетта, любовь моя, единственная…» Я улыбаюсь нежно и осторожно высвобождаюсь из объятий. Он глядит на меня потерянно, прерывисто сопит и не пытается удержать. Я влепляю ему вторую пощечину и спасаюсь бегством. По счастью, между нами оказывается стол, за которым он утром что-то писал. Он кидается за мной с воплем:
– Дрянь, я тебя уничтожу!
Его глаза горят злобой, но я угадываю в них и огонь желания. Не скрою, ему двадцать семь лет, и меня тоже влечет к нему. Я отчетливо произношу:
– Господин Бертран д’Алом, зачем усугублять свою вину? Завтра я заявлю о вашем сотрудничестве со взрослыми. Что, если я вдобавок скажу, что вы пытались меня изнасиловать, совратить малолетнюю?
Но он, похоже, не услышал. Мы бегали с ним вокруг стола, и на пол летели книги и безделушки. В конце концов ему в голову пришла удачная мысль – он решил зажать меня столом в угол. И случилось бы то, что должно было случиться. Мне даже не в чем было бы себя упрекнуть. У меня пылают щеки, поверьте, не от стыда и не от беготни. Я отступила к стене, наши глаза встретились, и я уже не помнила ни о какой вражде.
Бертран поймал мою руку, и я не отняла ее, но он вдруг сам отпустил меня, услышав скрип входной двери. Я побежала в прихожую, громко крича:
– Пьер! Пьер! Он пытался меня изнасиловать!
Из своего костюма Пьер сделал себе плавки. Бертран лепечет что-то о чистоте своих намерений, но Пьер, поцеловав меня, достает из-за пояса револьвер и спрашивает ласково:
– Ну что? Прикончить его?
– Нет, лучше пойдем отсюда.
Мы выходим на улицу и направляемся к Бурбонскому дворцу. По набережной прогуливаются юные мужчины и женщины. Одни одеты так же, как и мы, другие и вовсе голышом. Попадаются навстречу люди, одетые, как полагается, они глядят на нас с ненавистью, и я почему-то вспоминаю бабусю и ее жениха, ему, верно, теперь под восемьдесят. Пьер говорит без умолку, сообщает, какие у него планы на сегодня, но я слушаю его вполуха. Он предлагает пойти вместе с ним в Бурбонский дворец, у него там какие-то дела, и тут я заявляю, что устала и хочу домой.
Мы расстаемся на углу бульвара Сен-Жермен. Я возвращаюсь на набережную Вольтера, звоню.
За дверью слышатся шаги.
– Кто там?
Я подхожу вплотную к двери и смиренно отвечаю:
– Это я, Жозетта. Я одна. Открой, Бертран, пожалуйста!
Перевод Е. Кожевниковой
Марш-бросок через Париж
Жертва, уже расчлененная, лежала в углу погреба под лоскутами мешковины, на которой проступали бурые пятна. Жамблье, начинающий седеть маленький человечек с острым профилем и лихорадочно горящими глазами, туго подвязавшись длинным, до щиколоток, передником, шаркал стоптанными башмаками по цементному полу. Время от времени он внезапно останавливался, кровь приливала к его щекам, а беспокойный взгляд устремлялся на дверь. Чтобы ожидание не было таким томительным, он взял из эмалированного таза половую тряпку и в третий раз принялся мыть еще влажный цемент, стараясь уничтожить последние следы крови, которые могли остаться от учиненной им резни. Заслышав шаги, Жамблье выпрямился и хотел было вытереть руки о передник, но его так затрясло, что он не смог этого сделать.
Дверь открылась, чтобы впустить Мартена, одного из двоих, которых ждал Жамблье. Вошедший человек, лет сорока пяти, в обеих руках нес чемоданы. Он был невысок и кряжист, в коричневом пальто, сильно поношенном и облегающем его так плотно, что сзади вырисовывались ягодицы и торчали мощные лопатки. На узком, как шнурок, галстуке была приколота крупная серебряная подкова, а на большой круглой голове сидел диковинного вида черный котелок с загнутыми полями, лоснящийся от старости. Все вместе производило впечатление опрятности и аккуратности и делало Мартена похожим на полицейского инспектора из комиксов – вплоть до густых и вислых черных усов. Приветливо подмигнув, он поздоровался с Жамблье: «Добрый вечер, хозяин», на что тот не ответил. Вслед за Мартеном вошел неизвестный – высокий детина лет тридцати, кучерявый блондин с маленькими кабаньими глазками, который тоже нес два чемодана. Незнакомец, одетый весьма небрежно, был без пальто, в помятом грязном костюме спортивного покроя и ржавого цвета свитере с высоким воротом.
– Летамбо сегодня занят, – объяснил Мартен в ответ на вопрошающий взгляд хозяина. – Вот я и попросил своего приятеля Гранжиля заменить его. Он парень честный. Можете смело на него положиться. И силенки он еще не порастратил, наш Гранжиль.
Хозяин недоверчиво разглядывал кучерявого, чьи маленькие хитрые глазки не сулили ничего хорошего.
– Ему не впервой это дело, – продолжал настаивать Мартен. – Мы с ним вместе уже работали.
– Раз вы его знаете, мне нечего сказать, – проворчал Жамблье. – Не будем терять времени. Вы и так опоздали.
Они направились в угол погреба, где под белесыми тряпками лежал какой-то бесформенный предмет. Хозяин сдернул саван, и в ярком свете электрических ламп они увидели свинью. Животное было разрублено на дюжину частей, сложенных настолько тщательно, что получилась туша, зияющая выпотрошенным брюхом. Хозяин отодвинулся, давая обоим компаньонам возможность удостовериться, что все куски на месте.
– Вот это дядя, – одобрил Мартен. – На сколько тянет?
– В нем двести пятнадцать фунтов. Чуть потяжелей позавчерашнего, фунтов на двадцать, не больше.
Разложить по четырем чемоданам, ничего и не почувствуешь.
– Это так кажется. Конечно, тащить-то не вам.
– Да ладно! Такие здоровые парни! Давайте сюда чемодан.
Мартен шагнул вперед, но чемодан открывать не спешил.
– Сегодня-то куда идти?
– На Монмартр, улица Коленкура. Мясник будет ждать вас в лавке после полуночи. Ну, за работу.
Мартен по-прежнему не торопился. Гранжиль, стоя чуть поодаль, бесстрастно смотрел на него и хозяина, однако на его бараньей физиономии все так же хитро щурились кабаньи глазки. Жамблье снова занервничал.
– Давайте поторопимся, ребятки, – сказал он, стараясь говорить ласково. – Ведь уже поздно. Чтобы поспеть туда к полуночи, нужно браться за дело.
– Минутку, хозяин. Сначала договоримся. Сколько вы даете?
Хозяин, неприятно удивившись, вздернул брови:
– Послушайте, Мартен, уговор есть уговор. Здесь люди честные.
– По поводу честности я ни от кого не собираюсь выслушивать поучений, – заявил Мартен. – Но с другой стороны, я не намерен вам делать подарок. Видите ли, мы работали на вас с Летамбо. За доставку на улицу Тампль или там в Шаронну каждый получал по триста франков. И не задаром. Тащиться ночью по улицам с такой ношей, стаптывать башмаки, рискуя напороться на фараона, и за все про все три сотни – я считаю, плата не так уж высока.
Жамблье старался держаться спокойно и добродушно, его больше тревожило внимательное и несколько ироничное молчание человека с бараньей головой.
– Если по совести, – возразил он, – три сотни за раз – это неплохой заработок, что там ни говори.
– Ладно. Что было, то прошло. Допустим, та цена была нормальной. Допустим. Повторяю, что было, то прошло. И уговор есть уговор. Мое слово твердое.
– Тогда в чем же дело?
– А в том, что есть разница – нести на улицу Тампль и нести на Монмартр. Вы так не считаете?
– Ладно, – уступил хозяин, – каждый получит на пятьдесят франков больше, но давайте поторапливаться.
Он снова протянул руку за чемоданом. Однако Мартен поставил чемодан позади себя и решительно заявил:
– Я не чаевых у вас прошу Мне нужна справедливая плата за труд и за риск. Доставить вашу свинью на улицу Коленкура стоит по шестьсот франков на каждого, а нет – прощайте.
– Все понятно. Вы хотите припереть меня к стенке.
Мартен сбил котелок на затылок, обнажив обширную розовую плешь. Голос его зазвенел в неподдельном возмущении:
– Волочь свинью с бульвара Опиталь на улицу Коленкура, красться через весь Париж в кромешной тьме, самое малое восемь километров, когда повсюду фараоны и фрицы, да еще и на Монмартр взбираться, чтобы положить в карман шестьсот франков, – и это вы называете припереть к стенке?
– Даю по четыреста.
– За такую цену наймите бродяг. Мы люди приличные.
– Если б я знал, – сказал хозяин кислым тоном, – то нанял бы велосипедистов, которых мне предлагали утром. Но я подумал, что и вам нужно дать заработать. И вот она, благодарность.
– Еще ничего не потеряно, – парировал Мартен. – Если хотите велосипедистов, я вам их тут же найду. Они будут здесь через полчаса.
Жамблье промолчал. Вот уже два месяца, как развозчики-велосипедисты были объектом неусыпного внимания полиции. Преимущество в быстроте сводилось на нет из-за огромного риска. Действительно, они гораздо больше бросались в глаза, чем пешие разносчики, и соответственно чаще попадались. Искушенный в тонкостях ремесла, Жамблье прекрасно знал, что велосипедист может рассчитывать только на свою счастливую звезду, тогда как опытный пеший разносчик вроде Мартена, внимательный, способный предвидеть опасность и использовать все преимущества темноты, имеет куда больше шансов на успех.
– Четыреста пятьдесят? – предложил хозяин.
Мартен отрицательно помотал головой. Он был уверен в своей правоте и твердо решил не уступать ни сантима. Впрочем, и Жамблье знал, чем закончится торг, и, хотя пока он не сдавался, его упорство было всего лишь проявлением скупости. Опасение, как бы туша не осталась у него еще на сутки, превращалось в панику. Когда партия, казалось, уже была сыграна, человек с бараньей головой, до тех пор не проронивший ни слова, вдруг заговорил. Взгляд его из-под полуприкрытых век, в котором сквозила нахальная ирония, остановился на хозяине. Ухмыляясь, он спросил:
– Скажите, месье Жамблье, это дом номер сорок пять, верно?
От неожиданного вопроса мясник вздрогнул и побледнел. Во время спора с Мартеном он как-то упустил из виду его незнакомого напарника. С вниманием, обостренным страхом, он снова принялся его разглядывать, пытаясь понять истинные намерения Гранжиля, чьи прищуренные глазки буравили его спокойным дерзким взглядом. Внешний вид незнакомца, по крайней мере одежда, его несколько успокоил. Обтерханный, весь в пятнах спортивный костюм, свитер под горло не могли принадлежать полицейскому.
– Зачем вы об этом спрашиваете?
– Да ни за чем, раз я и так знаю. Господин Жамблье, улица Поливо, сорок пять.
Последнюю фразу он произнес тоном, в котором явно слышалась циничная угроза. Снедаемый тревогой, хозяин обернулся к Мартену с укоризненным и вопрошающим взглядом, словно требуя отчета по поводу странного поведения его компаньона. Мартен ощущал неловкость и чувство вины, потому что считал себя ответственным за поступки человека, которого привел к хозяину погреба. Вдобавок он солгал, заявив, будто они с Гранжилем уже работали вместе. На самом деле они познакомились не далее как сегодня в небольшом кафе на бульваре Бастилии.
Низкое небо, пронизывающий северный ветер, дувший вдоль канала к Сене, – казалось, будто день умирает от холода. Привалясь к стойке в теплом полумраке кафе, Мартен смотрел сквозь стекло на промозглые сумерки, где мелькали силуэты съежившихся под северным ветром людей. По ту сторону канала в слабом блекнущем свете мрачнели фасады бульвара Морлан. Сумерки, вместо того чтобы скрадывать очертания предметов, еще отчетливей выделяли их. Гранжиль, прислонившись к стойке рядом с Мартеном, с интересом наблюдал за этим кратким всплеском света в агонии сумерек. Остальные посетители, видимо исполнившись меланхолией угасавшего дня, хранили молчание – все, кроме старого моряка, усохшего от старости, который сидел в самом темном углу кафе. В чересчур свободной для него матросской блузе синего сукна, прямо держа спину и положив руки на стол, он разговаривал сам с собой надтреснутым, едва слышным голосом, и это дрожащее кроткое бормотание напоминало вечернюю молитву. На бледном тощем запястье виднелись следы полустершейся наколки.
– Вот так и наша жизнь, – произнес Мартен, указывая на темнеющий за окном пейзаж. – Как глянешь на нее, мерзавку, аж холодом пробирает до самых кишок.