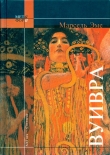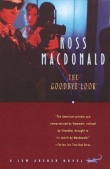Текст книги "Вино парижского разлива"
Автор книги: Марсель Эме
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 13 страниц)
Annotation
Марсель Эме (1902–1967) – всемирно известный писатель, продолжатель лучших традиций французской литературы, в произведениях которого причудливо сочетаются реализм и фантастика, ирония и трагедия. В России М. Эме известен главным образом детскими сказками и романами. Однако, по мнению критиков, лучшую часть его творческого наследия составляют рассказы, в том числе и вошедшие в этот сборник, который «Текст» издает второй раз.
«Марселю Эме удается невозможное. Каждая его книга может объединить, пусть на час, наших безнадежно разобщенных сограждан, растрогать самых черствых, рассмешить самых угрюмых. У него мудры не только старики, потешны не только шуты, добры не только дурачки» (Антуан Блонден).
Марсель Эме
Сабины
Вино парижского разлива
Обратный виток
Марш-бросок через Париж
Сборщик жен
Благодать
Дермюш
Липовый полицейский
Могила семи грехов
Злая кокетка и школяр
Оскар и Эрик
notes
1
2
3
4
5
Марсель Эме
РАССКАЗЫ
Сабины
Жила-была на Монмартре, на улице Абревуар, одна молодая женщина по имени Сабина, которая обладала даром вездесущности. То есть могла, когда пожелает, произвольно умножаться и пребывать душой и телом одновременно в разных местах. Поскольку она была замужем, а столь редкостное свойство, вероятно, смутило бы ее супруга, она благоразумно предпочла не посвящать его в эту тайну и пользовалась своим даром только дома, когда оставалась одна. Например, раздваивалась и растраивалась за утренним туалетом, чтобы получше рассмотреть себя со всех сторон. Закончив же осмотр, снова воссоединялась. Иногда в дождь или зимнее ненастье, когда не хотелось никуда выходить, Сабина приумножалась до десятка или двух и вела оживленную беседу, по сути, с самою собой. Ее муж Антуан Лемюрье, замначальника юротдела СБНАО, ничего обо всем этом не подозревал и свято верил, что у него нормальная, единоличная жена, как у всех людей. Правда, однажды, вернувшись домой в неурочное время, он увидел перед собой трех умопомрачительно одинаковых жен, глядящих на него в три пары глаз равной голубизны и ясности, отчего собственные его глаза полезли на лоб, а челюсть слегка отвисла. Сабина тотчас же сложилась, так что супруг счел инцидент следствием внезапного недомогания – мнение, полностью подтвержденное домашним врачом, который нашел у пациента гипофизарную недостаточность и прописал ему несколько дорогостоящих лекарств.
Однажды апрельским вечером Антуан Лемюрье просматривал за обеденным столом отчетные документы, а Сабина в кресле читала журнал про жизнь кинозвезд. Как вдруг, взглянув невзначай на жену, Лемюрье застыл, пораженный ее позой и выражением лица. Она сидела, склонив голову к плечу и выронив из рук журнал. Расширенные глаза блестели влажным блеском, на губах блуждала улыбка, – словом, вся она светилась какой-то несказанной радостью. Восхищенный и взволнованный муж подошел к Сабине на цыпочках, благоговейно потянулся к ней, но она, непонятно почему, досадливо отстранила его рукой. Все это имело свое объяснение.
Неделей раньше Сабине повстречался на углу улицы Жюно некий молодой человек двадцати пяти лет с жгуче-черными глазами. Он дерзко преградил ей дорогу и сказал: «Мадам!» – на что Сабина, вздернув голову и обдав его ледяным взором, ответила: «Позвольте, месье!» В результате чего в упомянутый апрельский вечер она одновременно находилась у себя дома и у черноокого молодого человека, который звался Теоремом и представлялся художником. В тот самый миг, когда Сабина осадила супруга и отослала его к папкам и ведомостям, Теорем в своей мастерской на улице Шевалье-де-ла-Бар, держа ее за руки, говорил: «О любовь моя, радость моего сердца, крылья моей души!» – и прочие красивые слова, которые так легко слетают с уст влюбленного в пору первых восторгов. Сабина решила вернуться в себя не позднее десяти часов вечера, не сделав никаких серьезных уступок, однако пробило двенадцать, а она еще не покинула Теорема, и все ее благие намерения пошли прахом. На другую ночь она сложилась лишь в два часа, а в последующие – еще того позже.
Теперь каждый вечер Антуан Лемюрье мог любоваться лицом жены, на котором отражалось поистине неземное блаженство. Разговорившись как-то с сослуживцем, он в приливе откровенности выпалил: «Видели бы вы ее, когда мы засидимся за полночь в столовой: она словно беседует с ангелами!»
Сабина беседовала с ангелами четыре месяца. То было прекраснейшее лето в ее жизни. Она провела его на овернском озере с Лемюрье и в тихом местечке на берегу моря в Бретани с Теоремом. «Никогда еще ты не была так хороша! – восхищался муж. – Твои глаза прекрасны, как озерная гладь в восьмом часу утра». На что Сабина отвечала пленительной улыбкой, обращенной к невидимому горнему духу. В то же самое время они с Теоремом чуть не нагишом загорали на бретонском пляже. Черноглазый любовник хранил молчание, будто его обуревали сильнейшие чувства, которые невозможно передать словами, на самом же деле он просто устал повторять одно и то же. Пока Сабина упивалась этим безмолвием, исполненным мнимой, а потому невыразимой страстью, Теорем млел от животного наслаждения и поджидал часа очередной трапезы, радуясь, что отдых не стоил ему ни гроша. Дело в том, что Сабина продала несколько украшений из своего приданого (принадлежавших ей еще в девичестве) и умолила его позволить ей оплатить всю поездку. Теорем слегка удивился тому, как робко она просила его о том, что, на его взгляд, само собой разумелось, и милостиво принял ее предложение. Он полагал, что художнику вообще, а ему и подавно не пристало считаться с какими-то нелепыми предрассудками. «Я не считаю себя вправе давать волю щепетильности, – говаривал он, – если она препятствует появлению на свет шедевров, достойных Веласкеса или Эль Греко». Живя на скудный пансион, который выплачивал ему лиможский дядюшка, он и не пытался сделать живопись источником существования и неукоснительно придерживался самых возвышенных понятий об искусстве, в соответствии с которыми запрещал себе брать в руки кисть, не ощущая вдохновения: «Я буду ждать его столько, сколько потребуется, хоть десять лет!» Примерно так он и поступал. А на досуге прилежно развивал остроту чувственного восприятия в монмартрских кафе или оттачивал критическое мышление, наблюдая, как пишут другие художники, когда же те спрашивали, где его собственные полотна, с внушительной серьезностью отвечал: «Я ищу себя». Грубых башмаков и широких бархатных брюк, составлявших его зимний наряд, было довольно, чтобы во всем квартале, от улицы Коленкура до площади дю Тертр и улицы Аббатис, за ним утвердилась слава отменного художника. А уж то, что у него блестящие задатки, не смели отрицать даже злейшие недоброжелатели.
Как-то утром, когда каникулы подходили к концу, любовники одевались в номере выдержанной в местном колорите бретонской гостиницы. А в пяти или шестистах километрах оттуда, в Оверни, супруги Лемюрье, вставшие в три часа утра, катались в лодке по озеру. Лемюрье греб и громко восторгался пейзажем, Сабина отвечала односложно и редко. Зато в гостинице она распевала, глядя на море: «Белы, тонки, волнуют кровь персты, при них душа небесной красоты». Между тем Теорем взял с каминной полки бумажник и, прежде чем засунуть в карман шорт, достал из него фотографию:
– Смотри-ка, что я нашел. Это я прошлой зимой у Мулен-де-ла-Галет.
– О любимый! – пролепетала Сабина, и на глаза ее навернулись слезы гордости и умиления.
Теорем был запечатлен в зимнем наряде. Грубые башмаки и просторные, изящно зауженные на щиколотках бархатные штаны неоспоримо обличали великий талант. Сабина ощутила угрызения совести из-за того, что, умолчав о своей тайне, оскорбила недоверием своего избранника, недооценила его возвышенную натуру.
– Ты такой красивый, – сказала она. – Такой одаренный. Чего стоят одни башмаки! А бархатные брюки! А кроличья каскетка! О дорогой мой, у тебя тонкая, чистая душа художника, мне так повезло, что я тебя встретила, сокровище мое, радость моя, а ведь я не открыла тебе свой секрет.
– О чем ты?
– Милый, я скажу тебе одну вещь, которую поклялась никому не говорить: я обладаю даром вездесущности.
Теорем расхохотался, но Сабина сказала:
– Смотри!
И в тот же миг умножилась, а Теорем, обнаружив себя в окружении девяти совершенно одинаковых Сабин, почувствовал, что вот-вот лишится рассудка.
– Ты не сердишься? – застенчиво спросила одна из них.
– Да нет, – ответил Теорем. – Совсем наоборот.
Он через силу улыбнулся, показывая, что благодарен и счастлив, и успокоенная Сабина горячо поцеловала его девятью устами.
В начале октября, примерно через месяц после возвращения в Париж, Лемюрье заметил, что беседы с ангелами прекратились. Жена выглядела озабоченной и печальной.
– Ты что-то загрустила, – сказал он. – Может, оттого, что мало выходишь из дому? Хочешь, пойдем завтра в кино?
В это же самое время Теорем расхаживал по мастерской и кричал:
– Откуда я знаю, где еще ты сейчас изволишь находиться! Может, ты уже в Жавеле, а может, сидишь в кафе на Монпарнасе, в обнимку с каким-нибудь мазуриком? Или в Лионе целуешься с каким-нибудь фабрикантом? Или в Нарбонне лежишь в постели какого-нибудь винодела? Или тебя ласкает в гареме персидский шах?
– Клянусь тебе, любимый…
– Она клянется! Что тебе помешает клясться и при этом спать с двумя десятками любовников? Нет, я сойду с ума! Во мне все кипит! Я за себя не отвечаю – я готов на все!
Дойдя до этой угрозы, он стал искать глазами ятаган, который год назад купил по случаю на барахолке. Сабина, дабы удержать его от смертоубийства, раскинулась на двенадцать персон, которые встали стеной, преградив ему путь к оружию. Теорем утих. Сабина сложилась.
– О, как мне тяжело! – стонал художник. – Еще и эта мука вдобавок ко всем моим терзаниям!
То был намек на некоторые затруднения как материального, так и морального порядка. Ибо, по словам Теорема, он находился в тяжелейшем положении. Домовладелец, которому он задолжал за три квартала, грозился описать его имущество. Лиможский дядюшка внезапно прекратил выплачивать пособие. А тут еще творческий кризис, очень болезненный, хотя сулящий нечто грандиозное. Теорем чувствовал, как бурлят и ищут выхода могучие силы его дарования, но их сковывает безденежье. Попробуй-ка создай шедевр, когда в дверь стучатся голод и судебный исполнитель. Сабина слушала его с волнением, сердце ее разрывалось. За неделю до того она продала последние драгоценности, чтобы Теорем заплатил долг чести угольщику с улицы Норвен, и сокрушалась, что ей нечего больше принести в жертву гению. В действительности положение Теорема было не хуже и не лучше, чем обычно. Лиможский дядюшка по-прежнему выбивался из сил во имя будущей славы любимого племянника, а домовладелец, наивно рассчитывая воспользоваться бедностью молодого художника, который должен стать великим, с такой же охотой принимал скороспелую мазню квартиранта, с какой тот ею расплачивался. Но Теорему не только доставляло удовольствие поиграть в проклятого поэта и богемную личность, он еще смутно надеялся, что мрачная картина его невзгод толкнет молодую женщину на самые отчаянные шаги.
В ту ночь, боясь оставить его одного в беде, Сабина осталась раздвоенной и провела ночь у любовника. На другое утро она проснулась с нежной, счастливой улыбкой на устах.
– Мне приснился сон, – сказала она, – как будто мы держим маленькую, метра два по фасаду, бакалейную лавочку на улице Сен-Рюстик. И у нас всего один клиент – школьник, который заходит купить леденцов и ячменного сахару. На мне был синий фартук с большими карманами. На тебе рабочий халат. По вечерам в задней комнатке ты записывал в толстой книге: «Дневная выручка – шесть су за леденцы». И вот ты говоришь: «Чтобы наши дела пошли в гору, надо бы найти еще одного клиента. Какого-нибудь старичка с седой бородкой…» Я хотела ответить, что с двумя клиентами мы с ног собьемся, но не успела и проснулась.
– Ну-ну! – сказал Теорем (с горькой улыбкой и таким же горьким смешком). – Ну-ну! – сказал художник, уязвленный до глубины души (кровь уже шумела у него в ушах, а черные глаза метали молнии). – Ну-ну, – сказал он, – значит, тебе хотелось бы сделать из меня лавочника?
– Да нет же. Это просто сон.
– Вот именно. Ты спишь и видишь, чтоб я стал лавочником и нацепил халат.
– Что ты, милый, – проворковала Сабина. – Если б ты сам видел, как он тебе идет!
Теорем вскочил с постели и захлебнулся от возмущения: все, все его травят! Мало того что хозяин выгоняет на улицу, а лиможский дядюшка решил уморить голодом, и это как раз тогда, когда в нем вызревает нечто. Когда он вынашивает в себе шедевр, грандиозный, но хрупкий. Так еще и любимая женщина смеется над его великими замыслами и мечтает, чтобы они сорвались. А его самого хочет запихнуть в бакалейную лавку! Почему уж тогда не в Академию?! Он кричал истошно, с мукой в голосе, мечась по мастерской в пижаме и раздирая грудь, точно отдавал свое сердце на растерзание хозяину, лиможскому дядюшке и любовнице. Сабина ужасалась неистовым страданиям художника и стыдилась своего ничтожества.
В полдень Лемюрье пришел домой обедать и застал жену в расстроенных чувствах. Она даже забыла собраться, так что на кухне глазам его предстали четыре женщины, занятые разными делами, но с одинаково заплаканными глазами. Лемюрье был неприятно поражен:
– Ну вот! Опять гипофизарная недостаточность разыгралась! Придется повторить лечение.
Когда же приступ миновал, он обеспокоился черной тоской, которая, что ни день, все явственнее снедала Сабину.
– Бинетта, – сказал он (этим ласковым именем добрый человек называл обожаемую молодую жену), – Бинетта, я не могу больше видеть тебя такой подавленной. В конце концов я сам заболею. И так уже то на улице, то в конторе вдруг привидятся твои грустные глаза – и сердце кровью обольется. Бывает, расплачусь прямо над бюваром. Приходится снимать очки и протирать стекла, а это весьма значительная потеря времени, не говоря о том, что слезливость производит дурное впечатление как на подчиненных, так и на начальство. И наконец, я даже сказал бы, и главное, – я опасаюсь губительного влияния на твое здоровье этой тоски, хоть она и придает твоим ясным глазам особый шарм, и настоятельно просил бы тебя принять безотлагательные и энергичные меры против этого опасного состояния. Нынче утром Портер, наш замдиректора, милейший, прекрасно образованный и в высшей степени компетентный человек, любезно преподнес мне клубную карточку лоншанского ипподрома – он получил ее от зятя, крупной столичной шишки и одного из организаторов скачек. Атак как тебе необходимо развеяться…
В тот вечер Сабина первый раз в жизни была на скачках в Лоншане. По дороге она купила программку и выбрала лошадь по кличке Теократ Шестой – созвучие с драгоценным Теоремом показалось ей счастливым знаком. В манто из голубого финтифлюша с пескоструйной оторочкой и в тонкинской шляпке с абажурной вуалеткой, она привлекала взгляды мужчин. Первые забеги оставили ее вполне равнодушной. Она была поглощена мыслями о своем дорогом возлюбленном, страдающем оттого, что жизнь ставит препоны его вдохновению, и мысленно видела, как сверкают его черные очи, когда он творит у себя в мастерской, напрягая все силы в борьбе с пошлой действительностью. Ей захотелось немедленно раздвоиться, перенестись на улицу Шевалье-де-ла-Бар и нежным прикосновением освежить пылающий лоб Теорема, как водится у любовников в тяжелые минуты. Однако она не поддалась искушению, боясь потревожить увлеченного работой художника. Оно и к лучшему, так как Теорем в это время находился отнюдь не в мастерской, а за стойкой бара на улице Коленкур, потягивал винцо и подумывал, не поздно ли еще закатиться в кино.
Но вот лошади выстроились для забега на гран-при министра регистрационных дел. Сабина завороженно смотрела на Теократа Шестого. Она поставила на него почти сто пятьдесят франков – всю сумму, какой располагала, и надеялась выиграть столько, чтобы хватило заплатить за квартиру Теорема и унять домовладельца. Сидевший на Теократе Шестом жокей был одет в восхитительную куртку, наполовину белую, наполовину зеленую – легкого, воздушного и свежего цвета салата с райских грядок. Сама лошадь была черной как смоль. Она с первых секунд вырвалась вперед и оторвалась от соперников на три корпуса. Опытные игроки знали, что такое начало еще не позволяет судить о результате, однако Сабина, заранее уверенная в победе и горя азартом, вскочила на ноги и закричала: «Теократ! Теократ!», вызывая смешки и улыбки окружающих. Только сидевший справа элегантный старый господин в перчатках и с моноклем посматривал на нее с сочувствием, растроганный такой непосредственностью. Увлекшись, Сабина кричала уже: «Теорем! Теорем!» Соседи громко потешались над ней, так что почти забыли про скачки. Впрочем, вскоре она спохватилась, увидела себя со стороны и густо покраснела от смущения. Тогда элегантный пожилой господин в перчатках и с моноклем встал и закричал во всю силу: «Теократ! Теократ!» Насмешники тут же осеклись, а из перешептывания соседей Сабина узнала, что пожилой господин был самим лордом Барбери.
Между тем Теократ Шестой потерял преимущество и пришел одним из последних. У Сабины вырвался судорожный всхлип: надежды рухнули, Теорем обречен на нищету и творческое бессилие. Ноздри Сабины задрожали, глаза увлажнились. Лорду Барбери стало искренне жаль ее. Он заговорил с нею и после обмена любезностями спросил, не хочет ли она стать его женой, присовокупив, что его годовой доход равен двумстам тысячам фунтов стерлингов. В эту минуту Сабине ясно представилось, как молодой художник умирает на жесткой больничной койке, проклиная Бога и домовладельца. Из любви к Теорему и отчасти к искусству Сабина ответила согласием, но честно предупредила лорда, что у нее ничего нет, нет даже фамилии – одно имя, и то самое банальное – Мари. Лорду Барбери эта особенность показалась весьма пикантной, он уже предвкушал, какой эффект произведет она на его сестру Эмилию, старую деву, посвятившую всю жизнь сохранению традиций британских аристократических родов. Не дожидаясь конца скачек, он посадил невесту в автомобиль и увез на аэродром Бурже. В шесть часов они высадились в Лондоне, а в семь обвенчались.
В то время как в Лондоне Сабина выходила замуж, на улице Абревуар она сидела за ужином со своим супругом Антуаном Лемюрье. Он заметил, что жена выглядит получше, был с нею трогательно заботлив и мил. Сабина с тяжелым сердцем думала, не нарушила ли она божеские и людские законы, вступив в брак с лордом Барбери. Вопрос довольно каверзный и тесно связанный с другим: насколько тождественны супруга Антуана и супруга лорда. Пусть физически каждая из них была вполне самостоятельным лицом, но брак, хоть и осуществляется во плоти, есть в первую очередь единство душ. Впрочем, Сабина корила себя напрасно. Поскольку законодательство не предусматривало феномена вездесущности, она была вольна поступать, как ей заблагорассудится. И даже имела право считать себя в ладу с небом, ибо ни одна булла, ни один рескрипт, ни одна декреталия никак не касались ее случая. Но щепетильность не позволяла ей прибегать к казуистике. Совесть и долг говорили, что брак с лордом Барбери – всего лишь продолжение и следствие супружеской измены, непростительной и безусловно греховной. Во искупление этого греха перед Богом, обществом и мужем она дала себе зарок никогда больше не видеться с Теоремом. Да и стыдно было бы показаться ему на глаза, после того как она откровенно вышла замуж по расчету. Разумеется, она сделала это ради его же покоя и славы, но, в чистоте своей, расценивала свой поступок как оскорбление любви. И все же обстоятельства жизни Сабины в Англии складывались таким образом, что несколько смягчили и муки совести, и даже боль разлуки. Лорд Барбери был человеком выдающимся. Он не только был богат, но и происходил по прямой линии от Иоанна Безземельного, который – факт, мало известный историкам, – состоял в морганатическом браке с Эрмессиндой Тренкавельской и имел от нее семнадцать детей; все они скончались в младенчестве, за исключением одного, четырнадцатого по счету, по имени Ричард-Хьюг. Он-то и стал основателем дома Барбери. Помимо прочих привилегий, составлявших предмет зависти всей английской знати, лорд Барбери пользовался исключительным правом раскрывать зонтик в покоях короля, эта привилегия распространялась также на летний зонтик его супруги. Понятно, что его женитьба на Сабине стала заметным событием. Новая леди Барбери попала в центр всеобщего внимания, в основном благожелательного, несмотря на то что сестра лорда распустила слухи, будто она прежде была танцовщицей из Табарена. Сабину, в Англии именовавшуюся Мари, поглотили обязанности великосветской дамы. Приемы, чаепития, благотворительное рукоделие, партии в гольф, примерки не давали ей и минутной передышки. Но за всеми этими разнообразными занятиями она не забывала о Теореме.
Художник не догадывался, кто регулярно присылал ему чеки из Англии, и ничуть не тужил о том, что Сабина больше не бывает у него в мастерской. Ежемесячный доход Теорема возрос теперь до двадцати тысяч, так что материальные заботы больше не тяготили его, однако он заметил, что вступил в неблагоприятный для творчества период гиперчувствительности, который необходимо переждать. В связи с чем он решил годик отдохнуть, а если этого срока окажется мало, то и продлить его. На Монмартре его теперь видели нечасто, черную полосу он пережидал в барах на Монпарнасе или ночных клубах на Елисейских Полях, где пользовал себя икрой и шампанским в компании шикарных шлюх. Когда Сабине стало известно о его разгульной жизни, она ничуть не усомнилась в нем, а подумала, что он идет по стопам Гойи и исследует игру света и мрака в недрах женской натуры.
Однажды вечером леди Барбери, проведя три недели в родовом замке, вернулась в роскошный особняк на Мэдисон-сквер и нашла у себя в спальне четыре картонки с обновками: бриллиантиновым вечерним платьем, креп-вазелиновым домашним, трикотажным спортивным и строгим классическим костюмом из лейкопластыря. Она отпустила горничную и упятерилась, чтобы разом примерить все наряды. И надо же было в эту минуту войти лорду Барбери.
– Дорогая! – вскричал он. – Да у вас четыре обворожительные сестры! И вы никогда мне не говорили!
Застигнутая врасплох, леди Барбери не смогла быстренько сложиться и вместо этого пробормотала:
– Они только что приехали. Альфонсина старше меня на год, с Брижит мы близнецы, а Барб и Розали, тоже близнецы, на год младше. Все говорят, что мы очень похожи.
Четыре сестры были радушно приняты в лучших, домах. Вскоре все четверо вышли замуж. Альфонсина – за американского миллиардера, кожгалантерейного короля, с которым уплыла через Атлантику; Брижит – за мадагапурского магараджу, который увез ее в свой дворец; Барб – за знаменитого неаполитанского тенора, с которым отправилась в турне по миру, а Розали – за испанского этнографа, забравшего супругу на Новую Гвинею изучать нравы и обычаи папуасов.
Четыре свадьбы были сыграны почти одновременно и наделали много шуму в Англии и на континенте. Парижские газеты тоже писали о них и помещали снимки. Как-то вечером в квартире на улице Абревуар Антуан Лемюрье сказал жене за ужином:
– Ты видела фотографии леди Барбери и ее четырех сестер? Невероятно, до чего они похожи на тебя, хотя глаза у тебя, конечно, посветлее, лицо подлиннее, рот поменьше, нос покороче и подбородок покруглее. Завтра же покажу газету и твою фотографию Портеру. То-то он разинет рот. – Антуан весело засмеялся, предвкушая, как удивится месье Портер, замдиректора СБНАО. Так он и объяснил жене: – Я смеюсь, потому что представляю себе, какой у него будет вид. Бедный Портер! Кстати, он снова дал мне клубную карточку на среду. Чем, по-твоему, мне его отблагодарить?
– Не знаю, – ответила Сабина. – Это дело тонкое.
И она с озабоченным видом принялась размышлять, прилично ли будет Лемюрье послать корзину цветов жене своего начальника. Вместе с нею над проблемой преподнесения цветов мадам Портер ломали голову леди Барбери, играя в бридж с графом Лейчестерским; мадагапурская бегума, восседая в паланкине на слоне; миссис Смитсон, развлекая гостей в новехоньком синтетическом замке а-ля Ренессанс в штате Пенсильвания; Барб Каццарини, слушая непревзойденного тенора в ложе Венской оперы, и Розали Вальдес-и-Саманьего, отдыхая под москитной сеткой в папуасской деревне.
Теорем тоже прочитал в газетах о лондонских свадьбах. Разглядывая снимки, он ни на секунду не усомнился в том, что все новобрачные были производными Сабины. И одобрил ее выбор во всех случаях, кроме не сулившего большой выгоды союза с путешественником. Как раз к этому времени он ощутил потребность вернуться на Монмартр, пресытившись бурлением Монпарнаса и шумным зноем Елисейских Полей. Кроме того, пособие леди Барбери придавало ему куда больше шика в кафе на родном холме художников, чем в чужеземных кварталах. Но образ жизни его ничуть не изменился, и очень скоро он прослыл на Монмартре ночным дебоширом, пьяницей и распутником. Приятели живо расписывали кутежи Теорема, завидовали, когда он швырялся деньгами, хотя им тоже кое-что перепадало, и злорадно твердили, что для искусства он потерян навсегда. Добавляя с притворным сожалением, что это ах как досадно, поскольку темперамент у него самый артистический. Слухи о его бесчинствах донеслись до Сабины, и она поняла, что он вступил на гибельный путь. Ее вера в Теорема и его дарование несколько пошатнулась, но нежные чувства не пострадали: напротив, она любила его еще сильнее и винила себя в его падении. Целую неделю она изнемогала от горя в разных концах света. А как-то раз поздно вечером, возвращаясь с мужем из кино, увидела на перекрестке улиц Жюно и Жирардон Теорема, которого волокли две растрепанные гогочущие девицы. Он был мертвецки пьян, извергал изо рта винные струи и изрыгал грязные ругательства в адрес двух красоток, одна из которых поддерживала его голову и нежно называла свинтусом, а другая в казарменном стиле расхваливала его любовный арсенал. Он узнал Сабину, повернул к ней грязную физиономию, выплюнул ей в лицо имя Барбери, присовокупив короткий, но выразительный эпитет, и рухнул к подножию уличного фонаря. После этой встречи сама мысль о художнике стала для Сабины ненавистна, и она поклялась себе забыть о нем на веки вечные.
Прошло две недели, и леди Барбери, пребывавшая с супругом в родовом имении, влюбилась в молодого местного пастора, приглашенного в замок на обед. Глаза у него были не черные, а бледно-голубые, губы не чувственные, а тонкие, с опущенными углами, чистый, опрятный вид и холодный, отполированный ум человека, заведомо презирающего все, чего не знает. Он покорил леди Барбери с первого взгляда. Вечером она сказала мужу:
– Я не говорила вам, но у меня есть еще одна сестра. Ее зовут Жюдит.
На следующей неделе прибывшая в замок Жюдит сидела за обеденным столом рядом с пастором. Тот был учтив, но сдержан, как и подобало вести себя с католичкой, сосудом и рассадником заблуждений. После обеда они пошли прогуляться по парку, и Жюдит очень удачно и как бы невзначай ввернула несколько цитат из Книги Иова, Чисел и Второзакония. Преподобный отец почуял благодатную почву. Еще через неделю он обратил Жюдит в свою веру, а через две – женился на ней. Но счастье их было недолговечным. Пастор только и делал, что произносил нравоучительные речи, и, даже положив голову на подушку, выказывал высокие помыслы. Жюдит изнемогала от скуки. Кончилось тем, что как-то раз, когда они катались на лодке по шотландскому озеру, она воспользовалась случаем и сделала вид, что утонула. На самом же деле нырнула, отплыла, задержав дыхание, подальше, а когда скрылась из глаз мужа, снова слилась с леди Барбери. Преподобный отец был в страшном горе, но не преминул возблагодарить Всевышнего за ниспосланное испытание и установил у себя в саду небольшую мемориальную стелу.
Между тем Теорем, не получив очередного пособия, забеспокоился. Сначала он подумал, что это просто задержка и надо набраться терпения, но, прожив в кредит больше месяца, решил обратиться к Сабине за помощью. Три дня подряд он безуспешно подстерегал ее у дома на улице Абревуар, пока наконец не поймал на улице.
– Сабина! – сказал он. – Я искал тебя три дня.
– Но, месье, я вас не знаю, – отвечала Сабина.
Она хотела пройти мимо, но Теорем положил руку ей на плечо:
– Послушай, Сабина, за что ты на меня сердишься? Я все делал, как ты хотела, а ты меня бросила. Я молча страдал и даже не спрашивал почему.
– Не понимаю, о чем вы говорите, но ваше фамильярное обращение и дерзкие намеки меня оскорбляют. Пропустите меня!
– Сабина, ты не могла все забыть. Вспомни!
Не смея сразу завести речь о деньгах, Теорем старался оживить былой сердечный тон. Со слезой в голосе он взывал к сладостным воспоминаниям и воскрешал картины их любви. Но Сабина смотрела на него с опасливым изумлением и не столько возмущенно, сколько ошарашенно все отрицала. Теорем не сдавался:
– Ну помнишь, прошлым летом мы ездили в Бретань, помнишь нашу комнатку на морском берегу?
– Прошлым летом? Но я ездила с мужем в Овернь!
– Да, конечно! Если ты будешь цепляться за факты!
– Что значит цепляться за факты?! Вы издеваетесь или сошли с ума. Оставьте меня в покое, не то я закричу!
Теорем, взбешенный такой явной ложью, схватил ее за руки и принялся трясти и заклинать. Но Сабина увидела на другой стороне улицы мужа и громко окликнула его по имени. Лемюрье подошел и поздоровался с Теоремом, еще не понимая, в чем дело.
– Этот господин, которого я вижу впервые в жизни, – начала объяснять Сабина, – остановил меня на улице. Он обращается ко мне на «ты», мало того, разговаривает со мной как со своей любовницей, называет «милой» и рассказывает какие-то басни якобы из нашего прошлого.
– Что это значит, месье? – надменно осведомился Антуан Лемюрье. – Вам угодно шутить столь странным и возмутительным образом? Да будет вам известно, что такое поведение не к лицу воспитанному человеку.
– Ладно! – махнул рукой Теорем. – Сказал бы я вам, да не стану.
– Отчего же, месье, пожалуйста, говорите, не стесняйтесь, – засмеялась Сабина и, повернувшись к мужу, продолжила: – Он тут такого мне нагородил про нашу, видите ли, любовь и еще уверял, что летом мы с ним провели три недели на море в Бретани. Как тебе это нравится?
– Будем считать, что я ничего не говорил, – огрызнулся Теорем.
– Это было бы лучше всего, – согласился законный супруг. – Знайте, месье, что летом мы с женой не расставались ни на день и вместе отдыхали…