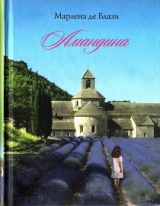
Текст книги "Амандина"
Автор книги: Марлена де Блази
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 19 страниц)
– Да, Селин может очень хорошо пригодиться твоя помощь.
Соланж заулыбалась, подхватила Амандину на руки, начала смеяться, смеялась и смеялась, и Амандина стала смеяться тоже, и они танцевали по комнате, вертелись, хихикали и визжали, распустили Амандинины косы и растрепали их, прежде чем обе упали на диван. Амандина исчерпала свой рассказ о событиях вечера. Соланж была в восторге от нее. Потом они съели сыр, груши и хлеб с маслом. Выпили по маленькому глотку вина с водой.
Глава 21
День за днем монастырские сестры и учительницы не говорили ни о чем другом, кроме как о сцене в трапезной, и судя по перешептываниям, обсуждали то роль Паулы, то роль Амандины. Паула проявила мудрость, отказавшись от последствий и решив игнорировать это событие. Свой гнев она держала внутри. Только старой Жозетте, сестре, которая от обязанностей по очистке и полировке поднялась до статуса дамы-по-поручениям Паулы, только Жозетте она открывала свои мысли. Говорила, что желает обеим, Амандине и Соланж, гореть в аду.
И как всегда, Паула избежала недовольства. Если даже Паула иногда не уверена в себе, это событие будет напоминать ей остерегаться мамочек и папочек воспитанниц. Нет, даже запах выговора за дорогих маленьких деток не будет витать вокруг нее. Ее спокойствие было тщательно продумано, и Паула предпочитала находиться в своем кабинете или подольше оставаться в саду, реже навещать классы и очень редко общаться с какой-нибудь из монастырских учениц. И когда «свист крыльев аиста» слышался в приемной, двери закрывались и головы отворачивались от нее. Как будто она стала невидимкой. Ее не искали, не избегали, и – без иронии, не подчеркнуто – среди девочек только одна Амандина не отказалась от привычной почтительности. Мудрое поведение Амандины не было донкихотством или самосохранением, как у Паулы, она тоже игнорировала сцену в трапезной. Великодушие Амандины Паула воспринимала как пародию, и каждое проявление его приводило настоятельницу в исступление.
Поскольку она изменила линию поведения, однажды вечером Паула сидела на жестком стуле с прямой спинкой в своей келье и, наклонившись, развязывала обувь. Только маленький ночник освещал комнату. Четырехкратный стук Жозетты прервал ее задумчивость.
– Входи, Жозетта.
– Добрый вечер, матушка. Нужно ли вам что-нибудь прежде, чем я?..
– Ничего. Вообще ничего. Посидишь со мной немного?
Она протянула руку к скамье под окном, но Жозетта сняла с Паулы обувь, достала из шкафа щетку и принялась эту обувь чистить, потом поставила ее на папиросную бумагу на нижнюю полку шкафа. Далее Жозетта заботливо, как мать, сняла ночную рубашку Паулы с крючка, аккуратно расправила ее рукава и складки, положила в ящик шкафа, открыла другой ящик, достала черные кожаные тапочки, глубоко растоптанные деформированными ногами Паулы, и поставила их на пол перед ней. Проверила, есть ли вода в графине перед кроватью, закрыла крышку, посмотрела на Паулу, которая снова села на стул.
– Тебе не нужно хлопотать, Жозетта. Я могу сделать это сама.
– Но я хочу делать что-нибудь для вас, матушка.
– Да, да, я знаю. Как долго будет продолжаться твоя помощь, Жозетта? Сколько тебе лет?
– Мне семьдесят восемь. А в феврале вам будет семьдесят, матушка.
Жозетта сказала это потому, что их возраст мог быть вычислен в сравнении друг с другом. Паула, положив локти на колени и поддерживая кулаком подбородок, удивленно повернула голову к Жозетте.
– Сколько? Как бежит время.
Отвела взгляд от Жозетты, обвела комнату глазами и начала плакать.
– Вам нехорошо, матушка?
Снова поглядела на Жозетту, попыталась улыбнуться.
– Мне достаточно хорошо.
– Что я могу для вас сделать?
Как будто не слыша вопроса, Паула шевелила губами, пыталась что-то сказать, наполовину проглатывая слова. Разрушающие ее саму слова.
– Какой демон обитает в ней, Жозетта? Что поддерживает дыхание этого ребенка? Я желаю ей смерти, чтобы она ушла, чтобы ее никогда не было. Пусть Бог простит меня.
Жозетта подошла поближе к Пауле.
– Что вы сказали, матушка? Я почти не расслышала вас.
Паула махнула рукой, отпуская ее.
– Доброй ночи, матушка.
Жозетта поклонилась и выбежала из комнаты, она слышала каждое слово. Это было в субботу, и Амандина шла из школы по лоджии к Соланж, когда Паула подошла к ней. Амандина поклонилась, но Паула, не издав ни одного звука и не подав знака, резко схватила ее за плечи и начала трясти. Амандина не защищалась, и Паула, держа ее как в объятиях, смотрела на нее сверху вниз. Амандина не вырывалась, только не сводила с Паулы глаз.
– Кто ты? – спросила Паула.
Амандина отступила на шаг, поправила платье, снова уставилась на Паулу.
– А кто вы, матушка?
Для Амандины было восхитительным почувствовать дружелюбие девочек из монастыря, она повеселела, теперь ее никто не трогал, но это не то, что радовало бы ее больше всего. Причиной служило подозрение, что если она не сделала ничего, чтобы заработать враждебность соучениц, как она может быть уверена, что эта враждебность не вернется? Более того, то, что она сказала и сделала в трапезной, не было поступком, чтобы погасить антипатию к себе, а было защитой Соланж. Если девочки в школе такие непостоянные, как можно знать, какое твое слово или действие может вновь зажечь антипатию? Кроме того, всегда остается Паула. Оказалось, что ее сильно не любили, и Амандина могла на это рассчитывать. Так кто ее наибольший враг и кто друг? А если никто? Тайна, в которой она живет, о которой думает, может не открыться еще некоторое время. Возможно, это навсегда тайна. Нет, вряд ли возникло дружелюбие, что порадовало бы Амандину более всего. Поэтому, когда девочки из монастыря начинали манить ее в ту или иную социальную или политическую группу или сложившуюся касту, Амандина отказывалась. Она отвечала: «Нет, спасибо», когда ее звали покурить «Галуаз» и выпить капучино вместе с Антониеттой в сарае во время перемены или занять целый час чтением одной специфической книги с Фредерикой. Это чтение должно было состояться под одеялом при помощи маленького черного фонарика и это было бы посвящением в круг девочек, имеющих менструацию. Наиболее выдающееся приглашение, которое, как правило, поступало только нескольким избранным девочкам из седьмого класса и выше, она приняла. Это было приглашение смотреть на груди Матильды. Спереди и сбоку. О, мой Бог.
Возникла борьба за место рядом с ней в трапезной и за право держать ее за руку, когда вставали в круг, чтобы изобразить четки на вечерней молитве. Пралине на ее подушке, цветок в ее кармане, кто-то ткнулся ей в щеку, чтобы выразить симпатию, кто-то выразил соболезнование по поводу ее матери, спросив: «Как ты чувствуешь себя, не зная, кто твоя мама?» и добавив: «Кто бы она ни была, она наверняка еще красивее, чем Хеди Ламарр». И чтобы отпраздновать ее восьмой день рождения, они собрали деньги на заказ в деревенской пекарне семислойного торта мокко с майораном, на котором написали: «Счастливого дня рождения, наша милая малышка».
Соланж задыхалась от восторга, чудеса в неумеренных количествах от монастырских девочек шли на пользу Амандине, тем более что она оказывала им сопротивление. Для себя Соланж решила, что это сопротивление разумно.
Глава 22
Только через шесть дней Соланж получила ответное письмо от своей матери. На первых страницах Магда представала робкой, даже формальной. Но к третьей странице она заговорила в полный голос, который Соланж помнила со своего раннего детства. До того, как у них возникли неприятности. Магда писала, что у них всюду идут разговоры о войне.
Боши будут пытаться разобраться с нами, но я думаю, что мы готовы к войне. Тем не менее мы начали думать и действовать как люди, которые ждут войны. Мы начали консервировать персики, твои сестры и я, с мадам Боранж и ее девочками, и кто-то из них спросил: будет ли толк из этой работы, если фрукты сожрут боши. Бланшетта придумала, что некоторое количество банок мы должны отравить, а остальные, самые лучшие, закопать. Некоторые люди действительно спрятали серебро и другие вещи, которые они считают ценными. Так же, как мы делали во время Мировой войны. Признаюсь, я упаковала два старых чемодана с фотографиями, хотя знаю, что мы будем гнать их, как свиней на убой. Бошей. Вот так.
К пятой странице она начала рассказ об отце Соланж. О его уходе из семьи около трех месяцев назад. Она сказала, что он уехал работать в Бельгию, на маленькую деревенскую ферму недалеко от границы, что он уехал с женщиной; неизвестно, существует ли она в реальности, ибо эти сведения почерпнуты из сплетни, дошедшей издалека. Эта женщина из Шарлеруа или из деревни поблизости, вдова с дочерьми. «Да поможет ей Бог», – написала мать.
Нет, он никогда не приставал к Хлое или к Бланшетте. Но когда он отсутствовал неделями зимой, работая помощником плотника в Шатильоне, ладно, у меня были подозрения. И однажды эти подозрения облеклись плотью. Ее звали Марго.
Мать села в грузовик с пиломатериалами из Шатильона и приехала на ферму посмотреть на него.
Она была достаточно хорошенькая, с великолепными каштановыми волосами, связанными в пучок на макушке, небольшая и хорошо сложенная, носила старый твидовый жакет и мужские брюки, и, кроме зависти к ее волосам, все, что я чувствовала, была жалость, когда она стояла на кухне, плача и разглагольствуя о том, как собственный отец предупреждал ее, что ее новый парень шарлатан. Во-первых, ее отец доказал, что был прав. Он взял из дома деньги, как рассказывали, уверил Марго, что любит ее, что никогда никого, кроме нее, не любил, и меньше всего жену. Он сказал ей, что она должна набраться терпения. Он никогда не упоминал, что у него три дочери. Когда отец Марго увидел нашего отца с другой женщиной в городе, он поссорился с ним. Отец смеялся над ним, называя Марго шлюхой. Типичное оскорбление женщин такими людьми, как наш отец.
Я приготовила чай для Марго, поставила на стол хлеб и сыр, хотя она не дотронулась ни до чего, и потом проводила ее назад в Шатильон. Она была только на год старше тебя, Соланж. Через три дня я поехала в Реймс к адвокатам. Начать бракоразводное дело. По дороге домой я остановилась в деревенском комиссариате и заполнила ордер на задержание. Когда отец пришел вечером с виноградника, два жандарма ожидали его. Он не возразил ни слова, не пытался урезонить меня, никогда не просил изменить решение. Сожалела ли я, что так вышло? Да. Одинока ли я? Да. Но менее одинока, чем когда он был здесь.
Я обрезала волосы, коротко постриглась, и теперь, когда мне больше не надо вертеться ради денег, я продаю на рынке мои сыры и купила себе новую одежду. Серое платье с серебряными пуговицами из старых монет и темно-синее, цвета флотского военного мундира, в мелкий белый горошек. Хлое не нравится темно-синее, а Янке нравится. Бланшетта ничего не сказала. Я думаю, пошлю тебе темно-синее. Понравится ли тебе? Я очень худенькая, но чувствую себя хорошо. Мне будет сорок два в ноябре.
Закончив письмо и заполнив девять или десять страниц, Магда рассказала Соланж многое о себе, о своих чувствах, больше, чем когда-либо ранее. Попросила Соланж простить ее. Сказала, что если дочь не простит, разумеется, она поймет. Сказала, что надеется на возвращение Соланж домой вместе с Амандиной, которую уже давно считает внучкой.
Как часто мне кажется, что я держала Амандину на руках. Конечно, я считаю ее твоей. Я признаю, что часть моей тоски по ней связана с тем, что, возможно, так я получу еще один шанс остаться твоей матерью. Можешь ли ты это понять, Соланж? Интересно, как другие матери такое ощущают. Я интересовалась этим у мадам Боранж с ее выводком и у моих сестер с их детьми. Интересовалась и у Янки. Интересно, какое у тебя мнение, Соланж? Нет ли у меня еще одного шанса остаться твоей матерью?
Епископ, однако, не торопился отвечать на письмо Соланж. Две недели, почти три, прошло с того времени, как она отправила свое письмо к нему, и однажды утром Паула послала за ней, когда она работала в саду. Опасаясь, что Фабрис сообщил Пауле ее просьбу о частной аудиенции, Соланж волновалась так, что руки дрожали, когда она приняла из рук сестры Жозефины полотенце и тазик с лавандовой водой. Она вымыла лицо, пригладила волосы. Она думала об Амандине и улыбнулась про себя, быстро войдя в кабинет Паулы.
– Его высокопреосвященство прислал сообщение о согласии встретиться с тобой в четыре часа пополудни сегодня. В апартаментах отца Филиппа. Напоминаю, что комната должна быть убрана, цветы свежие.
– Да, матушка.
– Я приказала принести сладости из деревни.
– Да, конечно. Хотя он, скорее всего, привезет свои.
Паула смотрела на нее с открытой, доверительной улыбкой.
– Возможно.
Она вызывала Соланж на откровенность и явно волновалась. Долгое молчание. Паула перебирала бумаги на столе, но Соланж поправляла косу, кусала губы, принужденно улыбалась, затем достала кошелек и положила его обратно. Несмотря на безразличие Соланж, Паула откровенно ждала, что ей еще скажут. Но Соланж спросила:
– Это все, матушка?
– Как ты думаешь, что является причиной его желания встретиться с тобой?
– Я не знаю, матушка. Наверное, что-нибудь в отношении Амандины.
– Кажется, все в этом доме имеет отношение к Амандине. Я, конечно, буду рядом, если он пожелает, чтобы я присоединилась к вам двоим.
– Конечно, матушка.
– Косы и платок.
– Да, матушка.
Вскоре после четырех Фабрис прибыл в монастырь без всяких церемоний, как и в вечер смерти Филиппа. Он был, как деревенский священник, в сутане и черной шапочке, и приехал не в официальном лимузине, его зеленые веллингтоновские сапоги высовывались из-под сутаны, как короткие толстые стебли суккулентных растений. Напомнив шоферу, чтобы тот позаботился о коробках с выпечкой и вином и перенес их в кухню, он направился в здание. («Здравствуйте, мои милые», – сестры уже собрались под портиком, чтобы приветствовать его), прошел через дверь, кивнул Пауле, которая стояла в сторонке, и его массивная громоздкая фигура двинулась на мягком резиновом ходу по длинному коридору в дальнее крыло, к комнатам Филиппа. Не поворачивая головы, но зная, что все следят за ним, он крикнул:
– Я полагаю, Соланж ждет.
Она ждала. Придержав перед ним дверь, склонившись и поцеловав его кольцо, она подождала, пока он погрузился в глубину кресла с высокой спинкой, принадлежавшего Филиппу, нагнулся, снимая сапоги, положил ноги в пурпурных чулках на пуф, чтобы отдохнули. Поставил рядом с креслом на золоченый стол с черной мраморной столешницей серебряный поднос, серебряный подсвечник с тонкой свечой густого медового цвета, уже горящей, резную хрустальную бутылку и спичечный коробок. Долго неаккуратно наливал старый рыжевато-коричневый портвейн, который любил пить в это время дня, держа стакан большими белыми руками с ухоженными ногтями, отблескивающими в желтом свете свечи.
– Теперь, моя дорогая, подойди и сядь возле меня. Я надеюсь, ты не возражаешь против того, что я предпочел встретиться с тобой здесь. Хотя я понимаю, почему ты хотела личной встречи, но нет необходимости сохранять это в тайне. Ты, как и все другие сестры, имеешь полное право искать аудиенции у епископа. То, что ты можешь из-за этого подвергнуться гневу Паулы, вряд ли стоит обсуждать. Я перестал считаться с мнением Паулы и рекомендовал бы тебе то же самое. Кажется, Амандина уже сделала это.
Прозрачные темно-карие глаза почти утонули в радостно сморщившихся складках век, он смеялся. Выпив портвейн маленькими глоточками, он поставил стакан на тугую обивку стула возле себя и пристально смотрел на Соланж.
Все еще стоя, Соланж улыбнулась, кивнула, принесла маленький деревянный стульчик к креслу, на котором развалился Фабрис. Села, положила руки на колени. Улыбаясь, сказала:
– Я хотела поговорить об Амандине, ваше высокопреосвященство.
– Да, я знаю.
– Я ищу слова, которые я хотела бы сказать, как я хотела бы сказать им, но…
– Было бы проще, если бы я начал?
– Ну, ну да, конечно, как вы пожелаете.
– Я думаю, ты должна забрать ребенка и покинуть это место.
– Что? Что вы?..
– Послушай. Слушай меня. Ни ты, ни Амандина не чувствуете себя здесь уютно.
– Откуда вы знаете?
– Я просил тебя послушать. Я знаю про последние события в трапезной и что Амандина, скажем так, обрела свой голос, что в своем наивном стиле она, шаг за шагом, сразилась с Паулой и вернула ее на землю с небес. Она вызвала восхищение одноклассниц, что многого стоит. Это больше чем причина, чтобы остаться, это кажется естественным, победным выходом. Но почему бы не уехать из места, которое не устраивает ни одну из вас? Ни ты, ни ребенок не являетесь заложниками Паулы. Почему вы должны здесь оставаться?
– Потому что это моя обязанность, сир. Я обещала оставаться здесь и следить за Амандиной.
Соланж встала и заплакала.
– Я думаю, наблюдать за девочкой, вот что ты обещала. Этот долг, взятый на себя годы назад, ты выполняла, и выполняла блестяще, и, я надеюсь, продолжишь блестяще выполнять в любом другом месте. Поэтому я повторяю свой вопрос: зачем вам оставаться здесь?
Она описывала узкие круги, поворачиваясь к нему то спиной, то лицом.
– Разве это не входило в договор? Что она должна учиться здесь?
– Я предполагаю, что так и было. Но, возможно, договор изжил первоначальные намерения. Может быть, те, кто хотел обеспечить благосостояние Амандины, были бы первыми, сказавшими: ни здесь, ни в этой школе, ни где-нибудь еще в этом месте ее благополучие не будет ни для кого основной заботой – это только ее частное дело. Ты не можешь изменить это, и я не могу. Знание того, что мы не можем ничего изменить, делает нас мудрыми. А будучи мудрыми, мы должны искать альтернативу.
Она снова села на стул.
– О чем вы говорите, сир? Другой монастырь?
– Нет. Я говорю, что верю – ты создала бы семью из вас двоих. Ты должна построить дом для Амандины и для себя. Ты когда-нибудь выйдешь замуж, Соланж. Ты красивая и добрая.
Соланж неуклюже отреагировала на комплимент, она покраснела, закрыла лицо руками, ее мысли спутались.
Глотнув портвейна и широко улыбаясь, отчего в свете свечей стали заметны аметистовые прожилки на носу, епископ спросил:
– С чего бы ты начала? Что бы тебе было интересно? С моей помощью. Церковь откроет тебе широкие объятия, моя дорогая. Я помогу найти работу, хорошую работу. Квартиру в Монпелье или маленький домик где-нибудь в деревне? Как ты предпочитаешь? Или возможно, ты решишь поехать к своей семье. Я здесь, чтобы обсудить спокойно и в конечном итоге решить. Я говорю «обсудить спокойно и в конечном итоге решить» с некоторыми оговорками, но все же.
Он внимательно посмотрел на Соланж и снова налил из графина в стакан.
– Война. Моя мать написала мне о ней. Но это было несколько недель назад, до здешних событий, до того, как германцы… Я имею в виду, никто здесь не говорит много о…
– Гитлере? Да, это возможно. Я понимаю, что для тебя Чехословакия и Польша находятся на другой стороне Луны, но они близко от нас, и на какую дорогу выйдет этот шакал и куда повернет, зависит от противостоящих ему сил; ладно, то, что я говорю, ничего не значит для очень многих людей в Европе, теперь, когда все уже началось. Это уже началось, Соланж. Мы объявили войну бошам. Жребий брошен. Невероятно, безумно, но их блицкриг, может, уже начался. Я пытаюсь сказать, что боши могут вторгнуться во Францию, ну, да ладно… Если это случится, юг будет защищен севером до тех пор, пока… Он будет защищен все время.
Он снова хлебнул портвейна. Изменил выражение лица.
– Ты знаешь, я приготовил ее документы, ее удостоверение личности, паспорт, все готово. Амандина Жильберта Нуаре де Креси. Я позволил себе дать ей мое имя. И моей матери. Жильберта, это прекрасно, ты не находишь? Если бы у меня могла родиться дочь, она была бы Жильберта Нуаре де Креси. А теперь это имя будет носить Амандина. Ради моей матери, ради меня. Это как возвращение на круги своя, это почти фамильное имя. «Амандина Жильберта Нуаре де Креси, родилась 3-го мая 1931 года в Монпелье, мать неизвестна; отец неизвестен; подкидыш, в курии Монпелье со дня рождения». Это хорошее начало для всех нас.
– Когда она пошла в школу, я зарегистрировала ее как Жоффруа. Я дала ей мое имя, но я не думала, что она когда-нибудь будет иметь возможность записать его или назваться им. Пусть будет Нуаре де Креси. Благодарю вас, сир. Спасибо.
– Но получение документов не означает обязательный отъезд. Если ты решишь остаться, я допускаю, что определенное перемирие возникнет между вами двумя – тобой и Паулой. Она не изменится. Ма âme damnée, мой заклятый друг. Она, духовная мать всех здешних маленьких птичек, сама проклятая душа. Бедная старая горькая душа. Нет, она не может измениться, а мы можем, кто-нибудь может. Таким образом, я подозреваю, что произойдет некая тонкая реформация. Самое плохое уже случилось.
Соланж тихо слушала, обдумывая то, что он сказал, но в то же время ее разум отвергал такие слова, как блицкриг, хан, боши.
– Да, я думаю так же. Худшее проходит. Но то, что тревожит Амандину, что будет продолжать ее мучить, это неизлечимое стремление иметь мать. Желание что-нибудь знать о ней, найти ее. Можете помочь мне с этим? Помочь мне, помочь ей?
– Я знаю очень мало. Друг, мой дорогой старый друг рассказал мне, что девочке нужна помощь. И я сделал то, что обещал ему. Это был тот случай, когда ничего не спрашивают. Ты понимаешь?
– Я думаю так же. Но помощь, которую вы оказали своему другу – я подразумеваю договоренность о пребывании здесь Амандины, – если она уедет, то как будет с оплаченным фондом?
– Насчет фонда, да. Курии заплатили, чтобы она взяла Амандину. Нам передали щедрую, чрезвычайно щедрую оплату по прибытии сюда ребенка. С тех пор из того же источника, как мы будем называть его, ничего не поступало. Вопрос незаконного присвоения средств курией снимается, потому что, вероятно, кто-то просто забыл свое обещание и в дальнейшем оплачивать обслуживание. Но это едва ли имеет значение.
– Но моя ежемесячная стипендия…
– Я считаю, что ты выполнила свои обязанности, Соланж, как я уже сказал. Я обещал наблюдать за тем, как вы обе живете, и я всегда делал это. И буду делать впредь. Именно я следил за оплатой. Пока я живу, Соланж, и пока будет хоть йота чести у моего преемника, если я уйду, – и ты, и ребенок будете пользоваться защитой курии. Независимо от того, где вы будете жить. Теперь я хочу вздремнуть, так что беги отсюда.
Как будто она не слышала его категорического указания, она осталась сидеть на стуле.
– Почему Паула стремится причинить боль Амандине, сир?
– Потому что Амандина – ребенок, которым она сама хотела бы быть.
– Как это?
– Странный разум Паулы говорит ей, что Амандине повезло, чудовищно повезло.
– Она считает, что смертельно больному младенцу, брошенному родителями, чудовищно повезло? Сироте, чей названный отец умер, когда она спала на его руках, а ей еще не было шести лет?
Вскочив на ноги, Соланж уже открыто плакала.
– Позволь, я расскажу тебе историю Паулы. Ее мать умерла во время ее рождения. Ее отец, пустой человек, думал только о собственном комфорте и собственных потребностях. Заботясь только о себе, он, как я предполагаю, завел себе деревенскую любовницу, чтобы она занималась новорожденной Анник. Знаешь ли ты, как ее зовут, Соланж? Да, настоящее имя Паулы – Анник. Интересно, не правда ли, что ты дала своей крошечной подопечной имя, начинающееся с А. Как только этой деревенской женщине стало ясно, что у отца младенца нет никакого намерения не только жениться на ней, но даже держать ее в доме, когда ребенок подрастет, она сбежала, и меньше чем в годовалом возрасте Анник оставалась днем и ночью привязанной, на хлебе и воде, независимо от того, что ее папа находился в пределах досягаемости. Он был деревенским доктором, Соланж. Отец Анник был деревенским доктором, молодым вдовцом, которого жалели, как жертву тяжелой жизни. Хотя другие деревенские женщины выстраивались в очередь, чтобы помочь ему, добрый доктор из скупости отказывался от помощи, и немногие интересовались плачущим полуголодным существом, запертым в комнате.
– Пожалуйста, сир, я не могу выдержать…
– Ну-ну, тебя потрясает такое дикое поведение? В том или другом виде это вполне распространено. Да, в то время, как доктор навещал своих пациентов, он оставлял свою крошечную девочку в нищете, в грязи, в ее собственной рвоте, голодную, так надолго, как у него получалось. Но отсутствовал ли он или присутствовал, ребенок был одинок. Он никогда не брал ее на руки. Понимаешь ли ты, какое дьявольское зло – отказать младенцу в объятии, по которому он тоскует?
Фабрис говорил уже менее агрессивно. Как если бы слова и события, которые он описывал, изнурили его. Он склонил голову, закрыл глаза и тихо сидел против пораженной Соланж, затем откинулся назад на спинку кресла, уставив пристальный взгляд на нее, и продолжал:
– Но было еще одно существо – девочка, которой не могло быть больше семи или восьми лет, когда родилась Анник, и она взяла на себя обязанность заботиться о ребенке. Она была одна из пяти или шести детей бедной деревенской семьи, самая старшая, я думаю. Рожденная умственным инвалидом, медленно соображающая и говорящая, она была фольклорной личностью, ласковой деревенской дурочкой. Этот другой ребенок был предоставлен самой себе, она бродила по деревне и окрестностям весь день, иногда возвращаясь вечером домой, иногда нет. Спала под деревьями, воровала, что могла, из фруктовых садов, стучалась в двери за помощью, когда шел дождь или было холодно. Ее впускали. Не то, чтобы ее мать была жестокой, но только постоянно занятой, страдающей и вынужденной заботиться о младших детях. Похоже, что когда эта маленькая девочка услышала о смерти жены доктора и о ребенке, ей как-то пришла идея, что именно она должна о нем позаботиться. Доктор смеялся над ней, позволял играть с малюткой как с куклой, награждая этим за работу. Она кормила животных и таскала уголь из подвала и освобождала его от необходимости платить рабочим или делать это самому. Когда девочка заканчивала свою работу, она бежала к ребенку, умывалась собственной слюной и вытирала руки любой тряпкой, которая была под рукой; она делилась своей сомнительной украденной пищей или пыталась нянчить девочку, поскольку видела, как ее мать давала грудь ее братьям и сестрам. Она пела ей часами, качая своими костистыми грязными руками, пока обе не засыпали. Она давала ребенку хорошего тумака время от времени или другой урок воспитания, усвоенный на коленях ее матери. В целом, видишь ли, она принесла ей больше пользы, чем вреда, поскольку любила дитя. Инстинктивной любовью, я полагаю. Она знала, что никто другой не любил ребенка, так как никто не любил ее самое. Она намеревалась защищать ребенка, спасать его и спасать себя. Анник была единственным делом ее маленькой детской жизни. Как и до сих пор.
– Что вы подразумеваете под «и до сих пор»?
– Эту маленькую девочку звали Жозетта.
– Жозетта. Жозетт? Эта Жоз?..
– Эта самая. Так или иначе, но Анник выжила и стала старше, но даже тогда, когда она начала заботиться о себе сама, Жозетта осталась при ней. Хотя Анник к тому времени, как ей исполнилось четыре или пять, превзошла Жозетту разумом, та шла своим собственным путем и жила в своем собственном времени. С помощью Анник. Когда Анник пошла в школу, она стала давать Жозетте уроки. Учить ее читать и писать, но особым способом. Помогала ей заботиться о своем здоровье, делилась с ней одеждой. И пищей. Так повернулось колесо фортуны, что Жозетта стала делом жизни Анник. Через некоторое время то, что Жозетта путалась под ногами, стало раздражать доктора, и он установил различные правила, запрещающие ее посещения, и отослал ее. Однако она возвращалась. Конечно, реже, но она всегда находила способ вернуться к Анник. Когда доктор отослал свою дочь к кармелиткам, Жозетта отказалась остаться одной и в ту же самую ночь прибыла со всеми пожитками в монастырь, нанявшись к аббатисе девочкой для уборки. Ее приняли как послушницу, правильнее сказать – как рабыню, и она несла свою бессменную вахту возле любимой Анник. И они обе находились здесь все эти годы.
Именно от Жозетты и немного от Паулы-Анник я узнал часть истории, но более всего от доктора. Около пятнадцати лет назад он приехал в монастырь, желая поговорить со своей дочерью. Как человек со своими привычками, он ждал случая нанести визит, когда ему было удобно. Она отказалась видеть его. Филипп послал его ко мне, и я стал хранилищем всего, что он хотел сказать Анник. Как он сожалеет, как он слаб и одинок, как он верил, что ее рождение убило его жену. Жену, которую он предал и бил и… Я выслушал его признания и посоветовал ему идти домой, чтобы умереть, прощенным Богом, а не его дочерью.
– Мне жалко Анник, я имею в виду Паулу. И Жозетту. Искренне жаль, сир. Но какое ко всему этому имеет отношение Амандина?
– Разве не такая ситуация произошла с вами? Паула мстила за себя Амандине. Свежее белое белье для новорожденного ребенка. Это было слишком для нее. Она сожрала бы этого ребенка. Это ребенок, которого бросили, от которого отказались, но оставили в таких достойных руках. С таким достойным приданым. Ребенок, который победил смертельный недуг, который завоевал Жан-Батиста и Филиппа, и всех сестер из монастыря, и тебя, и меня, но Пауле не хватило сострадания. Она одурманена своими бедами. Некоторые люди хотят избежать боли или переложить ее на другого. Так проще, моя дорогая.
– Я не нахожу это простым. Вы рассказали мне это, чтобы у меня появилась симпатия к Пауле?
– Нисколько. Это был мой ответ на вопрос: «Почему Паула хочет причинить Амандине боль?»
– Знаете ли вы, кто ее родители, или не знаете, сир?
– Нет.
– Можете ли вы помочь мне найти их?
– Даже если бы я думал, что это наилучший вариант, я не знаю, с чего нужно начинать.
– С вашего друга.
– Он давно умер. Он умер, и я верю, что все, кто хотел забыть о ней, забыли. Амандина не первый ребенок, который был так преднамеренно, так решительно потерян.
– Но вы знаете, сир, она потеряна не только для них, но и для всех. Для меня. Для себя. Они сделали свою работу слишком хорошо.
– Это тебе кажется. Но она мудрая и сильная, Бог не поскупился при ее создании. У нее есть основа. Этого достаточно. Ребенок оглядится, и ты это увидишь. Но опасность войны, это реально, Соланж. Так или иначе, ты и Амандина, как и остальные, должны вынести то, что нам готовит судьба. Вы должны решить, где вы предпочитаете быть: здесь, с нами, или с твоей семьей, или где-то еще одни. Вы должны хорошо подумать. Да?








