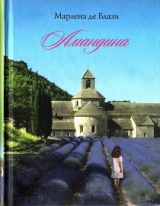
Текст книги "Амандина"
Автор книги: Марлена де Блази
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 19 страниц)
Глава 3
Когда дама удалилась, Паула спрятала пухлый белый сверток в стенной сейф в своем кабинете, где он должен был храниться до той поры, пока церковный эмиссар приедет забрать его, и поднялась по крутым каменным ступеням в жилую часть монастыря. Толстые дубовые двери вели в темный коридор, где обычно тихо и, как правило, пусто в это время дня, и только монахини, ведущие домашнее хозяйство, проходили с корзинами, тряпками, щетками, банками воска, пахнущего серой, коричневыми стеклянными бутылками с лимонным маслом, но сегодня слышался веселый смех из-за последней двери в коридоре.
Однажды в одну из кладовых монастыря, где никогда бы не побывала женщина с влажными черными глазами, пришли местные ремесленники, чтобы заново отполировать щербатые серые плиты пола, перестеклить свинцовые переплеты окон, соскрести слой за слоем краску со стен, последние следы той эпохи, когда монастырь был фамильной виллой высокородной испанской семьи из Биаррица.
Паула распахнула двери, остановилась на пороге и резко хлопнула в ладоши, чтобы привлечь внимание группы щебечущих монахинь, тесно сгрудившихся в дальней половине комнаты. Их веселье погасло после ее окрика: «Тишина!», и монахини расступились, кланяясь.
Среди них сидела плотная и рыжеватая, как красно-коричневое яблоко, хорошо сложенная молодая женщина, пожалуй, слишком привлекательная на вкус Паулы. Она была одета в грубое темное крестьянское платье, короткие кожаные башмаки, толстые черные чулки, и из-под черного, повязанного узлом платка на лоб выбивались светлые кудри. Это была бывшая бенедиктинка, пришедшая в монастырь послушницей из своей деревни Шампенуаз несколькими месяцами ранее, по имени Соланж. На руках у нее покоился младенец, ее голова склонилась к ребенку с обожанием. За Соланж стояла толстая краснощекая молодая женщина, пахнущая крахмалом и мылом, одетая в длинный белый передник поверх полагающегося черного платья. Она станет кормилицей для девочки.
Мебель, постельное белье и одежда, прибывшие упакованными в картон и дорожные сундуки, были тщательно расставлены и распакованы Соланж на свеженатертом полу, покрытом красными и желтыми турецкими ковриками. Белая кованая колыбель, изящная, как кружево, застелена простынками и покрывалами с ручной вышивкой, задрапирована балдахином из белого ситца. Умывальный столик, легкая антикварная кресло-качалка с белым бархатным сиденьем, широкий плюшевый диван с желтыми пуховыми подушками, шкаф для одежды маленькой девочки, высокий бело-золотой комод в стиле империи, маленький библиотечный шкафчик, еще пустой, и в нем картонка с детскими книжками, а возле него классический черно-лаковый письменный столик, и в нем ящики с хрустальными ручками. Имелся также маленький стульчик, который, когда поворачивали выключатель, медленно играл мелодию из «Лунного света». Хромированная нарядная коляска голубой кожи разместилась под окнами. Желтые языки пламени в очаге черного мраморного камина. Все это составляло детскую и спальню для Соланж. Также имелся альков, где сможет отдохнуть кормилица.
Паула остановилась посреди комнаты и громко произнесла:
– Я верю, что вы все понимаете, вы и ваши сестры, что я согласилась, почтительно согласилась, на просьбу курии предоставить здесь убежище этому младенцу и его няне, но я соглашалась на ваше присутствие здесь. Они не гости, не визитеры, а бездомные, которым под нашей благодетельной опекой обещана некая форма патронажа, и порядок их пребывания определяю только я. Они должны быть ограничены по возможности этими комнатами, грешницы Гоморры. Наши сестры будут кормить их, стирать их одежду, подметать и мыть их комнаты. Кроме сада, и только в определенные часы, только по моему приглашению, они не должны никуда выходить из своей комнаты. Никто из тех, кто имеет привилегию здесь жить, работать и молиться, не нарушат моего приказа. Сестра Соланж, только сестра Соланж будет возле ребенка. Передайте мои слова вашим сестрам, и я сделаю это тоже. Вы можете идти.
Слова Паулы прозвучали как выстрел. Монахини расползлись, как раненые птицы. Соланж заплакала, тут же закричал ребенок. Соланж отвернулась от Паулы вместе с девочкой и прижала ее к груди.
Паула прошлась по комнате, подвигала стульчик туда-сюда, повернула выключатель и послушала тихую мелодию Дебюсси. Она прошла к шкафчику, рассмотрела, как сшито крошечное розовое платьице.
– Все здешние деревенские дети спят на соломенных матрасах и носят деревянные башмаки.
Соланж прижимала к себе уже успокоившегося ребенка.
– Но они пьют материнское молоко, матушка. Не завидуйте ей. Она заплатит за свою судьбу, в конце концов. За шелковые башмачки и розовое платьице.
– По поводу материнского молока. Почему кормилица не может заменить родную мать? Ее молоко можно привозить сюда каждый день. Почему?
– Ребенку нужна не только кормилица, матушка. Жан-Батист договорился с ней на случай, если она будет необходима. Он думает, что свежего молока от наших коз будет достаточно. Вместе с тем, что я приготовлю по его инструкциям из овощей и зерновых.
– Вы не должны строить широких гастрономических планов для нее. Я поговорю с Жан-Батистом, посоветую, чтобы он ограничился разумной сдержанностью, по возможности.
Паула подошла поближе к Соланж еще раз взглянуть на девочку. Потом остановилась, повернула голову, чтобы рассмотреть ребенка получше.
– Видели ли вы когда-нибудь такое крошечное создание, матушка? Подойдите поближе. Она любопытная, внимательно смотрит на предметы и на людей и почти никогда не плачет.
– Вы уже час держите ее на руках. Откуда же вы знаете, плачет ли она?
– Я нянчила детей в моей семье с тех пор, как мне исполнилось восемь, и рано научилась понимать их характеры, их нужды. Что их успокаивает, чего они боятся. Я думаю, для нее было бы хорошо видеть вас, привыкнуть к вам, разве нет? И вам к ней?
– Вы слышали, что я сказала остальным? Она ваш груз, живое воплощение христианского долга. Я ничего не буду делать для нее и не позволю поколебать основы всего, что я выстроила здесь.
– Это невозможно, матушка, это несправедливо, если тихие звуки ее младенчества и детства будут звучать только в этих комнатах. Однако здесь должна царить любовь. Ей требуется больше, чем внимание, которое я могу ей дать. Она должна слышать и другие голоса, видеть и другие лица, чувствовать поддержку и заботу других членов своей семьи. Мы теперь ее семья.
– Она не член общины, повторяю, не более, чем вы. Отказ ее собственной семьи от нее не является причиной, по которой мы взяли ее. Взять ее я была обязана – пожертвование богатое – но о моем желании меня никто не спросил.
– Попробуйте проникнуть взглядом через годы. Вы знаете, что когда ей исполнится пять лет, она поступит в пансион, будет возвращаться сюда только, как и другие ученицы, к обеду и для исполнения хозяйственных обязанностей.
– Вы знаете про ее хрупкое здоровье. Я не уверена, что она долго протянет.
– Не говорите так, матушка, вы не должны повторять это снова. Я буду заботиться о ней, и Жан-Батист сможет осматривать ее каждую неделю. Благословите девочку, помолитесь за нее, как если бы она вошла в свой дом.
– Нет. Я не приглашала выродка. Я только терплю ее. И вас. И если должна, то и беззубую корову, которая будет кормить ее. И это все, что я могу.
– Я попрошу аудиенции в курии, ставлю вас об этом в известность, уж извините, святая мать, образец снисхождения, и буду требовать перевести нас в другой монастырь.
Соланж отвернулась от Паулы, переложила спящую девочку с руки на плечо, невольно потревожила ее и тут же стала баюкать. А ведь ребенок понял Паулу, подумала она, и не издал ни звука.
– Вы не сделаете ничего подобного. А если сделаете, не будете услышаны.
– Матушка, возможно, вы забыли, что я только послушница. Законы, управляющие моей жизнью здесь, не такие, как для остальных. Я намерена следовать тем писаным правилам, которые относятся ко мне. Кроме моей приверженности Церкви, я свободна. Уверяю вас, если я посчитаю, что ваше обращение с ребенком неправомерно жестко, я не стану молчать. Ни я, ни Амандина не будем вашими пленницами.
– Амандина?
– Да. Я так назвала ее.
Единственный звук, который издала девочка, раздался откуда-то между шеей и плечом Соланж.
Не поднимая головы от ребенка, Соланж спросила:
– Почему вы так страшитесь ее, матушка? Что может заставить женщину, преданную Богу, Христову невесту, бояться ребенка?
– Почему вы ошибочно принимаете за страх простое отсутствие интереса?
– Это не может быть ничем, кроме страха, матушка. Страх под маской гнева. Вполне обычная вещь. Мой отец учил меня, как поступать при встрече на прогулке в лесу с вепрем или дикой собакой. Они рычат и скалят зубы, потому что боятся нас, говорил он. Разве неправда, что вы рычите и оскаливаете зубы из страха перед этим ребенком?
Соланж положила спящую Амандину в колыбель, долго ее укрывала, поглаживала, прикасаясь губами к головке ребенка, и все это время Паула наблюдала за ними. Руки ее тряслись, монахиня подтянула пояс, снова достала из рукава носовой платок и приложила его по привычке ко рту. Она готова к сражению. Соланж повернулась взглянуть на нее. Обе были готовы отразить нападение, обе знали, что сражение началось.
– С самого моего появления здесь три месяца назад я чувствовала вашу холодность, недоступность, горечь по отношению ко мне, но я была уверена, что как только ребенок появится здесь, как только вы увидите ее, возьмете на руки, вы смягчитесь. Я верила, что инстинктивные чувства, если не что-нибудь другое, возьмут верх. И если не это, то ваше призвание, ваши обеты, ваша христианская любовь превыше всего. Я никогда не видела никого, кто поступал бы как вы, святая мать. Я никогда не видела человека, который боится посмотреть в детское лицо.
– Вы ничего не знаете обо мне, чтобы делать такие выводы. Я ждала большей покорности.
– Возможно, поэтому растить девочку выбрали меня.
Глава 4
Разве недостаточно того, что я должна принять участие в незаконнорожденном ребенке или внучке кого бы то ни было, может быть, этой стареющей дамы полусвета или самого епископа, его высокопреосвященства Фабриса, который просил меня проявить терпимость и удовлетворить просьбу падшей заявительницы из милости? Почему я не могу быть посвящена в тайну происхождения девочки? Может быть, это его ребенок? Думаю, нет. Если бы он хотел, он устроил бы дальнейшую жизнь ребенка, это в его власти. И кто она? Кто этот ребенок? Выставленная напоказ дорогая одежда, церемония прибытия, демонстрация того, что ребенок находится на попечении епископа, все это похоже на насмешку. И кто эта девчонка с фермы? Возможно, кто-то из его близких. Его дочь. Его любовница. Я была его любовницей.
Как сильно вы ударили меня, дорогой Фабрис. Предложили сладостей. Или это я ударила вас? Месть сильного моему отцу, который сказал бы: «Не упаковывайте слишком много, достаточно платья для вечера и для прогулок по берегу». Нет уже коттеджа на берегу моря, только зловоние от сгоревшего молока в скорбных чертогах. Сестры кармелитки. «Я делаю это для тебя, моя дорогая».
Да, я была его дорогой, дорогой и любимой девочкой моего отца, простой, как грязь, покрывающая мои прекрасные волосы. Спутанная грива выглядела как сливки, как светло-белые волны, пойманные в камнях. Их было достаточно, моих волос, папа, чтобы обратить внимание Жан-Жака или любого другого, кто приезжал из Безье через лес и глазел на меня, пока пил бренди.
– Бонжур, мадемуазель Анник, бонжур.
Моих волос было бы достаточно. И для вас, папа, разве меня было недостаточно для вас?
В двенадцать сорок пять, не раньше, не позже, нужно собрать редис вместе с зелеными листьями с мокрой черной земли. Десять красавиц-редисок в подоле моего фартука. В кухне нужно стряхнуть грязь в раковину, промыть их под струей холодной воды, высушить на сине-белом полотенце, положить их, одну к другой, корни и стебли не обрезая, на черное керамическое блюдо в рыжих цветах. Три масла по краям, солонка с дырочками посередине. У мальчика пекаря из глубокой узкой корзины, пристроенной на велосипеде, я должна была выбрать батон, приложить его к губам, чтобы выяснить, хрустит ли он, и вынуть из ладошки два су.
– Бонжур.
– Анник, Анник, только для вас, – кричал мальчик, когда я уже убегала назад в дом.
Крутя педали велосипеда, он уезжал по дороге, не забыв угостить меня слегка подгоревшими круассанами, которые он доставал из кармана халата, прикрывавшего его тонкие, как у фазана, ноги.
– Спасибо, Эмиль. До завтра.
Для Эмиля моих волос тоже было достаточно. Но вернемся к нашему ланчу. Накрыв батон до середины бледно-голубой салфеткой, я клала его возле вашей вилки. За пять минут до того, как я звала вас, не более пяти, наливалось вино из бочонка. Полный стакан, холодный, чистый, пахнущий яблоками и тимьяном.
– Папа, папа, обед.
Я была простушкой, а вы были бедны, папа. Слишком бедны, чтобы купить мне мужа с приданым, но моих волос должно было быть достаточно.
– Мы повернули от моря, папа? Но я чувствую его дыхание. Оно ведь здесь, за этими холмами? Ах, я чувствую его дыхание и сейчас, папа.
Вы допили бокал рейнского вина, повернули автомобиль на маленькую дорожку. Даже не на дорожку. Прочь от моря.
– Но папа, куда вы уходите?
Ваша рука, как кнут. В первый раз вы подняли на меня руку.
– Я это делаю для тебя.
– Но зачем им мои волосы, папа? Скажите им, чтобы они не трогали мои волосы.
Непристойный смех, когда мы должны были уже спать.
– Тебе хочется присоединиться к нам, Анник?
Подавляя смешки, послушницы одели на меня юбку, тяжелый, пахнущий потом плащ, опустили капюшон на лицо.
– Ты не долгое время будешь новичком, Анник.
Старинный звонок дергается за веревку, мое сердце трепещет и замирает, голова наклонена, руки сложены, я чинно следую за старым монахом через атласную темноту к вашей личной часовне, Фабрис. Сколько лет нам было тогда, ваше преосвященство? Вам, молодой, блестящий священник, и мне, месяц или два назад одевшей покрывало? Насколько мы были грешны, а может быть, это жестокость, приправленная жаждой?
– Я делаю это для вас, мой дорогой папа.
Мадонна, молись за нас.
И когда я уже не могла больше переносить мое собственное бесстыдство и хотела уйти, вы уговорили меня. Вы и потом игуменья.
– У всех нас есть наши собственные несчастья, дорогая. Обман и предательство – наши кровные качества, унаследованные от языческих предков. Ты должна понять выходки богов. А что касается нас, невест Иисуса, то он успокаивает наш дух, но оставляет в тоске нашу плоть. Кроме того, давление девственности отвлекает. Лучше отказаться от нее. А лучше всего отдать ее Фабрису. Он будет когда-нибудь епископом. Помяни мое слово.
Презирая себя, я приняла обет. В течение всех этих лет я отвечала на каждое ваше требование. На каждый зов его высокопреосвященства летела к постаревшему, желчному бонвивану. Моему Дедалу. Кстати, уместно ли иметь нос картошкой того же самого фиолетового оттенка, что и ваша одежда, монсеньор? Как много вы сделали. Школы, общины – последствия моей работы к вящей вашей славе. А моя награда? Пятилетняя миссия по спасению нездорового незаконнорожденного младенца.
– Ах, Филипп, ты напугал меня. Я чуть не оступилась. Что ты здесь делаешь? – Паула искала свой носовой платок.
Филипп, отец Филипп – старый священник, который ранее открыл дверь графине и ее свите.
– Я пришел поговорить с тобой. Я стоял здесь некоторое время, но ты была так далеко отсюда, думала о чем-то далеком, я стоял тихо, ждал… – объяснил Филипп.
Паула кивнула, говоря:
– Все на свете нуждается в регулировке. Я подумала о переменах.
– Эти перемены, мне кажется, к лучшему. Может быть, для тебя и для меня больше, чем для остальных. Пойдем ко мне в сад, Паула.
– Я не могу сейчас. Я должна позвонить епископу и…
– Он подождет. Я не знаю, почему это так тревожит тебя. Ты бледна как смерть. Такой ты была, когда новые претендентки в послушницы ловили взгляд Фабриса. Правда? Или ты завидуешь ребенку?
– Сначала испугалась, теперь завидую. И в чем же еще меня обвинят сегодня? Филипп, ты старый дурак. Я думала только о том, что девочка и ее няня не должны жить в нашей резиденции, не место им здесь.
– Завидуешь. И если я старый дурак, то ты тоже дура, только тремя годами моложе. Сколько лет из наших жизней мы провели вместе? Ты, Фабрис и я – последние на этом свете.
– Да, только он преуспел много лучше, чем ты и я, Филипп. Он процветает, в то время как мы с трепетом выполняем его распоряжения.
– Это в порядке вещей, это вполне мог быть и я, если бы меня выдвинули на этот пост и продвигали. Я тоже был выпускником академии, в конце концов ему сослужила службу его приветливость. Но какое теперь это имеет значение, когда мы так близки к порогу? Я благодарен ему за то, что он прислал меня сюда к тебе. И я скажу, Паула, он сделал доброе дело нам обоим. Он вообще всегда о нас заботился. И чего ты не хочешь видеть сейчас, это то, зачем он принял предложение взять на себя заботу об этом ребенке… Ты не видишь, что он дает нам последний шанс.
– Какой шанс?
– Смириться, я подчеркиваю это слово. Стать обычными. Я думаю, наше призвание…
– Возможно, твое призвание. Я еще слышу зов, Филипп.
– Именно это я и хотел сказать. Даже при наличии призвания жизнь в безбрачии – не типичная, не обыкновенная, но мы-то типичные и обыкновенные. Многие из нас, более всего бенедиктинцы и иезуиты, на самом деле девственники. Неважно, что думает толпа, но жизнь в безбрачии чревата страшными отклонениями, мы ведем монашеское сражение с плотью, но скорее – с сердцем. Я думаю, для нас больше значит любовь к кому-то другому, чем к богу. Отрицать это, отрицать годами тоску по личной любви, отказаться от единственного предназначения, дающего жизнь, нам, людям религии, дано только путем душевных мук. В лучшем случае, мы неуклюже стареем, отталкивая природу до последнего. Называя это благочестием.
– У меня была любовь, и она принесла мне тоску, Филипп.
– Чего ты ожидала? Что он покинет старую матушку Церковь и станет жить с тобой? Он никогда не имел права выбора, Паула. Ты и все остальные до тебя и после тебя были лишь передышкой. Глотком воздуха перед новым погружением. Его нервы щекотал отрыв от довлеющей над ним власти. Ты и другие были символом протеста, какой он только смог себе позволить.
– Чего ты хочешь достичь этим разговором, Филипп? Ты хочешь встревожить меня? Я не нахожу объяснения.
– Я пытаюсь уговорить тебя пересмотреть свое враждебное отношение. Особенно по отношению к пятимесячной девочке. Паула, посмотри на меня. Видишь ли ты, как я опустошен? Я – твое зеркало. Как ты можешь отказаться от последней возможности, это безусловно последняя возможность, жить как все другие люди? Пока мы еще в силах, давай представим себе, что мы бабушка и дедушка этого ребенка. Бог знает, как мы поднаторели в искусстве обмана. Ты даже больше, чем я, Паула. Кто знает, может этот обман станет для нас правдой. Чудом на пути надвигающейся зимы? Вдруг мы опять начнем чувствовать. Ничто для нас сильно не изменится. Ты сможешь исполнять свои обычные обязанности, и я тоже, но, может быть, мы сможем с Божьей помощью полюбить ее.
Глава 5
На более высокой скорости, чем на пути к монастырю Сент-Илер, паккард спустился на другую улицу, обсаженную липами, а не платанами, его пассажиры – графиня Чарторыйская, няня и мужчина с тонкими белыми усами – составляли теперь чуть менее сплоченную группу, чем час назад. Прежде чем доставили к цели предмет своей заботы. Прежде чем перевезли младенца, как товар. Ребенка изгнали. Его взгляд – ясный темно-синий взгляд ягненка, согласного на жертву, сила этого взгляда до сих пор жила в пышном сером салоне. Руки няни неловко лежали у нее на коленях, или так казалось графине, которая смотрела теперь на мужчину с тонкими белыми усами, Туссена, который подергивал губами, надвинув хомбург глубоко на лоб и закрыв глаза – видимо, размышлял.
Какими отвратительными сообщниками мы стали теперь, думала графиня. И откуда эта боль, эта тяжесть в моих собственных руках? Это похоже на фантомную боль в ампутированном органе. Ее ли я чувствую? Старый неопрятный священник никогда не вознесет за меня молитву, еще менее вероятно, что это сделает потная сука монахиня. О господи, что я наделала? Преодолевая боль, графиня скрестила руки под грудью, продев их в широкие меховые рукава своего жакета. Она плотно зажмурила глаза, и постепенно боль и взгляд ягненка оставили ее.
Это сделано. Его изгнали. Как далеко до вокзала? Отдельное купе. Пожалуйста, не опоздайте к поезду. Я должна побыть одна. Я должна подумать. Эта партия сыграна, и пришла пора подумать об Анжелике. Как представить ей события? Я должна быть осторожной, взвесить и обдумать каждое слово, прежде чем говорить, согласовать все обстоятельства в каждой части лжи. Я осторожно подойду к этому. Я обниму ее и расскажу все, не откладывая. Ребенок умер.
Она скончалась от порока сердца, как и предупреждал доктор при родах, прежде, чем можно было применить хирургическое вмешательство. Предупреждал, но Анжелика не должна ничего знать относительно того, что врачи предложили операцию, обеспечивающую шансы на выздоровление. Я должна подчеркнуть, что доктора из Швейцарии оставляли мало надежды на ее спасение, заверяя меня, что если она и перенесет операцию, то в лучшем случае всегда будет очень слабенькой. Я опишу симптомы, при которых ребенок испытывал бы страдания. Я объясню: все считали, что ранняя смерть была «к лучшему». Когда она спросит, если она спросит, почему я не позаботилась о том, чтобы привезти ее в Польшу, чтобы похоронить в семейном мавзолее, я объясню, что рождение и смерть ребенка должны остаться нашим личным делом. Она поймет это. Я предложу ей поехать в Швейцарию на несколько дней, чтобы навестить место, где похоронен ребенок. Я расскажу ей, как это было, повторю слова священника: «Умершие дети – это ангелы, призванные к Богу, они ничем не согрешили на земле». Да, я скажу ей, что так говорил священник. Я где-то это читала и подумала тогда: какая пошлость. Потом постараюсь убедить, что визит на могилку не имеет смысла. Она будет тогда жить своей жизнью. Она воспримет это – ребенок, мужчина – как бы со стороны. Я уверена. Но свидетельство о смерти, куда я его положила? Возможно, оно у Туссена. Я должна напомнить ему, чтобы он дал его мне в поезде. Ах, как я устала. Обо всем ли я подумала? Дорогой старый Йозеф, как бы я желала, чтобы ты был здесь и ответил на мои вопросы. Помог мне закончить работу.
Йозеф, мой духовник, мой друг, пусть Бог упокоит твою прекрасную душу. Странно, что ты умер – как давно это было? – через несколько дней после нашей последней встречи. Да, твое большое сердце хранило больше чем один мой секрет, и ты помогал мне принять решение, куда поместить ребенка, и это было твое последнее мне благодеяние. Видишь ли ты меня, Йозеф? Слышишь ли ты меня? Наверняка епископ Матери Церкви может видеть и слышать оттуда, с небес. Правильно ли я поступила, Йозеф?
Она будет в безопасности. Дважды в безопасности. Твоя Соланж. Старая аббатиса и ее белокрылый чепец. И если кто-то из них потерпит неудачу, всегда можно обратиться к твоему другу епископу Фабрису. Да, его высокопреосвященству Фабрису. Да, это сделано. Да, она изгнана. Я передала это прелестное дитя в заботливые руки. Жадные руки. О Йозеф, можешь ли ты слышать меня? В тот последний раз, при нашей последней встрече, я довела тебя до белого каления, почти разозлила. Как это было, что ты все-таки заговорил?
– Пусть она останется с нами. Со мной и с урсулинками. Я окрещу ее. Они будут кормить ее, пеленать и обеспечат ей жизнь. Я благословлю ее душу, и если Бог предъявит права на нее, я помогу ей умереть в святом покое. Ох, Валенская, это будет лучшее решение. Поверьте, все ваши и Туссена махинации, чтобы найти самое «правильное» решение для ребенка, они ни к чему не приведут, потому что Бог этого не допустит. Моя дорогая Валенская, ты готова на убийство, а я рекомендую спасение. Этот девочка нежеланна и смертельно больна. На что ей надеяться? Дай ей быть. Дай ей уйти.
– Я не могу. Я не хочу. Правда, что она нежеланна, что я ее не хотела. Правда также, что я люблю ее. Я действительно люблю ее, Йозеф. Я желаю дать ей шанс. Любой шанс. Пусть о ней заботятся так, как я бы заботилась о ней. Насколько это возможно.
– Ты ее не хотела, но ты добиваешься защищенной жизни для нее, хорошей кормилицы, и ты любишь ее. Насколько это возможно. Ах, Валенская, какой странный оборот приобретает твоя любовь. В прошлом ты немало страдала, и боюсь, что сейчас ты, со всем своим апломбом, сотворишь себе новое горе. Возможно, самое серьезное в твоей жизни.
– Какие страдания можно сравнить с теми, что Антоний оставил мне?
– Отказ от твоего ребенка.
– Вы должны помнить, что она не мой ребенок.
– Тем тяжелее твой путь. Ты забираешь ребенка Анжелики.
– И этим поступком я спасаю Анжелику. Забирая ребенка, стирая память о нем, я спасаю жизнь Анжелики от деградации и позора. Я не хочу, чтобы весь Краков говорил: «Она действительно дочь своего отца». Йозеф, я не допущу, чтобы она стала жертвой из-за своего незаконнорожденного ребенка, рожденного от брата шлюхи ее отца. Этого я не допущу. Дочь убийцы и самоубийцы, Анжелика жила с двухлетнего возраста с наследием своего благородного отца, снося в детском возрасте ожесточенный шепот и насмешки от каждого вне нашей семьи. А когда она подросла, и от некоторых членов нашей семьи. Есть причины для осуждения Анжелики и ее ребенка. Я хочу это прекратить. Прекратить, прекратить, Йозеф. Осторожно переместить ребенка, чтобы он был безвозвратно потерян для нас.
Как долго мы оба сидели молча? Шарканье обуви нунция вперед и назад по коридору прерывалось на короткие паузы, когда его хищное ухо было прижато к двери.
– Есть семья во Франции. В Шампани. Достаточно ли это далеко, моя дорогая? Достаточно далеко от Кракова? Это семья мужа моей сестры, Янки.
– Расскажи мне о них, Йозеф.
– Она поздно вышла замуж, Янка, все искала свою любовь. Лоран Бессон. Они встретились в Праге, где она жила, голодала, мерзла, зато могла учиться игре на скрипке, изучать музыку, жить и гулять в единственном месте на земле, где, как она говорила, ей хотелось жить. Да, в Праге. Лоран приехал из Шампани как паломник. Только на несколько дней. Они встретились на Карловом мосту. Конечно, это должен был быть мост. И конечно, дело было зимой. Спускались сумерки, и одетая в бобровую мамину шубу Янка играла Прокофьева. Люди шли домой с работы мимо нее и клали пихтовые ветки или маленькие вязанки хвороста к ее ногам, чтобы Янка могла разжечь огонь этим вечером. Оставляли маленькие ватрушки с вишней или печенье с маком, черный хлеб или четвертушку белокочанной капусты, словом, то, что они несли с собой домой на ужин. Некоторые бросали монеты в открытый бархатный футляр ее скрипки. Лоран стоял в толпе. Он снял золотой крест с шеи, положил его в футляр. Когда она закончила играть все, что она знала из Прокофьева и Стравинского, она поклонилась, и слушатели зааплодировали. Лоран подошел и поцеловал ей руку. Я Лоран Бессон из Шампани. Я влюбился в вас. Выходите за меня замуж.
Приглядевшись к Лорану, Янка решила не заканчивать представление. Она уложила скрипку в футляр, повесила его на грудь, взяла Лорана под руку и сказала: «Сначала пригласите меня на ужин».
– Вскоре после совместного ужина они поженились. Жили на ферме в Шампани, и кто знает, сколько там еще было народу тогда. У них родилось пятеро дочерей. Все эти годы Янка и я писали друг другу, ее письма помогали мне почувствовать, что мне есть место в ее французской жизни. Конечно, я приезжал в Авизе, в их маленький городок, когда мог, не чаще, чем раз в год или два. И когда я впервые заболел, Янка с трехмесячной дочерью в красной ковровой сумке, висящей у нее на груди так же, как когда-то скрипка, вернулась в Краков, поселилась с дочерью в комнате горничной пресвитера и заботилась обо мне день и ночь. И когда ко мне вернулись силы, она настояла, чтобы я вернулся во Францию вместе с ней и маленькой Магдой и провел там лето, чтобы окончательно выздороветь. Она легко меня убедила, и я провел там около года. Я крестил Магду, провел одну или две брачные церемонии, как помню. Изучал выращивание винограда и изготовление вина и хорошо себя чувствовал после тяжелой работы, ел и спал как ребенок. Конечно, я не раз думал о том, не сделать ли ее дом моим постоянным убежищем.
Это хорошая история, как ты думаешь, Валенская? Даже при отсутствии каких-либо препятствий для ее героев. Немного интриг, никакого наследства, над которым кто-нибудь из них мог бы скрежетать зубами. Ни одного убийства, сколько я могу припомнить. И если там и были преступления, я ничего не знал о них, за исключением браконьерской охоты на диких кроликов или предъявления прав на спорные участки каштановой рощи. Или я верил в это тогда. Во всяком случае, моя дорогая, я рассказываю тебе все это из-за дочки Магды, Соланж. Ей только что исполнилось семнадцать, она приехала домой несколько недель назад после года пребывания в послушницах. Говорила, что не хочет быть монахиней, лучше будет жить и работать на ферме вместе со своей семьей. Янка теперь старшая, глава клана, и она с любовью примет и будет заботиться о твоем ребенке. С помощью своей дочери и внучки. С помощью Магды и Соланж. Они примут ее к себе.
– Что ты скажешь им? Примут ли они ее, не зная о ней ничего?
– Им нужно только сказать, что она сирота…
– Я забыла о том, что есть такие люди, Йозеф, или никогда о них не знала?
Валенская достала из изящного серебряного портсигара сигарету и закурила, по-мужски держа ее между большим и указательным пальцем.
– Я хочу большего, Йозеф. Я хочу, чтобы ей дали образование.
– Детей прекрасно обучают в сельских школах во Франции, моя дорогая…
– Нет, нет, я не хочу домашнего или государственного образования. Монастырское обучение идет по углубленной программе, у католической школы-интерната есть преимущества. Так учились и я, и Анжелика.
– Валенская, Валенская, послушай себя саму. Ты можешь выбирать ткань для ее платья, устанавливать, где пришивать оборочки, требовать определенной прически. Она больна, смертельно больна, а ты намерена читать ей Вергилия. Ты должна поддержать ее жизнь, чтобы она не сдавалась. Но сделать и то и другое ты не сможешь. Даже ты не смогла бы этого.
– Молчи, Йозеф. Почему ты всегда разговариваешь как священник? Как хороший священник. Что насчет Монпелье?








