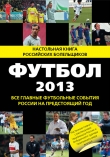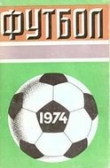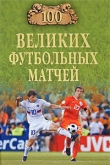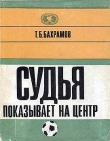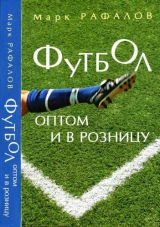
Текст книги "Футбол оптом и в розницу"
Автор книги: Марк Рафалов
Жанры:
Спорт
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц)
Сейчас, спустя много лет после описываемых событий, когда на Люблинской улице в Москве все же выросло новое красивое здание ВНИИПТмаша, я с грустью и сожалением вспоминаю, каким авторитетным центром науки был институт тогда, и думаю, во что он превратился сейчас.
Конечно, во всем, что произошло с советской наукой вообще и с ВНИИПТмашем в частности, виноват далеко не один Комашенко. И тем не менее я не смею не отметить, что, если бы Август Хрисанфович использовал свои несомненные способности для пользы дела, к которому он был приставлен, он мог бы сделать для отрасли подъемно-транспортного машиностроения значительно больше.
Легкомысленно и без заметной пользы для дела расплескал Комашенко свои многообещающие задатки. Так, вполне осознанно он стал активным проводником и проповедником застоя. И вряд ли может служить ему оправданием, что таких руководителей, как наш директор, в Советском Союзе выращивалось великое множество.
Закат эпохи Комашенко, просидевшего в директорском кресле без малого два десятка лет, произошел довольно неожиданно, Наше министерство претерпело ряд существенных изменений: оно стало именоваться Министерством тяжелого и транспортного машиностроения и возглавил его новый, один из самых титулованных министров, дважды Герой Социалистического Труда, член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, лауреат Государственной и Ленинской премий Сергей Александрович Афанасьев. До перехода в наше ведомство он возглавлял Министерство общего машиностроения, занимавшееся созданием важнейшей оборонной продукции.
Сергей Александрович, несмотря на свою внешнюю грубость и несдержанность, тонко умел разбираться в людях. Он быстро рассмотрел в нашем директоре присущие тогда многим руководителям карьеристские замашки, умение гнуть спину перед начальством, патологическую боязнь потерять свое тепленькое кресло, неумение и нежелание биться за разработку и внедрение новой техники. Едва ли не на каждой встрече с министром Комашенко получал сильнейшие нахлобучки (порой, правда, не совсем заслуженные, а порой и за дело). Всем стало ясно, что закат карьеры Августа Хрисанфовича неизбежен. Так оно и произошло: в 1985 году он был освобожден от должности директора.
Спустя несколько лет, когда наша страна отмечала 50-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, мы неожиданно повстречались с Сергеем Александровичем Афанасьевым за праздничным столом во Дворце культуры Московского авиационного института. Здороваясь, даже обнялись и дружески похлопали друг друга по плечу. Вспоминая ВНИИПТмаш, Афанасьев, улыбаясь, тихо сказал мне: «А твой директор дюже труслив был».
Ученый секретарь
Не смею избежать соблазна и хотя бы коротко не упомянуть о своей работе в качестве ученого секретаря правительственной комиссии, которой руководил член-корреспондент АН СССР видный ученый Александр Онисимович Спиваковский.
Комиссия, в состав которой входили крупнейшие руководители отрасли подъемно-транспортного машиностроения: директора заводов, институтов, конструкторских бюро, доктора технических наук, руководящие работники ряда машиностроительных министерств, – призвана была готовить предложения и рекомендации Совету министров СССР для резкого поднятия темпов развития средств механизации подъемно-транспортных работ.
Наша работа постоянно контролировалась аппаратом Госкомитета Совмина по науке и технике, который возглавлял тогда академик Владимир Алексеевич Кириллин, Совмещавший свой высокий пост с должностью заместителя председателя Совета министров СССР.
Дважды в ходе работы комиссии мне вместе с А. Спиваковским доводилось бывать на приеме у Кириллина и информировать его о возникавших у нас проблемах. Впоследствии я неоднократно с восхищением вспоминал о цепкости его ума, быстроте мышления и умении принимать оптимальные решения.
Работа комиссии завершилась принятием соответствующего постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР. В нем было много очень нужных для развития нашей отрасли решений, заметно продвигавших дело. Но многое, увы, оставалось лишь на бумаге.
Секс в КПСС
Я уже упоминал о моих участившихся в 60-е годы зарубежных вояжах. По строго заведенным тогда правилам все выезжавшие за кордон люди обязаны были пройти чистилище в выездных комиссиях районных комитетов КПСС.
Году в 1968-м я был направлен Спорткомитетом в Вену. Для оформления выездных документов мы с зам. секретаря парторганизации нашего института Г.М. Николаевским отправились в Свердловский РК КПСС, располагавшийся на улице Чехова.
Во всех выездных комиссиях поддерживался тогда определенный порядок слушания дел. Кто-либо из членов комиссии брал выездные дела для тщательного изучения и, спустя несколько дней, докладывал свое мнение о выезжающем. Так было и на этот раз. Какой-то бойкий старичок, водрузив на нос старинное пенсне в золотой оправе, начал свой рассказ о достоинствах Рафалова. Все, казалось бы, шло гладко. Но в конце своего повествования старичок сделал паузу и печально, почти шепотом произнес: «Но я обязан отметить, что Рафалов до сих пор... не женат!» Все престарелые члены комиссии мгновенно встрепенулись и стали разглядывать меня с любопытством. А некоторые, возможно, и с завистью. «Не женат? До сих пор! А как же он обходится?» – этот вопрос, обращенный к Николаевскому, выпалил другой старичок. Весельчак и острослов Георгий Матвеевич никогда за словом в карман не лез. Он встал и быстро отпарировал: «В партком ВНИИПТмаша сведений о каких-либо сексуальных отклонениях Рафалова не поступало. Это дает нам основание полагать, что он ведет вполне положительный образ жизни!»
Ведущая совещание комиссии пожилая и довольно симпатичная женщина, едва сдерживая ухмылку, громко сказала: «Товарищи! Мы, кажется, отклонились от темы обсуждения. Рафалов – судья Всесоюзной категории, командируется в Вену для выполнения служебных обязанностей. Предлагаю проголосовать за одобрение его кандидатуры!» Старички дружно подняли руки.
Нечто подобное происходило на выездной комиссии ЦК КПСС в 1970 году, когда я начал оформлять выездные документы на Мексиканский чемпионат мира по футболу. На комиссию в ЦК нас не приглашали. Но, как позже мне рассказывали, моя национальность и семейное положение вызвали некоторое замешательство.
Оно, строго говоря, имело под собой почву: в США то и дело организовывались массовые шествия и демонстрации протеста около посольства СССР в связи с нежеланием руководства нашей страны предоставить советским евреям право свободного выезда в Израиль. Прямого авиасообщения с Мексикой тогда еще не было, и нам предстояло лететь туда через Нью-Йорк. Помню, что для получения американской визы мы должны были сдать более... сорока фотографий. В наших анкетах отмечались особые приметы, рост, цвет глаз и прочее. Естественно, что выпускать в США неженатого сорокашестилетнего еврея было довольно рискованно. Этим и была вызвана заминка на заседании выездной комиссии на Старой площади. Вела заседание некто Тихомирова. Она тоже, пролистав мое дело и подчеркнув, что на чемпионат я направляюсь в качестве спецкора журнала «Спортивные игры», предложила дать «добро» на мою командировку. Вскоре в журнале появилась моя первая публикация из Мехико: «Фемида в горах Мексики».
Я уже отмечал, что в ряде случаев при рассмотрении каких-либо дел, связанных с моей персоной, мне безоговорочное доверие оказывали женщины. Так, в частности, было в 1987 году, когда в Ленинском РК КПСС рассматривались мои документы, связанные с установлением мне персональной пенсии. Когда на комиссии произошла какая-то заминка, в мою поддержку тут же высказались две седые коммунистки. Это решило дело. Вскоре я стал персональным пенсионером.
Воспользовавшись этой благоприятной ситуацией, я целиком посвятил себя журналистской и писательской деятельности. Только за последние восемь лет мне удалось издать около двадцать книг, опубликовать в газетах и журналах более 600 статей, очерков, обозрений. А ведь в райкомах подвергали сомнению мою плодовитость!
Как я стал декабристом
Здесь я вынужден просить читателей вновь вернуться более чем на 60 лет назад, чтобы ознакомиться с нашими едва ли не традиционными мытарствами, связанными с постоянными нехватками денег. Причем, упоминая об этих явлениях нашей жизни, я имею в виду не только себя, но и подавляющее большинство трудящихся нашей страны.
Получить весьма почетный статус «декабриста» мне помог лично Иосиф Виссарионович Сталин. Чтобы не шокировать читателя таким широковещательным заявлением, сразу же оговорюсь, что «декабристом» я оказался отнюдь не в одиночестве, а совместно с многими миллионами советских людей. Речь идет о знаменитой денежной реформе, осуществленной в декабре 1947 года. Наш народ давно уже приучился на многие экстравагантные выходки партии и правительства реагировать веселым юмором. Поэтому все жертвы той злосчастной реформы получили звучное прозвище «декабрист»!
Сейчас я уже не могу с большой точностью воспроизвести все пункты того Постановления ЦК ВКП(б) и Совета министров СССР. Зато очень хорошо помню, что если ваши денежки не лежали в сберегательной кассе, а были у вас на руках, то они подлежали обмену по курсу десять к одному. Особенно больно это решение ударило по демобилизующимся из армии военнослужащим.
В один из декабрьских вечеров, когда реформа уже с подобающим ей размахом вершила свое черное дело, уничтожая последние гроши, нажитые трудящимися, я с приятелем отправился в Сандуновские бани. Зайдя в парную, я увидел на верхней полке бывшего начальника политотдела нашей танковой дивизии полковника Супруна. Он сидел, низко опустив голову, а из его глаз катились слезы. Увидев меня, полковник грустно улыбнулся и поведал свою печальную историю.
Как тогда было принято, все военнослужащие при демобилизации получали вполне приличные деньги. Особенно это положение касалось старших офицеров с большой выслугой лет. Получил свои «отпускные и подъемные» и наш политработник. Своего жилья у него из-за войны не осталось, и он мечтал купить или построить скромный домишко в Подмосковье. Увы... мечтам Супруна осуществиться было не суждено. На одну десятую часть полученных при демобилизации денег построить ничего было нельзя. Поэтому и плакал мой боевой командир. Не из-за денег. От обиды.
В схожей ситуации оказался и я. И хотя денег у меня, не в пример полковнику, было во много раз меньше, я тоже мечтал. Хотел купить какой-либо отрез ткани и пошить обычный гражданский костюм. Ведь кроме шинели, гимнастерки и сапог, у меня ничего не было. Еще, наверное, больше года я вынужден был ходить на работу в военной форме, правда, без погон. Утешало лишь то, что подобные мне «декабристы» встречались на каждом шагу.
А костюм я все же пошил, купив отрез на очень популярной тогда толкучке в Перове.
Спустя несколько лет, когда генералиссимуса уже не было в живых, все советские люди испытали очередное потрясение от руководящей и направляющей силы, именовавшей себя тогда «умом, честью и совестью нашей эпохи».
Генсек Никита Хрущев отправился тогда, кажется, в город Горький. На городском собрании слово взял рабочий и, обращаясь к Хрущеву, попросил отменить все тиражи выигрышей по ранее распространяемым облигациям Государственных займов.
А их, тех самых облигаций, у каждого из нас было несметное количество. Я, например, как работник центрального аппарата Минтяжмаша, да еще молодой коммунист, офицер запаса, обязан был «добровольно» подписываться ежегодно на полтора оклада. А это при том уровне жизни была существенная сумма. Помню, с каким «энтузиазмом и трудовым подъемом» встретили это нововведение трудящиеся всей страны. И никого не могло успокоить, что наряду с отменой тиражей выигрышей партия и правительство обещали отменить практиковавшиеся ранее ежегодные выпуски новых Госзаймов.
В народе тогда опять появился анекдот: по ночному кладбищу ходит сторож, останавливается почти у каждой могилы и шепчет: «Ваша облигация выиграла!»
Минуло несколько десятилетий, и очень умный, интеллигентный Егор Тимурович Гайдар шокировал население очередной «шуткой». Проведя так называемую шоковую терапию, он, торопясь внедрить рыночные отношения, отпустил цены почти на все товары. Началась безумная инфляция, лишившая всех простых людей накопленных средств.
Я к тому времени уже приближался к пенсионному возрасту и располагал существенным счетом в Сбербанке. Все деньги почти в одночасье «сгорели». Когда бывшего завлаба, возглавлявшего по недоразумению Совет министров, спросили, как же он позволил себе так бездумно разорить миллионы людей, розовощекий Егор Тимурович ответил: «А они все равно на свои накопления ничего купить не могли!»
Но до Гайдара над нами «пошутил» министр финансов СССР Павлов. Вечером какого-то дня все СМИ почти радостно объявили, что крупные денежные купюры (достоинством 50 и 100 рублей) подлежат немедленному обмену. И чуть ли не с завтрашнего дня они утрачивают свою платежеспособность.
Тогда никто не подсчитал, сколько инфарктов, инсультов, сердечных приступов произошло в стране. А мудрый начфин СССР Павлов уже, видимо, начинал замахиваться на государственный переворот, получивший наименование ГКЧП.
Павлова, правда, уже нет в живых. Но у нас свято место пусто не бывает. Процесс продолжался.
Вскоре объявился еще один фокусник-эквилибрист – министр здравоохранения и социального развития Зурабов. От его номера под названием «монетизация» трясет всю страну. Ругают его все.
«А Васька слушает, да ест».
Кто у вас там следующий, ребята?
Столешников и его округа
В одной из первых глав я уже рассказывал о нашем вынужденном переезде из Петровского переулка в большой дом, располагавшийся на углу Петровки и Столешникова переулка. Упоминал я и о том, что в силу выпавших на его долю обстоятельств и благодаря московским острякам один из самых примечательных московских переулков получил прозвище Спекулешников. На то были веские причины. Четыре года, пришедшиеся на самую страшную в истории человечества войну, унесшую почти три десятка миллионов жизней, не могли не отразиться на состоянии народного хозяйства, его промышленности, производства товаров народного потребления. Тотальный дефицит всего и вся привел к разгулу спекуляции, воровству, хищениям государственного имущества. Не знаю, почему так произошло, но Столешников переулок стал средоточием всех этих явлений. Казалось, что из-под полы здесь можно добыть самое дефицитное барахло.
Уже с самого утра в нашем Спекулешникове переулке туда-сюда шныряли молодые люди с подозрительными физиономиями. Они останавливались, повстречав кого-либо из своих подельников, обменивались друг с другом шепотом какой-то совершенно секретной информацией и продолжали дефилировать между Петровкой и Большой Дмитровкой. Торговцы с пользовавшимися большим спросом отрезами на пальто и костюмы вместе с потенциальными покупателями то и дело проскальзывали в наш первый от угла дома подъезд. Он располагался со стороны Петровки, между молочным магазином и небольшим магазинчиком технической книги. Посещение нашего парадного являлось непременным атрибутом купли-продажи отрезов. Какие-то сметливые сбытчики дефицита умудрились сделать, по-видимому, напильником глубокие насечки на мраморном подоконнике между первым и вторым этажами нашего парадного. Две засечки располагались точно на расстоянии одного метра друг от друга. Там совершалось таинство: продавец и покупатель тщательно измеряли длину отрезов. Должен заметить, что метровая точность между засечками на мраморе не избавляла доверчивых простаков от манипуляций ловких рук жуликоватых продавцов. В этом мы довольно часто убеждались, когда входили в свой подъезд и встречали обманутых женщин, плакавших около нашего мраморного «шаблона».
Я не вправе завершить свой рассказ о послевоенном быте Столешникова переулка, не упомянув о людях, которые частенько навещали этот своеобразный уголок Москвы. Прежде всего обязан напомнить, что в этом переулке в течение многих лет жил и работал известнейший автор многих работ по истории столицы, и в частности популярнейшей книги «Москва и москвичи», Владимир Александрович Гиляровский.
Но я сейчас хочу рассказать о молодых ребятах, моих ровесниках, очень любивших футбол. Центром притяжения всех поклонников великой игры был хорошо известный футбольной Москве Ушанга. Он, как и подавляющее большинство столичных чистильщиков обуви, был ассирийцем по национальности. Ушангина палаточка располагалась в самом центре Столешникова переулка, напротив известного магазина «Торты». Вряд ли можно было допустить, что кто-либо из самых великих мастеров футбола мог пройти мимо и не пожать руку Ушанге. Он знал всех и знал о футболе все! Я сам неоднократно замечал, как мой замечательный друг беседовал с Всеволодом Бобровым, Владимиром Деминым, Валентином Николаевым, Вячеславом Соловьевым, Сергеем Сальниковым, Никитой Симоняном...
Ассирийцы были монополистами не только как чистильщики обуви. Многие из них хорошо играли в футбол, как правило, в клубных командах столичного «Спартака». А три айсора (так именовали себя ассирийцы) – Николай Хачатуров, Николай Шумунов и Давид Мирза – стали известными арбитрами и даже удостоились Всесоюзной категории. «По числу судей столь высокого звания, – с гордостью говорили они, – наша диаспора занимает первое место в Москве на душу населения».
Наряду с самыми продвинутыми мастерами футбола рядом с Ушангой частенько можно было обнаружить Сашу Щедринского, которого в шутку звали ординарцем одного из самых техничных отечественных форвардов 40—50-х годов Сергея Сальникова. Свое прозвище Саша получил за то, что с гордостью не только сопровождал великого спартаковца, ставшего в 1950—1954 годах динамовцем, на игру и после игры, но лично нес чемоданчик с формой своего кумира и друга. Еще одной весьма колоритной фигурой среди посетителей переулка был Володя Челси. Фамилию его я не помню, а прозвище Челси он заработал после триумфальной поездки на Британские острова московского «Динамо». Игра с «Челси», видимо, произвела на нашего героя неизгладимое впечатление, и он мог без конца о ней рассказывать, легко и непринужденно манипулируя фамилиями преуспевших осенью 1945 года динамовцев: Константина Бескова, Леонида Соловьева, Василия Карцева, Михаила Семичастного и их тренера Михаила Иосифовича Якушина.
Не могу ручаться за точность своего пересказа, но кто-то из частых посетителей Столешникова переулка спустя десятилетия поведал мне страшную тайну, которая к моменту ее пересказа уже тайной быть перестала. А суть ее была в том, что почти все мои знакомые, регулярно приходившие в Столешников, имели от органов госбезопасности разрешение на любые спекулятивные сделки. На любые! Кроме операций с валютой и золотом! Их гэбэшники обязывали давать информацию о делягах, торговавших золотом и валютой.
Еще об одном воспоминании, касающемся нашего проживания в доме № 15/13 по улице Петровке и Столешникову переулку, хочу вспомнить.
Когда через четыре месяца после начала войны вражеские полчища оказались у стен Москвы, на дверях одной из квартир, расположенной на третьем этаже в нашем подъезде, появилось такое объявление консульства Великобритании: «Настоящая квартира и все хранящееся в ней имущество являются собственностью Великобритании и охраняются законами его Величества Короля Британии». Там жил до войны консул!
Столешников переулок славился своими неподражаемыми мастерами, шившими из серого букле самые модные кепки. Их носили очень фасонисто, слегка свернув набекрень, почти все мастера «Спартака», «Динамо», ЦСКА. Признаюсь, что, стремясь не отставать от моды, тоже с гордостью носил изделие мастеров пошивки головных уборов. Они ютились в малюсеньких каморочках, почти в каждом подъезде нашего известного переулка.
Люди старшего поколения хорошо знали, что столичная богема отдавала предпочтение модным в те годы ресторанам ВТО (Всероссийского театрального общества) и ЦДРИ (Центрального дома работников искусств). Но мастера футбола, избегая назойливых поклонников, нередко навещали кафе
«Красный мак» и маленький уютный ресторанчик «Урал», которые располагались в Столешниковом переулке. Там иногда появлялись известные столичные конферансье Борис Брунов, Эмиль Радов, популярные актеры Евгений Моргунов и Владимир Андреев. Мы с моим ровесником, диктором радио Юрием Расторгуевым, корреспондентом «Пионерской зорьки» инфантильным красавчиком Виктором Усом и вечным студентом, страдавшим от непомерного безденежья и патологического стремления на ком-нибудь жениться, Игорем Рабчинским изредка тоже навещали эти заведения.
Не смею умолчать (хотя обещал), что наши юморные подружки, наблюдавшие нашу жизнь, так расценивали ситуацию: Витя Ус, отличавшийся привлекательной внешностью, исполнял в компании роль подсадной утки. Девочки прежде всего «клевали» на него. А уже дальше, словно по выработанной традиции, когда дело доходило «до койки», то вся «нажива» доставалась либо Марку, либо Игорю.
Особый статус отличал еще две скромные закусочные: одна из них ютилась в подвале дома, который располагался на углу Кузнецкого моста и Неглинной улицы, а другая, именовавшаяся «Иртыш», в подвале старого дома, на месте которого на площади Дзержинского впоследствии вырос «Детский мир». Специфический статус этих, казалось бы, ничем не выделявшихся заведений состоял в том, что там обсуждалось большинство торговых сделок между спекулянтами Столешникова переулка и пожелавшими вступить с ними в сомнительные отношения покупателями, жаждавшими стать обладателями дефицита.
В заключение своего короткого экскурса по улочкам послевоенной Москвы упомяну еще один центр нашего притяжения, особенно в зимние месяцы: речь веду о знаменитом катке «Динамо», приютившемся во дворе дома № 26 по Петровке.
Туда мы приходили едва ли не каждый вечер, не сговариваясь, как ходила когда-то в стародавние времена столичная знать в Английский клуб. Не явиться на каток днем в выходной день у нас считалось моветоном. Там было действительно очень интересно. В центре катка располагалась небольшая площадка для фигуристов, на которой очень часто можно было наблюдать Игоря Владимировича Ильинского и Рину Васильевну Зеленую. По вечерам на балконе вдруг неожиданно мог появиться шеф Госбезопасности генерал Абакумов. Притягательная сила катка не была чужда и другому генералу – Василию Иосифовичу Сталину. В числе VIP-персон можно было заметить сына маршала Тимошенко, дочь главного маршала артиллерий Воронова и других представителей «золотой молодежи». В специально для них отведенной так называемой «первой комнате», за входом в которую очень ревниво наблюдал сам директор катка Василий Васильевич (фамилию его я, увы, запамятовал), крутили запрещенные для широкого показа западные фильмы.
В свободные от игр вечера на «Динамо» захаживали многие известные Мастера спорта, с которыми я был хорошо знаком. Бывал здесь динамовский хоккейный форвард Виктор Климович, его одноклубник, сын популярного футболиста и тренера Олег Севидов. Словом, было весело и интересно.