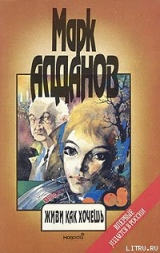
Текст книги "Живи как хочешь"
Автор книги: Марк Алданов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
II
Яценко, смеясь, говорил Наде, что хочет остаться верен добрым старым способам сообщения времен своей юности и поэтому аэропланами никогда не пользуется: «Так император Франц-Иосиф до конца своих дней не пользовался автомобилями». Она тоже шутливо отвечала, что его стилю, напротив, соответствовало бы все новейшее: аэропланы, белые смокинги, последние нью-йоркские коктэйли. Надя догадывалась, что он просто бережет для нее деньги. Это ее трогало. Виктор Николаевич водил ее в дорогие рестораны, присылал конфеты, цветы. «Все для меня, ничего для себя», – думала она, хотя знала, что это несколько преувеличено.
Он путешествовал довольно много с тех пор, как поступил на службу в Объединенные Нации, и тем не менее всегда приезжал на вокзал рано, торопился и раз пять или шесть (так что самому было стыдно) проверял, все ли в порядке: билет, бумажник, ключи. Из экономии не взял места в спальном вагоне, а удовлетворился couchette во втором классе. Отделение в вагоне уже было полно. Яценко развернул вечернюю газету, но читать ему не хотелось. В последнее время он убедился в том, что терпеть не может переезжать с места на место. Особенно его утомляли долгие поездки по железной дороге: скучно, утомительно, читать вдвое труднее, чем дома. «А когда-то мальчиком я так это любил»…
С тех пор, как он стал писателем, Виктор Николаевич старался развивать в себе наблюдательность, – шутливо называл это игрой в Шерлоки Холмсы. «Этой даме сорок лет, – думал он, поглядывая на свою соседку, – она надеется, что ей дают тридцать пять, и говорит, что ей тридцать. Милая женщина, верна своему мужу, но немного сожалеет, что всегда была ему верна. Они не проживают своего дохода и у них кое-что отложено, она тоже колебалась, не купить ли ей место в спальном вагоне, а потом решила, что из-за одной ночи не стоит тратить лишних две тысячи франков… Сейчас она попросит меня или того пожилого чиновника с ленточкой в петлице уступить ей нижнюю кушетку… Не уступить – будет неблагородно, уступить – будет неудобно… Что ж делать, уступлю. Я ее понимаю: нет ничего комичнее, чем дама, карабкающаяся вверх, как матрос на мачту»… Дама не попросила его поменяться с ней местами, а из разговора выяснилось, что господин с ленточкой врач. Это немного раздосадовало Яценко.
Минуты за три до отхода поезда, когда диваны уже были подняты на ночь, в отделение вошла еще дама. Ей принадлежало левое среднее место. «Русская», – тотчас признал Виктор Николаевич. За ней носильщик внес два чемодана. Она отрывисто, громче, чем говорят европейцы, указала ему, куда что положить. Соседи поглядывали на нее с любопытством. Дама была молода и хороша собой. «Что-то в ней есть презрительное… Кажется, каждым движением показывает: смотрите на королеву!» – почему-то с недоброжелательством подумал Яценко. Ему почти доставило удовольствие, что у дамы, когда она по лесенке поднялась на свой диван, пополз найлон на левой ноге, очень тонкой и красивой. Мужчины проводили ее взглядом. «Зачем она в дорогу нацепила это ожерелье? Впрочем, бриллианты, конечно, поддельные… Если советская, то верно жена сановника, а если эмигрантка, то уж не знаю кто. И есть что-то жалкое в ее самоуверенности, и в этих фальшивых бриллиантах, и в порванном чулке»…
Поезд тронулся. Виктор Николаевич долго лениво прислушивался к стуку колес, – примеривал к их ритму разные стихи. Неожиданно выпало что-то когда-то слышанное в детстве от няни. «Удивительно, сколько чепухи за день проходит в голове даже у неглупых людей. „Кума, шэн, кума, крест, – Кума, дальше от комода“… Чего бы я не дал, чтобы опять вернулось это детское время!» Ему хотелось пить. «Как все неудобно и бесхозяйственно устроено». Он подумал, что кондуктор мог бы продавать пассажирам лимонад или пиво, что это не отняло бы у кондуктора много времени, и заработка у него было бы гораздо больше, и государству никакого ущерба. «Что ты, что ты, что ты врешь, – Сам ты чашку разобьешь», – пели колеса.
Как обычно во французских поездах, в десять часов вечера пассажиры, по молчаливому соглашению, потушили лампочку. Дама наверху раздраженно, точно протестуя против нарушения ее прав, снова повернула выключатель, что-то достала из сумки и погасила лампу опять. «Странно, что у нее так безжизненно свисает рука», – думал рассеянно Яценко, поглядывая на даму снизу; отделение все же слабо освещалось горевшей в коридоре лампочкой. «Глаза, кажется, прекрасные. Утром увижу как следует… О чем я думал?… Ни о чем… Вчерашнее заседание комиссии?… Никто перса не слушал. Старики шопотом говорили о своих простатах и хвастались… Перс произносил высокопарные до неприличия слова, но верно восточные люди слышат эти слова иначе, – как Дант слышал слова „Божественная Комедия“ не так, как мы… Да, в жизни надо строго отделять главное, основное, от рекреации. У меня основное: Надя и литература. Все остальное „рекреация“, не больше». По привычке он – почти как билет и бумажник в кармане – проверил, все ли ясно в основном: «С Надей ясно: женимся, как только она получит развод от своего советского мужа. Да мы уж все равно давно женаты, дело не в паспорте, между нами и так уже есть то общее, то всем другим чуждое, что бывает только между мужем и женой. Я на пятнадцать лет старше ее, но мне еще нет пятидесяти, и мы сто раз об этом говорили, она меня любит, я люблю ее. Да, билет и бумажник есть», – иронически думал он. Ему было совестно переходить прямо от «основного» к службе, к практическим делам. «Мой баланс? Некоторая сухость, некоторое равнодушие к людям, большая любовь к мыслям, даже к идеям, неудовлетворенное честолюбие, хотя и не столь уж большое, во всяком случае не „болезненное“: я каждый день вижу людей в десять раз более честолюбивых и тщеславных, чем я… Если Объединенные Нации станут совершенно невыносимы, перейду в „Юнеско“. Я в России часто менял занятия и общество, менял без всякого огорчения, вот как нельзя чувствовать огорчение при отъезде с постоялого двора, где без интереса и даже с опаской разговаривал с другими случайными постояльцами, – вдруг они темные люди? Литература?» – О ней ему не хотелось думать: всякий раз, как вечером он начинал писать или думать о своих писаньях, ночь проходила без сна. «Вдруг в самом деле этот Пемброк приобретет права на „Рыцарей Свободы“? Правда, он не театральный, а кинематографический деятель. Впрочем, я знаю, он иногда занимается в Нью-Йорке и театром. Конечно, Пемброк, как все они, знает толк в своем деле и ничего не понимает в искусстве. Когда-то, до революции, этот Пемброк был в России журналистом, подписывался „Дон-Педро“, и уж одна эта подпись доказывает, что ему в искусстве нечего делать… А может быть, нечего делать в искусстве и мне? Успех нескольких рассказов ровно ничего не доказывает. А „Рыцари Свободы“, я сам еще толком не знаю, что это: хорошая пьеса или пародия на хорошую пьесу. Как Александр Дюма писал и „Антони“, и пародию на „Антони“. Правда, он, помнится, это делал для увеличения заработка. Нет, разумеется, мои „Рыцари“ никакая не пародия, но вторая пьеса будет лучше. Правда, в замысле все гораздо лучше, чем выходит на самом деле. Я в „Рыцарях“ кое-чем вдобавок пожертвовал, имея в виду благодарную роль для Нади. Еще есть ли у нее в самом деле талант? Она хочет успеха, славы, денег, страстно хочет, гораздо больше, чем я»…
В душе он не желал Наде большой кинематографической карьеры. Вернее, не был бы очень огорчен, если б ей карьера не удалась. Помимо ревности к тем знаменитым, красивым, молодым людям, с которыми пошла бы ее жизнь в Холливуде, его оскорбляла мысль, что он будет для других людей не драматург Джексон, а муж кинематографической звезды; оскорбляло даже то, что она, в случае успеха, будет зарабатывать гораздо больше денег, чем он. «В сущности, у меня буржуазные, старомодные понятия: надо „основать очаг“, а деньги для очага должен давать муж. И действительно кое-как мы могли бы прожить уже теперь, без ее фильмов и без моих пьес, на то, что я зарабатываю в Объединенных Нациях… Но мне и самому больше не хочется жить „кое-как“, и не только из-за нее не хочется. Я на этой службе в последние два года привык к дорогим гостиницам, к хорошим ресторанам». Далеко в прошлое ушла прежняя петербургская жизнь, особенно времен гражданской войны, с теплушками, примусами и «буржуйками»… Ему мгновенно вспомнился запах поджариваемой на огне воблы, преследовавший его лет двадцать. «На службе я добился всего, чего мог добиться только что натурализованный в Америке иностранец, не имеющий американских дипломов и говорящий по-английски с легким иностранным акцентом… Разумеется, жизнь сложилась ненормально, – если вообще бывает нормальная жизнь, да еще в наше время. Из-за них, из-за них», – думал он с ненавистью, разумея большевиков.
Нервы у Виктора Николаевича были взвинчены и от предстоявшей встречи с Надей, и, быть может, еще больше, от предстоявшего на следующий день чтения пьесы. Теперь он думал, что первая и особенно вторая картины слишком растянуты, а четвертая неестественна и не похожа на жизнь. «Но в романтической пьесе не все и может быть на жизнь похоже, хотя я старался произвести реформу в этом старом роде искусства». Под заголовком «Рыцари Свободы» в его рукописи были слова: «Романтическая комедия». Ему нравилось это обозначение, в сущности почти ничего не означавшее. В фактуре пьесы (он теперь часто употреблял такие слова) было в самом деле что-то романтическое и старомодное. Было ему неприятно и то, что он в пьесе «активизировал» живых людей. «Надя вдобавок не так уж похожа на Лину, хотя в Лине есть и Надя»… И потом, в жизни настоящего действия, того, о котором я мечтал в юности, вообще нет, и полковники Бернары теперь нигде невозможны. Уж больше всего действия в России, особенно у советских людей, посылаемых заграницу, но какая у них романтика! Там смесь Рокамболя с Молчалиным, солдатчина и дисциплина, как в армии Фридриха II, с той разницей, что при Фридрихах это вдалбливалось в кадетских корпусах и закреплялось в день присяги, а здесь вдалбливается в комсомоле, а закрепляется в день получения партийного билета. Нигде в мире ничего романтического не осталось, всего же меньше в политике. Теперь и заговоры ведут через пытки к признаниям…
В вагоне что-то все время стучало, верно плохо пригнанная штора. Расходившийся с этим стуком шум колес не был уютен, больше не вызывал в памяти такта стихов, а беспокоил и даже раздражал его. Он задремал лишь около полуночи. Ему снились люди, о которых он изредка думал в последние дни, но связь между ними, их слова и поступки не имели ничего общего с жизнью, были совершенно невозможны и бессмысленны. Под утро он полупроснулся в тоске. Поезд шел по туннелю очень медленно, за окном низко горело что-то странное, как будто слышались глухие голоса. Он встал и отдернул занавеску. В углублении туннеля горел багровый огонь, толпились черные фигуры. Дама с бриллиантовым ожерельем лежала на спине, рот у нее был полуоткрыт. В дрожащем красноватом свете ему показалось, что перед ним лежит мертвая старуха. По-настоящему он проснулся лишь через полминуты. «Вздор! – прикрикнул он на себя. – Вот оно, проклятое наследие Петербурга, эти все еще не прекратившиеся кошмары!»
Как многих эмигрантов, его иногда по ночам преследовал сон, будто по какой-то ошибке он вернулся в СССР, – во второй раз бежать уже невозможно, – «как же это, зачем, зачем я это сделал!» Он просыпался с ужасом, затем с невыразимым облегчением сознавал, что это вздор, что он в свободной стране. «В этом великая радость кошмаров: просыпаешься, – все было ерундой! Так, после того, как вырвешь зуб, великое наслаждение: боль прошла, можно сжать челюсть», – тотчас, как писатель, придумал он сравнение. Он снова лег.
Дама с ожерельем зашевелилась наверху. Яценко увидел, что она приподнялась на локте, заглянула вниз, затем откуда-то достала что-то похожее на шприц. Он с тревожным любопытством смотрел на нее из-под полузакрытых век. Больше ничего не было ни видно, ни слышно. «Что-то себе вспрыскивает? Морфин? Теперь от всех болезней лечат какими-то вспрыскиваниями… А может быть, она ничего не вспрыскивает, мне померещилось»…
Он знал, что больше не заснет. Думал теперь о второй своей пьесе. «Беда в том, что я взял чужой быт, чужую среду. Конечно, я теперь американский гражданин, но что же делать, если для человеческой души первая родина имеет неизмеримо больше значения, чем вторая. Я такой же неестественный американец, как этот забавный чудак Певзнер. Только он в самом деле почти поверил, что он мистер Пемброк, а я знаю, что я не Вальтер и не Джексон. Если моими действующими лицами будут Чарльз Смит из Техаса и Луэлла Паркинсон из Кентукки, то я удавлюсь от фальши, хотя я видел американскую жизнь и люблю американцев, знаю их, как их может знать иностранец. И я не хочу писать о пустяках; в дальнейшем я буду писать только о самом важном, о роке, о том, что сейчас волнует мир и, быть может, его погубит… И я твердо знаю, что буду драматургом. Во мне нет никакого дилетантизма, я знаю чего хочу, и воли у меня достаточно. Может быть, еще побочную профессию переменю, но это лишь потому, что я беден и надо искать заработка».
Он был доволен своей второй уже наполовину написанной пьесой. Диалог казался ему хорошим, выдумка была недурна, технически пьеса была сделана лучше, чем «Рыцари Свободы». «И тем не менее в каком-то отношении это шаг не вперед, а назад. Моих „Рыцарей“, при всей их условности, спасала значительность сюжета. Здесь в „Lie Detector“[4]4
Прибор, обнаруживающий ложь.
[Закрыть] этого нет. Это просто бытовая комедия, для которой я случайно нашел подходящую среду, так что мог обойтись без Луэллы Паркинсон из Кентукки. Надо вполне овладеть сценической техникой, и тогда я перейду к тому, что волнует мир… Но что же делать, если самые плохие и пошлые пьесы это именно те, где подаются высокие идеи. Они всегда фальшивы, всегда навеяны газетными общими местами, люди в них не живые, а надуманные, и происходит что-то сверхъестественное по нелепости и по фальши, как, например, убийство румынского фашиста благородным антифашистом в „Watch on the Rhine“[5]5
«Стража на Рейне».
[Закрыть] Lillian Hellman. По совести, за одну хорошую комедию Кауфмана можно отдать все политические пьесы военного времени, потому что Кауфман хоть без претензий, и чрезвычайно остроумен, и знает людей и пищащих политических кукол не фабрикует… Впрочем, по совести я не знаю, какие есть в современном театре превосходные пьесы. Хорошие есть, а превосходных нет. „Вишневый Сад“ Чехова тоже неизмеримо ниже уровня его рассказов, что бы ни говорили о нем иностранные поклонники».
Второй пьесе было уделено несколько тетрадок с отрывными листками. Такие тетради были удобны потому, что листки можно было бы вырвать впоследствии, когда пьеса будет закончена. Яценко невольно ловил себя на том, что иногда, правда редко, думает и о «грядущем исследователе» своих, пока столь немногочисленных, произведений. «Да, очень противная вещь – кухня нашей профессии. „Грядущие исследователи“ ее раскопали у всех великих писателей, и те были бы верно в ужасе. Даже мой любимый Гоголь постоянно менял планы, не знал, что будет дальше. Он, впрочем, и вообще ничего не знал, Пушкин его стыдил, что он совершенно не знает западной литературы. Среди наших классиков Гоголь был единственный малообразованный человек, и от него пошло то, что теперь так пышно расцвело. Но ему и ему одному это не мешало быть великим писателем… Мне, конечно, опасность от „грядущих исследователей“ не грозит, – с усмешкой думал он. – И разве у людей чистой отвлеченной мысли не то же самое? Бергсон откровенно говорил, что, начиная новую книгу, он никогда не знает, чем кончит и к каким выводам придет»…
Утром он хотел для Нади побриться, но в поезде это у него всегда выходило плохо. «Может быть, она и в самом деле не будет на вокзале». – В вагоне-ресторане он за кофе пробежал марсельскую газету. Ничего нового не могло быть: он еще накануне был во дворце Объединенных Наций, – там политические новости редко создавались, но узнавались и отражались раньше, чем где бы то ни было. Передовая статья газеты была безотрадна. «Что ж, газеты, верно, будут безотрадны до конца моих дней», – подумал он и увидел за столиком, по другую сторону прохода, наискось против себя, даму в ожерелье. Он только теперь мог разглядеть ее как следует. «В самом деле очень красива. Глаза странные, с чуть расширенными зрачками. Я таких глаз, кажется, никогда не видел. Голубые или серые?.. Вероятно, морфинистка»… Дама смотрела на него, но ему показалось, что она его не видит. «Кажется, смотрит на какую-то точку в моем лице? – беспокойно подумал он. – Уж не запачкался ли я в вагоне? Нет, в зеркале все было в порядке… Ну, смотри, смотри, голубушка, кто кого пересмотрит?» Она перевела взгляд на окно. Еще совсем недавно он, при встречах с красивыми женщинами, сравнивал их мысленно с Надей. Выходило всегда, что Надя лучше, и из этого он каждый раз радостно заключал, что влюблен… «Надя не „тихая пристань“, не может быть „тихой пристанью“ актриса. И она очень умна, хотя у нее, как у столь многих людей, ум двух измерений». Он увидел, что дама с ожерельем читает очень левую газету. «Ах, fellow traveler!»[6]6
Попутчик.
[Закрыть] – с сожалением подумал он.
Справа показалось залитое солнцем море, оливковые деревья, дома с плоскими крышами. Яценко почти не знал юга, только помнил восторженные рассказы отца. «Все будет хорошо! И войны не будет, и пьесу мою возьмут, не Пемброк, так другой… И нет ничего странного в том, чтобы жениться в сорок восемь лет»…
Метр-д-отель уже оставил счет на его столе, но ему не хотелось уходить в свой вагон. «Да, все-таки я хорошо сделал, что покинул Россию, которую я так люблю, хотя порою, зачем-то делаю вид, будто ее ненавижу».
В его отделении кушетки уже были убраны, у всех были утомленные, дорожные лица; люди лениво переговаривались, больше всего желая поскорее приехать. Яценко не любил дорожных знакомств, разговоров, вопросов. «Сказать, что я русский эмигрант, – это всегда вызывает сочувственное уныние. Сказать, что я американец, – не повернется язык. Да и сейчас же начнут спрашивать, что думают американцы о положении в Европе и о войне». Он в таких случаях отвечал, что американцев 150 миллионов и что каждый из них думает по-своему.
Соседи, впрочем, его именно за американца и принимали. Чемоданы у него были новые и дорогие, с наклейками «New York» … «De Grasse, cabine 110»… Ему хотелось записать что-то о второй пьесе. Яценко вынул записную книжку и начал было писать. Присутствие других людей теперь было ему чрезвычайно неприятно. Он все на них оглядывался, точно с их стороны было некорректно находиться здесь при его работе. «Да, насколько в этих записях все выходит лучше, чем когда начинаешь писать по-настоящему… Надя будет просить, чтобы ей дали роль… Да, Надя будет для меня идеальной женой, на заказ лучше не придумаешь. Ее бодрость, ее vitality, ее friendliness,[7]7
Дружелюбие.
[Закрыть] это и есть то, чего мне нехватает и что больше всего мне всегда нравилось в женщинах. И я думаю, что, женясь на ней, я не совершаю ни опрометчивого, ни нечестного поступка. Она тоже уже не девочка. Она мне говорила, что ей тридцать, но, конечно, она и от меня, даже от меня, скрыла два или три года. Что ж делать, этого требует ремесло. Скоро начну скрывать годы и я… Я знаю, что я должен иметь свой очаг, иметь жену и детей. Я сам себе более всего противен именно такими рассудительными мыслями. По-настоящему, я был влюблен только в Мусю Кременецкую, но тогда мне было семнадцать лет. Что ж делать, я теперь себе лгать не могу. В России я слишком часто лгал и, главное, постоянно видел, как бессовестно, без сравнения со мной, лгут другие. Быть может, именно поэтому у меня выработалась почти болезненная потребность в правде. Не знаю, будет ли она мне полезна в литературе, а в жизни наверное будет вредна».
Хотя он и просил Надю не встречать его на вокзале, Яценко, выйдя из вагона в Ницце, надел пенснэ и осмотрелся. Ее не было. «И отлично», – все же с легким разочарованием подумал он. В конце перрона с празднично-торжественным видом стояла кучка людей. Это официальные лица встречали иностранного министра небольшой страны, приехавшего для отдыха на Ривьеру. «Префект уже вошел в вагон. Кажется, тот ни слова по-французски не понимает. Теперь оба не знают, что сказать… „Моя“, „твоя“, „La France et la Sardaigne, La Sardaigne et la France“ … Выезжают на радостных улыбках и на крепких рукопожатиях». Из вагона, торжественно-благосклонно улыбаясь, вышла толстая дама с букетом, который ей, очевидно, поднес префект. Официальные лица почтительно помогли ей сойти по ступенькам. За ней показался ее муж, он не улыбался и скорее хмуро пожал руки официальным лицам. «Наполеон и Жозефина. Она действует своим очарованием, а он своей славой», – подумал Яценко, почему-то очень не любивший этого министра.
Яценко вышел из вокзала и ахнул. Солнце потоками заливало все: длинный, низенький желтовато-розовый вокзал, улицу, по которой не спеша проходил дребезжащий старенький трамвай, автомобили, казавшиеся ему игрушечными после нью-йоркских, пальмы, деревья, неизвестные ему даже по названию, плоские повозочки с лежавшими на них яркими цветами. В этих повозочках было что-то трогательное, говорившее о скромном человеческом труде, о скромных человеческих радостях, о простой, вековой жизни. Слева виднелись уютные, зеленые горы, впереди были дома, все непохожие один на другой, странный провал посередине, спуск, за ним другие улицы, кофейни, гостиницы, называвшиеся именами городов и каких-то аристократов. «Господи, как хорошо! Правду говорил папа, что человек создан для юга! Смесь Парижа и южной деревни»…
Веселый носильщик в синей блузе, не похожий на сердитых носильщиков в настоящих городах, в тележке привез его чемоданы. Подъехал допотопный фаэтон, запряженный гнедой лошадкой с разбитыми ногами. Кучер благодушно приподнял мягкую шляпу, помог носильщику поставить вещи на переднюю скамеечку, покрытую аккуратно сложенным потертым пледом, обменялся с ним шутками на забавном южнофранцузском языке, – Яценко слышал сходный говор на парижской сцене, когда изображали марсельцев, и ему не верилось, что так в самом деле говорят люди. Коляска медленно проехала мимо кофейных, мимо гостиницы с каким-то голубым минаретом. «Noailles». Почему Ноай? Почему Сесиль?.. «Agence de voyages», «Menu à 175 francs» … По улицам не шли, а гуляли веселые, живые, очевидно беззаботные люди. «Живи, дыши этим чудесным ароматным воздухом, впитывая это чудесное солнце, бери от жизни ее радости, ни о чем неприятном не думай».
Номер гостиницы был отличный и в переводе на доллары недорогой. Ему также надо было жить по рангу: не только для кинематографического магната, но и для Нади. Он себя бранил за мещанские чувства, однако и она не должна была знать, что у него на текущем счету в Нью-Йорке не найдется и тысячи долларов. «Только две национальности, русские и американцы, не любят делать сбережений, а, волей Божией, я и русский, и „американец“. В Нью-Йорке он, впервые с детских лет, стал жить безбедно, и смутно, с неприятным чувством, сознавал, что вернуться к прежней жизни бедняка ему было бы очень тяжело.
Теперь, в этом благословенном международном городке, не была тяжела и мысль, что он принадлежит к двум нациям, между которыми не сегодня-завтра может начаться война. В первый год по приезде в Нью-Йорк он с вызовом говорил и другим, и даже себе, что только и желает поскорее стать американцем и „забыть все русское“. Это давно прошло. Чувствовал, что возненавидит жизнь и себя в тот день, когда атомная бомба упадет на Петербург, на его Петербург, – в мыслях никогда не называл этот город ни Ленинградом, ни даже Петроградом.
Он выкупался, тщательно выбрился, надел из своих костюмов тот, в котором казался моложе и стройнее. Всегда был элегантен и в Нью-Йорке заказывал костюмы, никогда не покупал готовых. В Париже перед отъездом в Ниццу купил несколько галстухов в знаменитом магазине на Place Vendome и сам улыбался, выбирая их. Так же улыбаясь, и теперь выбирал в чемодане галстух, рубашку, носки. „Вторая молодость… Впрочем, первой почти и не было“…
Раздался телефонный звонок, он радостно подошел, чуть не подбежал к аппарату – и услышал мужской голос. Говорил Альфред Пемброк. Этот кинематографический магнат, несмотря на свое благодушие и любезность, часто бывал ему не совсем приятен покровительственным тоном. С ним были связаны далекие воспоминания: Пемброк сказал ему, что был другом его отца. Яценко помнил, что таких друзей у его отца не было, но газетная подпись Дон-Педро осталась у него в памяти; отец в самом деле об этом журналисте иногда за столом говорил.
– …Поздравляю с приездом, очень рад, что и вы тут, весь Нью-Йорк сейчас во Франции, – говорил Пемброк. Они всегда разговаривали по-русски: так было легче даже Альфреду Исаевичу, хотя он прожил в Америке тридцать лет. – Но что я слышу! Вы написали пьесу и, говорят, очень хорошую пьесу! Я говорил еще вашему покойному отцу, какой вы способный юноша. Вам тогда было верно лет шестнадцать… Ах, хорошее было время!.. Вот что, мы условились с мисс Надей, что вы ее сегодня нам прочтете. Я рад буду послушать и, если я что-либо могу для вас сделать, вы можете на меня рассчитывать и как Уолтер Джексон, и как сын вашего отца, которого я очень любил и почитал… Мы встречаемся сегодня, в четверть десятого, у меня, – он назвал самую роскошную гостиницу Ниццы.
– Я буду очень рад, – ответил Яценко, не совсем довольный. Почему-то ему казалось, что он сначала прочтет Наде пьесу наедине. „Впрочем, в самом деле не имеет смысла и нет времени устраивать два чтения“.
– Отлично. Пригласил бы вас на завтрак, но уже поздно: я ведь говорю из Монте-Карло.
– Играете?
– Есть грех. Надо же и нам, старикам, иметь какие-нибудь удовольствия. Значит, до вечера. „Пока“, как говорят у дяди Джо.








