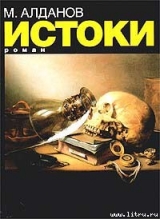
Текст книги "Истоки"
Автор книги: Марк Алданов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 58 страниц)
VI
За день до открытия охоты наступил сильный холод. Покрытый щебнем двор занесло снегом. Солнце не показывалось. Огромные залы стали еще мрачнее. Жизнь в замке сосредоточилась у каминов. Погода была главным предметом разговоров. Гости согревались крепкими напитками.
– Поразительно, сколько здесь пьют, – сказала Софья Яковлевна Мамонтову, который вечером сидел с ней в библиотеке, потягивая что-то из высокого бокала. – И вы, к сожалению, больше всех.
– Я всю жизнь пью, но отроду не был пьян.
– Подвинулся ли вчера пейзаж?
– Подвинулся. Скоро кончу и уеду, – угрюмо сказал он. Пейзаж действительно подвигался очень быстро. Николай Сергеевич был почти равнодушен к его достоинствам и недостаткам. Он махнул рукой на свою живопись и вдобавок был уверен, что собравшиеся в этом замке люди ничего в живописи не понимают.
«Точно он грозит мне! И поделом, сама виновата», – подумала она.
– Почему вы перенесли работу в Salle des Gardes?
– Потому что на опушке леса слишком холодно. «Нельзя же ответить, что я потерял надежду на избушку…» – Кроме того, теперь, по крайней мере, здешние идиоты будут знать, что я не гость, как они, а черт знает кто: нанятый художник. Надеюсь, они меня порадуют прекращением знакомства или хоть прекращением разговоров.
Она засмеялась.
– Вы не боитесь, что это у вас становится пунктом легкого умопомешательства? Вы мне верно раз двадцать говорили, что ваш дед был крестьянин. Почему это важно? Половина французских государственных людей дети крестьян.
– Правда, свободных, а не крепостных… Но вы совершенно ошибаетесь, я говорил не о своем происхождении, которым я, кстати сказать, горжусь. Мои предки работали и своим трудом, о чем я крайне сожалею, кормили тунеядцев, жуликов, разбойников большой дороги, тогда как эта собравшаяся здесь шайка…
– О, Господи! – сказала, морщась, Софья Яковлевна. – Право, приберегите эту тираду для студенческой сходки… Должна, впрочем, вас огорчить. Те, из собравшейся здесь шайки, которые видели вашу картину, очень ее хвалят. Например, полковник Шлиффен.
– Кому же и судить о живописи, как не этому красавцу?.. Он вчера замучил меня своим Ганнибалом.
– Ганнибал его конек, – сказала она, смеясь. – Заметьте, однако, когда он говорит о политике или о литературе, это совершенно не интересно: все из «Норддейтче Алльгемайне Цайтунг». Но стоит заговорить о военном деле, и становится интересно, даже мне.
– Я знаю, что он вам чрезвычайно нравится.
– Он очень неглупый и приятный, прекрасно воспитанный человек. Но меня всегда занимает находить настоящее в людях, то, от чего идет все другое. У него это военное дело.
– Он и ему подобные хуже уголовных преступников. Человечество должно спасаться от Шлиффенов, вот как завтра олень будет спасаться от охотников. Логически невозможно объяснить, почему гильотинируют разных Тропманов, если все эти мольткенята умирают спокойно у себя в постели.
– Вы хотите гильотинировать всех полковников?
– Все можно обратить в шутку. Вы на это мастерица.
– Да?.. Граф Шлиффен командует первым уланским полком, «es ist die schönste Stellung in der Armee».[200]200
«это лучшее подразделение в армии» (нем.)
[Закрыть] Но его мечта уйти в генеральный штаб.
– В этом я не сомневаюсь. Конечно, он уже разрабатывает все возможные планы войны: с Францией, с Россией, с Австро-Венгрией, с комбинациями из Франции, России и Австро-Венгрии. Ни малейшей ненависти к французам, к австрийцам, к нам у него нет, да он вообще едва ли интересуется политикой: это дело Бисмарка. Не интересуется и философскими или моральными вопросами: это дело профессоров и пасторов… Вот как в штабах все разделено по отделам. Но у него, конечно, есть свое мировоззрение. Прусский дворянин должен верой и правдой служить прусскому королю и лучше всего в прусской армии. Армия предназначается для защиты родины. Само собой, это не значит, что надо ждать русского или французского нападения: война может быть «превентивной». А против превентивной войны не могут возражать ни профессора, ни пасторы. Правда, некоторые из них что-то говорят о «вечном мире». Я думаю, ему становится просто очень скучно, когда произносят эти два слова. Он, должно быть, зевает. Опасного же в них ничего нет, так как профессора и пасторы имеют в виду двадцать первое или тридцать первое столетие… А главное, «der Cannaegedanke»[201]201
«Идея Канн» (нем.)
[Закрыть].
– Это еще что такое?
– Я тоже не знал, но он мне вчера объяснил. Видите ли, у римских историков есть рассказы о том, как Ганнибал победил под Каннами. Он обошел римлян с флангов и ударил им в тыл. Это было «двойным охватом». – Мамонтов засмеялся. – Я римских историков не читал… Впрочем, едва ли и он читал. Но, верно, рассказы их очень коротенькие, не во всем согласные и не слишком достоверные, так что никакой теории на них построить нельзя. Да если бы и можно было, то вся эта «Cannaegedanke», то, что ваш Шлиффен считает величайшим созданьем генерального мозга, с сотворения мира известно каждому мальчишке. Обойти, ударить сзади, отрезать, да это и до Ганнибала делалось в самых обыкновенных массовых драках или играх.
– Кажется, граф Лев Толстой что-то такое говорит в «Войне и мире»?
– Граф Толстой говорит совершенно другое. По Толстому выходит так, что на войне ничего предусмотреть нельзя. Все зависит от духа. Иногда батальон слабее роты, а иногда сильнее дивизии. Побежит князь Андрей со знаменем вперед, все спасено… Хотя он под Аустерлицем ничего этим не спасает… Русские проиграли Аустерлицкое сражение потому, что сражались на чужой земле и не знали, за что сражаются. Впрочем, французы тоже сражались в этот день на чужой земле и тоже едва ли знали, за что сражаются. Толстой очень остроумно издевается над «die erste Colonne marschiert», все полководцы у него служители мнимой, несуществующей науки, сознательные или бессознательные шарлатаны. А беда как раз в обратном: в том, что они не шарлатаны и что их наука существует. Правда, по своим идеям она чрезвычайно элементарна. Поэтому гениев в этой науке нет, как, например, едва ли есть гении в науке статистики. В старину люди становились полководцами по праву рождения и сразу делались гениями, как Конде или Фридрих. Теперь этому ремеслу надо долго учиться. Толстой писал до франко-прусской войны. Она доказала, что очень многое на войне можно рассчитать и предвидеть. Мольтке не гений, а, вероятно, такой же тупой человек, как ваш Шлиффен, но его армии двигались точно по хронометру и привели к полной победе согласно плану, в общих чертах заранее выработанному. Оказалось, что если ведут войну народы, стоящие приблизительно на одинаковом уровне культуры, не отличающиеся от природы трусостью и полным отсутствием воинственности, то батальон всегда сильнее роты и всегда слабее дивизии. Роль же отдельного храброго человека в общем весьма незначительна, так как все решают снаряды, действующие на большом расстоянии. Бежать со знаменем в руке, как князь Андрей, некуда и кричать «ура!» незачем.
– О, Господи, и с вами говорить о военном деле! Но в чем же провинились генералы, если они не шарлатаны?
– Как же вы не понимаете? – «В самом деле, зачем я ей все это говорю?» – подумал он раздраженно. – На наших глазах произошло новое историческое явление. Создались генералы мирного образа жизни. Для прежних генералов профессией была война. Для нынешних генералов профессия – военное дело. Многие из них никогда не видели настоящего поля сражения. Для полководцев прежнего времени периоды мира бывали приятными каникулами. Для новых генералов нормальное состояние – мир. А война для них приблизительно то, чем для ученого может быть защита докторской диссертации.
– Так в чем же тут беда? И слава Богу, что для них нормальное состояние мир.
– Нет, не слава Богу. Генерал, искренне не желающий войны, психологически так же невозможен, как, например, музыкант, не любящий концертов. И в самом деле жизнь генерала, отроду не видавшего никакой войны, представляет собой комический парадокс. Вдобавок, у наиболее способных из них всегда есть своя теория, и ее нужно проверить и доказать на деле, то есть на войне. Вот у вашего Шлиффена «der Cannaegedanke». И каждому из них нужна маленькая превентивная воина, как ученому нужна защита диссертации. А так как влияние у них большое, а уважение к ним огромное, то они и ведут неизменно мир к превентивным войнам, на которых погибают не они, а другие…
– В том числе и их сыновья.
– Их сыновья чаще всего состоят в штабе. Да, впрочем, им и сыновей не жалко, лишь бы защитить диссертацию и доказать правоту своей идейки. И потом слава! Вы забываете славу! Я знаю, им и в мирное время живется недурно: они имеют чины, прекрасное жалованье, ордена, казенные квартиры, правительство устраивает для них рекламные развлечения вроде маневров. Но кто знал бы и помнил бы Мольтке, если бы не Кениггретц и не Седан? Без Седана он не был бы графом, и денег и орденов было бы много меньше. Как же им не желать войны, на которой погибнет пятьсот тысяч каких-то Мамонтовых?
– Так как вы на войне еще не погибли, то, может быть, не стоит так на них сердиться.
– Чем они даровитее, тем опаснее. Люди тройного сальто-мортале всегда даровиты. Самое же худшее в том, что они совершенно необходимые нам люди. Если бы Толстой был прав, если бы никакой военной науки не существовало, то их можно было бы просто убрать, как шарлатанов. Но военная наука существует с очень несложными идеями и с очень сложным хозяйством, – это хозяйство надо изучать годами. На всякий случай надо иметь людей, знающих свою науку, а эти люди сознательно или бессознательно толкают человечество на войны, – разумеется, оборонительные или превентивные. Это гибельная антиномия, заколдованный круг, от которого мир, в конце концов, и погибнет.
– Я ничего в этом не понимаю, но, по-моему, вы все очень преувеличиваете. Войны происходят, вероятно, не из-за генералов, а из-за столкновения интересов, принципов, не знаю чего еще. Если бы вы были правы, то мира вообще никогда не было бы.
– И не было бы, если не одно обстоятельство, умеряющее пыл разных коронованных и некоронованных генералов. На докторском экзамене можно и провалиться, а скандала они очень боятся, тем более, что провал иногда связан с неприятными практическими последствиями. Кроме того, им всегда кажется, что они еще к войне не совсем готовы. Всегда не хватает каких-нибудь двух дивизий. Вполне готов к войне не был с сотворения мира, вероятно, никто, и все они свое собственное военное хозяйство знают, конечно, гораздо лучше, чем чужое, и свои недочеты видят яснее. Поэтому они долгие годы не решаются. Мы пока существуем только потому, что какой-нибудь Мольтке еще не решился. Вам эти Шлиффены «очень нравятся», а из-за них гибнут сотни тысяч или миллионы людей, тогда как бедный Тропман зарезал, кажется, всего пять человек… Да ваш Шлиффен и в самом деле очень милый человек, в этом-то и несчастье! Впрочем, он вам нравиться не перестанет, и я даром трачу красноречие… Мы говорили о настоящем в человеке. Что же, по-вашему, «настоящее» у меня? То, что я внук крепостного и это, как вы убеждены, определило всю мою психологию?
– О нет!.. У вас что настоящее? – Она подумала. – У вас любовь к жизни и нелюбовь к людям.
– А у вас?
– Не знаю… Вы, конечно, завтра будете на церемонии?
– Конечно, не буду. А вы?
– Я буду. Но на охоту я не поеду, слишком холодно. Сегодня некоторые гости не ложатся спать, хотя ужин кончится рано. Говорят, не стоит ложиться, если надо вставать в четыре утра.
– Что же они будут делать?
– Вероятно, играть в карты и пить. Буфет будет открыт всю ночь. Я, напротив, рано лягу, а после церемонии поднимусь к себе и буду читать в ожидании кофе. Вам же я очень советую поехать в лес, это художнику должно быть очень интересно. Замок, верно, опустеет совершенно.
Мамонтов внимательно на нее смотрел.
– Да… Я, впрочем, не художник.
– Кто же вы? Петр Алексеевич, кажется, говорил, что вы «под Рудина»: «лишний человек».
– Может быть. А, может быть, в самом деле мы все лишние. И во всех нас сидят персонажи знаменитых романов. Разве кто-нибудь может вытравить в себе Жюльена Сореля или князя Андрея, раз пережив их?
– Вы заметили, какая нынче в замке взволнованная атмосфера? Наш милейший секретарь совершенно сбился с ног. На нем, кажется, лежит ответственность за все: за погоду, за оленя, за собак, за иллюминацию и всего больше за завтрак после охоты. Говорят, что это будет нечто неописуемое. Сегодня все утро приходили фургоны с едой из Парижа.
Вечером не было ни шарад, ни музыки. Многие гости рано поднялись в свои комнаты. Другие слонялись по огромным залам или кутались в пледы в креслах у каминов. В одиннадцатом часу кто-то сказал, что оленя загоняют в фургон, который должен отвезти его к штандам. От скуки несколько человек вышли посмотреть на зверя.
– Лень подниматься за шубой, – сказала Софья Яковлевна. Мамонтов вызвался принести шубу.
– Вы знаете, где моя комната? Это в левой половине первого этажа, последняя дверь у бойницы. Разыщите там горничную этого коридора, у нее, верно, и ключ. Скажите ей, чтобы она дала вам шубу. Пусть даст какую ей угодно.
Он поднялся наверх и разыскал комнату. В тяжелом замке торчал огромный ключ. Мамонтов отворил дверь и вошел. В камине горели дрова. Он заглянул в полутемную спальную, зажег спичку, разыскал шубу. На двухпудовой двери не было изнутри ни запора, ни задвижки. Николай Сергеевич вынул ключ из замка, отнес его в другой конец коридора и положил на шкаф. «Если случится кража, то подозрение падет на меня», – подумал он, поднимаясь к себе. В его комнате дрова в камине погасли, и это его раздражило, точно и прислуга к нему относилась не так внимательно, как к другим гостям. Он надел пальто и спустился. «Elle fait sa Sophie[202]202
Здесь: она играет свою роль (франц.)
[Закрыть], но мне это очень надоело. Пора положить этому конец!..» Внизу с Софьей Яковлевной разговаривал полковник Шлиффен.
Был безветренный морозный вечер. Откуда-то доносился отчаянный лай собак. Посреди освещенного луной и фонарями двора огромный, почти безрогий олень-мерин, стоявший между протянутыми от фургона на высоких столбах веревками, не поддавался заманивавшим его пикерам и все озирался в ту сторону, откуда доносился лай. Странно одетый человек, называвшийся капитаном охоты, предупреждал гостей, чтобы они к веревкам не приближались: олень ударом задних ног может убить человека.
– Прекрасный зверь! – сказал полковник Шлиффен.
– C’est un malin[203]203
Это хитрец (франц.)
[Закрыть], – отозвался капитан и рассказал биографию оленя: он уже три раза уходил от собак.
– Может быть, и сегодня уйдет? – спросил с интересом Шлиффен и вступил с капитаном в спор о ходе охоты. Капитан утверждал, что олень побежит к реке.
– Откуда же он может знать, где река?
– Я травлю их тридцать лет, – сказал решительно капитан, – и не могу понять, откуда они знают. Но они знают!
– А зачем ему река? – спросила Софья Яковлевна.
– Он бросится в воду и побежит вдоль берега по дну или поплывет, выставив только ноздри. В воде собаки теряют след.
– Поэтому и важно отрезать его от реки, – сказал граф Шлиффен и стал доказывать капитану, что собак надо было бы пустить с двух штандов: справа и слева. Он чуть было не сказал: с двух флангов. Капитан слушал его недоверчиво, хотя видел, что этот немец знает толк в охоте.
Когда оленя увезли, они вернулись в холл и сели у огромного камина. Шлиффен, бывший, как всегда, в самом лучшем настроении духа, занимал Софью Яковлевну разговором. Николай Сергеевич поглядывал на него со злобой.
– Мне показались чрезвычайно интересными ваши соображения о битве при Каннах, – вдруг вмешался он в разговор. Софья Яковлевна взглянула на него с комическим ужасом. – Если я не ошибаюсь, численное превосходство было на стороне римлян.
Шлиффен посмотрел на него так, как если бы он сказал: «если не ошибаюсь, неделя состоит из семи дней».
– У Ганнибала было всего тридцать две тысячи… Как это по-французски – die Schwerbewaffneten? – спросил он.
– Тяжеловооруженные, – перевел на русский язык Мамонтов. – Мы понимаем… Неужели тридцать две тысячи?
– И еще десять тысяч галльских и нумидийских всадников. Между тем Терренций Варрон мог этим силам противопоставить пятьдесят пять тысяч тяжеловооруженных. Правда, всадников у него было всего шесть тысяч, и вы, конечно, скажете, что превосходство в кавалерии создавало для Ганнибала немалое преимущество, но…
– Я именно это хотел сказать! – радостно вставил Мамонтов, с торжеством поглядывая на Софью Яковлевну.
– Но вы упускаете из виду, что у Терренция Варрона было еще до десяти тысяч бойцов в укрепленных лагерях, – продолжал полковник. – И если бы не гениальная мысль Ганнибала о двойном охвате, то…
– Да, я тоже считаю, что это была у Ганнибала чрезвычайно ценная мысль, – сказал Николай Сергеевич. Софья Яковлевна укоризненно на него смотрела.
– Как вы все это помните! – сказала она Шлиффену.
– Сударыня, странно было бы, если бы я этого не помнил! Солдат, забывший битву при Каннах! Это была, правда, величайшая в истории победа семитов над нами, не семитами. Но в чисто военном отношении эта победа беспримерна.
– Я вижу, что вас она волнует и по сей день.
– Она меня волнует с детского возраста. Мне было восемь лет, когда мне о ней рассказал мой старший брат. И с той поры… – Он в увлечении перешел на немецкий язык. – Was muss das ein welterschuetterndes Ereigniss gewesen sein, das nach mehr als zweitausend Jahren jedes Knabenherz höher schlagen lässt![204]204
Это такое из ряда вон выходящее событие, что оно более чем через две тысячи лет заставляло сильнее биться сердце каждого мальчишки! (нем.)
[Закрыть] – сказал он.
– Вы, верно, очень много работаете?
– Да, довольно много. Я люблю свое дело, но оно хлопотливо. Мне иногда приходится вставать в три часа ночи, чтобы посмотреть, все ли в порядке в казарме, в конюшне. Это, конечно, вещи незаметные. Однако, я считаю необходимым заботиться и о своих людях, и о лошадях. Мы, немецкие офицеры, помним стихи Фридриха Великого: «Aimez donc ces détails, ils ne sont pas sans gloire, – C’est là le premier pas qui mène à la victoire».[205]205
«Славные реликвии, доблесть и отвага. Дорога к победе – с первого шага». (Перевод с франц. Э. Д. Гуревич).
[Закрыть] По этому случаю я вспоминаю, что и завтра надо встать в четвертом часу, – улыбаясь, добавил полковник. – Вам, конечно, надо отдохнуть.
– И вам.
– В молодости мне случалось не спать три ночи подряд. Я провел молодые годы довольно бурно, – сказал он и простился.
– Ну, слава Богу, теперь можно говорить по-русски. Но, право, полковник очень мил. Мне здесь говорили, что это человек с большим будущим и что он в германской армии считается образцом джентльменства и порядочности.
– Я очень рад, что вам нравится этот тяжеловооруженный дурак.
– Он совсем не дурак. И, действительно, мне он нравится. У человека должен быть какой-нибудь энтузиазм. Вот чего вам не хватает.
– А вам-то!
– Может быть… Вы сегодня не в духе. Спокойной ночи, Николай Сергеевич.
В полукруглой комнате за столовой старый буфетчик до утра подавал гостям сигары, кофе, крепкие напитки. В третьем часу Мамонтов еще сидел за столиком в углу. Он выходил из замка, возвращался и пил рюмку за рюмкой. Буфетчик поглядывал на него с некоторым недоумением.
Под утро в комнате стали появляться охотники в красных фраках и в ботфортах, с арапниками, с черными жокейскими шапочками, другие в зеленых бархатных кафтанах, с медными трубами на поясе, по моде восемнадцатого века. «Еще, слава Богу, что я независим от всей этой сволочи, – бессвязно и бестолково думал Мамонтов, с ненавистью на них поглядывая. – Если бы я отдал, как думал, Кате свое состояние, мне пришлось бы пойти к ним на службу или подохнуть с голоду… Впрочем, Катя и не взяла бы моих денег. Брошу ее – она утопится… Вернуться в Петербург? Там она, Рыжков, цирк, от которых я глупею не по дням, а по часам, там живопись, к которой у меня уже много лет „сказывается несомненное дарованье“, там „Народная Воля“, в которую я не верю… Остаться здесь? Продолжать пошловатые разговоры, обдумывать пошловатые приемы, с ключом, со сторожкой, с „Софи“, с „одной минутой счастья“… Да, не удалась жизнь… Придумать новую? Какую?.. Даже такому человеку, как Михаил, отпущена его „наука“, его любовь, его семейное счастье. А вот мне ничего не дал – почему-то поскупился – их Господь Бог, которому они сейчас пойдут молиться о том, чтобы их собаки затравили оленя…»
В полукруглую комнату заглянул секретарь и с измученной улыбкой сообщил, что сейчас будет подан традиционный луковый суп. «Но если неумно было, что я прискакал сюда по первому ее слову, то уехать не солоно хлебавши было бы глупее глупого… Конечно, сегодня или никогда… Мне казалось, что один раз я был на волосок… Все-таки ее слова не могли иметь другого смысла. Да, она больше всего боится себя скомпрометировать. Она дорожит их „светом“ именно потому, что она парвеню. Связаться с другим парвеню, это ужасно. Она и есть княгиня Марья Алексеевна, да еще не настоящая. Говорят, что она внучка или правнучка кантониста… Я вижу, она хотела прельстить меня здесь „поэзией богатства“, – это ее милое словечко. Хороша поэзия! Нет, меня этим не прельстишь… Впрочем, она сама не знает, чего хочет, и от меня теперь зависит все…» Он встал и вышел из замка.
Через двор проводили собак. У фонаря капитан называл кому-то породы: фоксгунды, стэггунды, бассеты, брикеты. – «Если два праздных человека не знают, что с собой делать и чего они хотят, то трагедии в этом нет. Со стороны можно было бы сказать, что они бесятся с жиру. Непременно, непременно сегодня все решить! Если нет, вечером же уеду. И в Петербурге придумаю, что с собой сделать. Может быть, все-таки „Народная Воля“? Есть, конечно, нечто пошлое и оскорбительное для них в таком подходе к их делу: не удался романчик, – ведь со стороны это иначе, как „романчиком“, и нельзя назвать, – так я, друзья мои, иду погибать с вами за свободу отечества! Но так же люди часто уезжали на войну и половина исторических дел, наверное, имела причиной неудачу в чьей-либо личной жизни…»
– …Эти самые злые. Они ненавидят зверя и после того, как загрызут его, так что их долго потом и успокоить нельзя. Вот взгляните хоть на эту, – говорил капитан, показывая у фонаря на собаку, действительно, необычайно злую на вид. «Так и надо! Ненависть великая сила. Или, по крайней мере большое развлечение, придающее интерес жизни. Вот у Александра Михайлова это есть. В нем есть и очень многое другое, но есть немного и этого, он и охотник! И у них на их собраниях, перед каким-либо взрывом, верно, та же напряженная атмосфера охоты, как нынче у этих идиотов. Пошлая мысль? Поиски грязи? Но разве я виноват, что мне опротивело все, опротивели все!.. В этих вечных переходах, живопись, журналистика, революция, безобразно лишь то, что они у меня всегда кончаются пустяками. Если человек «мечется» и хоть в чем-либо успевает, то ему его мятущуюся душу вменяют в заслугу, и дураки даже вспоминают о Леонардо да Винчи. Если же он не достигает известности ни в чем, то его зачисляют в дилетанты и неудачники…»
Охотники, отправлявшиеся в деревню верхом, уже садились на лошадей. «Вот и он, Ганнибал…» Шлиффен, привыкший к кавалерийским лошадям, со снисходительной улыбкой смотрел на гунтера, которого к нему подводил конюх. Он сел, разобрал поводья и медленно поехал к воротам. «Сияет, как медный грош! Конечно, и в его проклятых Каннах есть охотничьи инстинкты, и черт их разберет, от чего что идет. А все-таки хорош на коне, и в том, как он „вскочил на коня“, десяток поколений тяжеловооруженных!» – думал Мамонтов, провожая злобным взглядом немецкого полковника.







