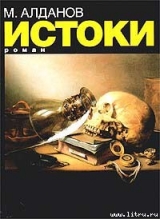
Текст книги "Истоки"
Автор книги: Марк Алданов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 58 страниц)
Перед выходом император Александр в своих комнатах первого этажа прочел несколько верноподданнических адресов. Хотя со дня покушения Соловьева прошло уже немало времени, адресы по случаю спасения царя еще приходили каждый день с разных концов России. Как ни много их было, он читал их от первого слова до последнего. Теперь царь верил им меньше, чем прежде; все же чувства, высказывавшиеся в адресах, вызывали у него удовлетворение и благодарность. В этот день министр двора представил шесть адресов: от двух дворянских собраний, от трех городских дум и от владикавказской еврейской общины. Царь написал на каждом несколько благодарственных слов. Затем он еще раз просмотрел обряд крещения: на листе великолепной бумаги великолепным почерком было написано, что ему полагалось делать. Узнав от министра, что некоторые придворные чины по нездоровью сегодня не явились, он подумал и приказал взыскать с каждого по 25 рублей «на молебен об их скорейшем выздоровлении».
– Так делала матушка Екатерина, у которой мы нынче в гостях. Ее апартаменты как раз над этими. Там, бывало, «изволила забавляться в карты и танцевала контртанец, и играно бывало на скрипицах», – сказал он с усмешкой, показывая рукой на потолок. – Умная была дама, но во многом ошибалась. Польшу разделила, это было печальной ошибкой, за которую довелось расплачиваться мне. Так всегда бывает, внуки платят по счетам дедов.
Граф Адлерберг слабо улыбнулся, сочувственно на него поглядывая, и взял со стола бумаги.
– Пожалуй, время, ваше величество. Двадцать минут одиннадцатого.
Позднее знакомые говорили Софье Яковлевне, что безвыходное положение между императрицей и княжной сильно отражается на здоровье царя, что на нем очень сказалось пребывание на фронте в пору турецкой войны. «По доброте своей, государь плакал на виду у всех, провожая в бой каждую дивизию», – объяснил кто-то Софье Яковлевне. Никто не говорил, что император страдает от всеобщего к нему охлаждения и еще больше от всеобщей ненависти к княжне.
Александр II никогда не был мизантропом. Но, как все правители, долго бывшие у власти, он знал и, может быть, даже преувеличивал человеческое раболепство. В этой зале собрались тысячи раззолоченных, знатных, чиновных, в большинстве богатых людей; проходя мимо них и благожелательно отвечая на их низкие поклоны, царь устало думал, что все они – или почти все – стремятся к получению от него должностей, чинов, наград, денег. По-настоящему теперь его любила лишь одна женщина.
Никто не говорил и о том, что здоровье императора могли подорвать шедшие глухие слухи, будто на него готовятся новые покушения. Александр II часто думал об этих неизвестных ему таинственных людях, которые собирались его убить. По полицейским донесениям, это были в большинстве студенты или бывшие студенты. На фронте полтора года тому назад он видел немало студентов, работавших добровольцами в санитарных дружинах, и они своим самоотверженным, тяжелым, грязным трудом приводили его в восторг, о котором он говорил и писал близким людям. Солдатское дело было ему привычно – в той форме, в которой оно может быть привычно царям. Он сам был всю жизнь офицером, знал, понимал и любил жизнь офицерства. Но в походных лазаретах на Балканах грязь и ужасный воздух вызывали в нем такое отвращение, что он едва мог оставаться с ранеными требовавшиеся десять или двадцать минут: поспешно раздавал награды, поспешно говорил полагавшиеся слова и уезжал, причем в самом деле нередко плакал: быть может, все-таки было бы лучше пренебречь требованиями общества, предоставить славян их судьбе и не объявлять войны туркам. Он знал также, что студентами были до призыва очень многие новые офицеры, уступавшие кадровым по выправке и знанию дела, но не уступавшие им в храбрости и старавшиеся им подражать в манерах. «Кто же эти? Конечно, в семье не без урода», – старался себя утешить он, читая рапорты, которые ему представлялись ежедневно. Иногда на его утверждение представлялись приговоры судов, – он то утверждал их, то не утверждал и чувствовал, что запутывается все больше. Когда он смягчал приговоры, казавшиеся ему слишком жестокими, против этого почтительно возражало Третье отделение. Он знал цену людям Третьего отделения, но они охраняли его и княжну. Царь склонялся то к либеральным, то к реакционным мерам, то шел на уступки, то брал их назад и совершенно не знал, что ему делать.
«Кажется, он и его отец и довели пышность до этих нигде не виданных высот». – Софье Яковлевне не раз приходилось слышать технические споры старых дипломатов о том, кто лучше в своей роли: Николай или Александр? «Какой это французский актер говорил о Николае: „I a le physique de son emploi…“[159]159
Его вид соответствует его положению… (франц.)
[Закрыть] Нет, он, верно, еще лучше! И в Европе сейчас такого нет. Вильгельм слишком бюргер, Франц-Иосиф недостаточно высок ростом, о Виктории говорить нечего», – восторженно думала Софья Яковлевна, провожая царя влюбленным взглядом. Несчастная любовь к пышности не очень вязалась с переменой в ее чувствах, но она знала, что никогда ее в себе не преодолеет. – «И какая величественная благожелательность ко всем!» Она не догадывалась, что царь держал на лице эту маску просто по долголетней привычке. В действительности, все ему надоело, тяготило его и утомляло.
В церковь допускались только самые высокопоставленные люди. Софья Яковлевна решила не дожидаться конца богослужения. Мысли о болезни царя теперь смешались у нее с мыслями о болезни Юрия Павловича. При выходе из ворот дворца она на мгновение остановилась, придерживая рукой шлейф. В сильно поредевшей толпе, поглядывавшей на нее, как ей казалось, со злобой и насмешкой, Мамонтова не было. «Ну, разумеется! Какой вздор! Конечно, это была шутка, и слава Богу, что он не приехал!..» Ей теперь было ясно, что он не выходил у нее из памяти даже тогда, когда она говорила и думала о другом.
Мамонтов был утром в Царском Селе. Он проспал, проклинал себя за это и поспел к воротам дворца уже после того, как проехали придворные кареты, доставившие с вокзала приглашенных. Николай Сергеевич в дурном и все ухудшавшемся настроении духа постоял с полчаса у ворот, погулял вдоль дворца, растянувшегося фасадом чуть не на полверсты. В сады никого не пускали. Везде стояла охрана, – этого прежде не бывало. Люди мрачного вида подозрительно оглядывали Мамонтова.
Он думал, что этот несимметричный дворец с золотыми кариатидами у окон, с фантастическими галереями и садами, с янтарными комнатами и зеркальными залами – настоящее чудо русского искусства. «Весь этот пейзаж не менее русский, чем московский Кремль, и уж, конечно, более русский, чем какая-нибудь Кострома: тут настоящая, уже цивилизованная, Россия, а не предисловие к России, длиннейшее, скучноватое, нам теперь непонятное. Что в том, что строителем дворца был итальянец? Во-первых, Растрелли дал только идею, планы ансамбля, некоторые чертежи, а все чудо создали тысячи никому не известных русских людей, не оставивших потомству и своего имени. А кроме того Растрелли, быть может, чувствовал Россию, русскую душу, русский пейзаж гораздо лучше, чем какой-нибудь московский боярин, отроду не выезжавший с Остоженки или с Лубянки. Только у гениального человека, почувствовавшего все это, могла явиться мысль – построить на северных снегах южный дворец и сделать русским итальянское».
Со стороны Запасного дворца показался поезд новорожденного. Вид золотых карет, придворных, конвоя, лакеев в красных ливреях и в треуголках с перьями вызвал у Николая Сергеевича крайнее раздражение. «Хвастают своим богатством не лучше, чем богачи из мещан. Покойный отец удивлял купцов-соседей фаэтоном от Иохима, а они – золотыми каретами… Ей же все это нужно, как воздух! Она почти так же мало принадлежит к этому миру, как я. Да в сущности, за исключением одной семьи, здесь все – те же лакеи, здесь Рюриковичи отличаются от „скороходов“ только видом и цветом ливреи. Действительный аристократизм ненамного лучше мнимого, а уж у нее-то он совершенно мнимый. Нет, ждать, как идиот, до третьего часа, я не буду!» Экстренный поезд приглашенных отходил назад в Петербург лишь в 2 часа 25 минут. – «Не буду ждать, я ей не мальчишка!» – думал он, точно Софья Яковлевна пригласила его в Царское Село. «И с ней тоже все вздор! Разбита жизнь, не удалась жизнь!..»
По дороге домой Мамонтов почти решил, что присоединится к революционному движению.
VIII
Софья Яковлевна предполагала сама встретить на вокзале профессора Билльрота. Но в день его приезда у нее разболелась голова. Чернякова, которому послали записку, не оказалось дома, и пришлось попросить поехать на вокзал Петра Алексеевича.
– Я не возлагала бы на вас эту обузу, дорогой доктор, если б не чувствовала себя гак плохо, – сказала Софья Яковлевна, сидевшая в гостиной, против обыкновения, не на стуле, а на диване с флаконом солей в руке. – Надо беречь силы перед завтрашним днем.
– Да, вам надо себя поберечь, – ответил Петр Алексеевич. Он посмотрел на нее и вздохнул. – Разумеется, я поеду на вокзал. Одно только: по-немецки я читаю более или менее свободно, но по части разговора совсем швах. Вероятно, Билльрот говорит по-французски. Ничего, как-нибудь сговоримся.
– Я вам страшно благодарна… Впрочем, мне наскучило постоянно вас благодарить. Но узнаете ли вы его на вокзале?
– Если я не узнаю, то ведь не узнаете и вы. Я видел его фотографии, он, говорят, немного похож на Леонардо да Винчи… Кроме того, как врачу чутьем не узнать Билльрота! От него верно исходит этакое медицинское сияние, – говорил Петр Алексеевич, старавшийся шутливым тоном подбодрить Софью Яковлевну. – Кстати, об его приезде уже прошел слух по всему Петербургу. Меня человек восемь коллег умоляли «дать им Билльрота» для их пациентов. Другие просто желали бы предстать пред светлые очи. Ведь он в хирургии тот же царь. Надеюсь, вы ничего не будете иметь против того, чтобы они завтра к нему сюда заехали?
– Разумеется, ничего… Но ведь после? – спросила Софья Яковлевна, разумея «после операции». Теперь в доме говорили просто: «до», «после».
– Большинство – после. А трое хотели бы видеть, как оперирует Билльрот.
– Это уж пусть он сам решает. Конечно, пусть другие больные воспользуются его приездом. Конечно! – горячо сказала она. «Как подобрела, бедняжка… Вот и своего Билльрота отдает напрокат страждущим», – подумал доктор. Он очень любил Софью Яковлевну, в последнее время полюбил даже Дюммлера, но всю эту неделю был настроен раздраженно-саркастически.
По дороге на вокзал Петр Алексеевич волновался. Предполагалось, что он изложит Билльроту историю болезни. «Как же я это ему к черту изложу, хотя бы даже и по-французски? – сердито думал он. Для храбрости доктор выпил в вокзальном буфете бутылку пива, – было очень жарко. – И неужто ему говорить „Ваше превосходительство“? Нет, лопну, а не скажу!» Как всегда при, встрече с незнакомым человеком, Петр Алексеевич конфузился из-за своего роста.
Он гулял по перрону, готовя начальную фразу, и одновременно думал все о том же, о странной новости, недавно сообщенной ему Софьей Яковлевной. Доктор не был влюблен в Лизу Муравьеву или был в нее влюблен не больше, чем в некоторых других женщин. Тем не менее ему было неприятно, что она выходит замуж за Чернякова. Елизавета Павловна еще не вернулась из Липецка. «Воды оказались ей очень полезны», – низким баритоном говорил тогда Михаил Яковлевич за ужином у сестры. Софья Яковлевна, по-видимому, не находила ничего странного в том, что невеста ее брата не приехала с ним в Петербург. Но Петр Алексеевич знал, что Лиза совершенно здорова и что воды они же с ней сами выдумали.
За ужином Черняков почему-то счел нужным показать телеграмму, полученную им из Эмса от его будущего тестя. Павел Васильевич выражал радость, – хотя как будто ее можно было бы выразить горячее, – поздравлял дочь и Михайла Яковлевича, без настойчивости предлагал ускорить свое возвращение в Россию. «Все это странная история», – думал доктор, гуляя по перрону, нервно поглядывая на часы и стараясь угадать, где остановятся вагоны первого класса. «Впрочем, так и быть, скажу ему „Эксцелленц“. Маслом каши не испортишь…»
Когда поезд подошел, доктор побежал вдоль вагонов, всматриваясь в выходивших людей, и встретил Билльрота в конце перрона. Петр Алексеевич тотчас его узнал, хотя сходство с Леонардо было весьма небольшое, – узнал даже не по фотографии, а просто нельзя было не узнать, – «в самом деле в нем что-то такое есть!», – подумал доктор, подбегая. Билльрот, плотный, осанистый человек с большой седеющей бородой, с очень умным, благодушным лицом, быстро шел к выходу, держа в левой руке дорожный несессер, а в правой небольшой кожаный ящик, очевидно, с инструментами. Увидев подбегавшего к нему растерянного человека, он остановился с вопросительной улыбкой. Петр Алексеевич что-то говорил, якобы по-немецки, стараясь отобрать у него ящик, Билльрот отдал ему несессер, взял ящик в левую руку и, сняв ею перчатку с правой, крепко пожал руку доктору.
– Я знаю, у вас снимают перчатку, я был в России, – сказал он. – Очень рад познакомиться, коллега. Как больной?
Однако Петру Алексеевичу не пришлось ни сообщать о больном, ни объяснять, почему не приехала на вокзал госпожа фон Дюммлер (об этом его настойчиво просили и Софья Яковлевна, и Юрий Павлович): к ним быстро подходил Черняков; вернувшись домой, он получил записку сестры и успел вовремя приехать на лихаче.
– Дас – брудер геррин Дюммлер[160]160
брат госпожи Дюммлер (нем. Bruder Gerrin Dümmler).
[Закрыть], – запинаясь, сказал Петр Алексеевич. Черняков только на него посмотрел.
– Профессор Билльрот? Чрезвычайно рад знакомству, – поспешно сказал Михаил Яковлевич. Теперь все пошло прекрасно.
– …Да что вы, зачем же было приезжать жене пациента? И вы напрасно побеспокоились. Ведь я знаю адрес, – сказал Билльрот и назвал по-русски улицу Дюммлеров, смешно произнося русские слова. – Очень рад буду увидеть опять Петербург. Какой прекрасный город! Мне его показывал профессор Богдановский, когда я приезжал к этому бедному поэту… Некрасов… Очень, очень его жаль. Говорят, это был замечательный поэт? Но его страдания были невыносимы, смерть его от них избавила, – говорил он, поглядывая по сторонам, очевидно, всем интересуясь.
Носильщик принес довольно потертый чемодан. Они вышли из вокзала. Билльрот, не переставая разговаривать, с любопытством оглядел орловских рысаков Дюммлера, предложил Чернякову сесть в коляску первым, – от чего тот отказался, – предложил доктору сесть между ними, – от чего тот тоже отказался (на скамейку сел Михаил Яковлевич). Экипаж покатил по улицам. Билльрот не переставал любоваться ими и, расспрашивая о положении больного, вставлял: «Ах, какая прекрасная площадь!» или «А это чей же дворец?»
Познакомившись с Софьей Яковлевной, на красоту которой он, видимо, обратил внимание, Билльрот внимательно выслушал ее рассказ о болезни, задал несколько вопросов и прошел к себе. Ему были отведены в первом этаже, рядом с гостиной, кабинет Юрия Павловича и соседняя с кабинетом комната. Умывшись и выпив чашку чаю, он в старомодном черном сюртуке с бордюром поднялся во второй этаж, по дороге поглядывая на мебель и на картины.
На пороге спальной он на мгновение остановился и впился глазами в больного, затем подошел к кровати, представился и заговорил, плотно усевшись в кресле, которое ему пододвинул доктор. Петр Алексеевич сначала слушал с благоговейным вниманием, точно Билльрот должен был и расспрашивать больного не так, как другие врачи. Задавал он свои вопросы бегло, но ни одного из них не повторил и ни разу не свел с больного своих блестящих глаз. После каждого ответа он радостно кивал головой и говорил: «Хорошо»… «Очень хорошо»… «Превосходно»… Когда Дюммлер прошептал, что в последний раз боли были ужасающие, Билльрот мягко прикоснулся к его руке и сказал: «Да, да, я знаю, разумеется…» Лицо Юрия Павловича стало проясняться. Вскользь Билльрот сообщил, что, по странному совпадению, на прошлой неделе три раза вырезывал в Вене больным камни из желчного пузыря.
– И они живы? – еле слышно спросил Юрий Павлович. На лице Билльрота выразилось изумление.
– То есть, как живы ли они? Разумеется, живы и здоровы. – Он засмеялся. – От этой операции не умирают!.. Ну, теперь позвольте немного вас потревожить, – сказал он и принялся осматривать больного, причем опять все время повторял: «Gut»… «Sehr gut»… «Ausgezeichnet»…[161]161
«Хорошо»… «Очень хорошо»… «Превосходно»… (нем.)
[Закрыть]
– Так как же вы решаете, господин профессор? – спросил Юрий Павлович уже гораздо более ясным голосом.
– Тут и решать нечего, – весело ответил Билльрот. – Завтра же вырежем вам эти горошинки… В сущности, я не понимаю, для чего вы меня выписали? – обратился он к Софье Яковлевне. – Операция не серьезная, да у вас вдобавок есть превосходные хирурги. Я многому мог бы, например, научиться у профессора Пирогова… А вот до завтра вам придется поголодать, есть ничего нельзя, – сказал он Дюммлеру сочувственно, точно это во всем деле было самое неприятное.
В спальную поспешно вошел русский профессор, лечивший Юрия Павловича. Почти одновременно приехали и другие врачи. Софья Яковлевна представляла их Билльроту. Одного из них он встретил как старого друга. Но когда доктор упомянул об их встрече у постели Некрасова, Билль-рот мгновенно заговорил о красоте Петербурга. Он никогда в присутствии больных не говорил о скончавшихся пациентах.
Врачи удалились в кабинет Юрия Павловича. Начался консилиум, – быть может, двадцатый по счету в этом кабинете. «Завтра утром… Завтра утром», – думала Софья Яковлевна. Голова у нее болела все сильнее. Все, собственно, было предрешено еще до приезда Билльрота, но у нее до сих пор оставалась маленькая надежда: что если этот знаменитый человек вдруг все отменит, назначит другое, и Юрий Павлович выздоровеет без операции? Чуть пошатываясь, она вышла в гостиную. Черняков, читавший газету, быстро поднялся навстречу сестре.
– Ну что? Что он сказал?
– Завтра операция, – тихо ответила она, опускаясь в кресло. – Миша, прошу тебя, останься с ним вечером, я больше не в силах… Я больше не в силах…
Она заплакала. Михаил Яковлевич смотрел на нее, вздыхал и не знал, что сказать.
– Хочешь воды? – придумал он.
– Нет… Спасибо…
– Конечно, я останусь. Но почему ты нервничаешь? Ведь его и вызвали для операции.
– Да… Да, да…
– Бог даст, все сойдет хорошо. Ведь он маг и волшебник.
– Бог даст… Бог даст… Миша, позаботься о том, чтобы он всем был доволен… Я не в силах… Я просто не в силах…
– Может быть, и чек ему сунуть на его десять тысяч, чтобы он не волновался. Хотя нет, ты права, не надо: он, конечно, верит, да еще обиделся бы… Будь совершенно спокойна, я все сделаю, – сказал Черняков и с облегчением вышел в столовую. Там стол был накрыт на четыре прибора.
– Икра сегодняшняя? – спросил Михаил Яковлевич лакея уже веселее. Михаил Яковлевич был очень расстроен своей историей с Лизой, он волновался также из-за болезни зятя, но перед хорошим обедом настроение у него всегда улучшалось. «Надо, надо сегодня выпить: горя достаточно, и своего, и чужого…»
– Так точно. Утром от Елисеева привезли.
– Отлично… Вы ее так и оставьте в байке, Никифор. Незачем перекладывать в вазочку. На тарелку насыпьте побольше льда, чтобы не согрелась…
Он отдал еще несколько распоряжений, спрашивая о блюдах. «Как никак, у немца, после бирзуппе, будь он там хоть разгофрат и разэксцелленц, глаза разбегутся от двухфунтовой банки икры», – подумал Черняков и велел подать лафит и шато-икем, лучшие вина в погребе Дюммлеров. Шампанское не годилось ввиду праздничного характера этого вина.
Михаил Яковлевич вернулся в гостиную лишь тогда, когда оттуда послышались голоса. Консилиум кончился. Было принято решение произвести операцию на следующий день в десять утра. Профессора прощались с Софьей Яковлевной и, сочувственно на нее глядя, советовали ей «хорошенько выспаться и отдохнуть». После их отъезда она увела Билльрота в другую комнату.
Петр Алексеевич, бледный и измученный, прошел в переднюю почему-то на цыпочках. К его изумлению, на консилиуме Билльрот выразил мнение, что надежды на благополучный исход операции очень мало. – «Если б это еще были только камни, – сказал он негромко, оглядываясь на дверь, и не докончил фразы. – Однако, я с вами совершенно согласен: другого выхода нет». На этом консилиум и кончился.
– Петр Великий, а Петр Великий, – окликнул доктора Черняков. – Куда вы? Вы хотите отдать меня на съедение немцу? Ну, это дудки! Оставайтесь обедать, все-таки вдвоем легче.
– Софья Яковлевна не обедает? – спросил доктор, остановившись. Михаил Яковлевич посмотрел на него, хотел было задать вопрос и не задал. Ему не хотелось расстраиваться перед обедом. – Ну, что ж, я, пожалуй, останусь. Я собирался наскоро где-нибудь перекусить и вернуться.
– А что, приятно, Петр Великий, когда этакий, можете себе представить, Билльрот называет нас «герр коллеге»?.. Кстати довожу до вашего сведения, что госпожа по-немецки – «фрау», а «геррин» это «властительница», «владычица» и всякое такое.
– Все равно. Один черт!
– Я велел подать шато-икемцу, – сказал Черняков. Доктор сердито на него посмотрел. – Так вы идите в столовую, а я пойду за ним.
Вид стола с банкой икры и с запыленными бутылками как будто в самом деле произвел приятное впечатление на Билльрота. Он ел и пил за двоих. «Икру слопал прямо, как какую-нибудь Боснию!» – думал Михаил Яковлевич, не отстававший, впрочем, от гостя. Разговор между ними не умолкал ни на минуту. Доктор почти не принимал в нем участия, и не только потому, что плохо знал немецкий язык. Петр Алексеевич был очень расстроен. Черняков, с которым он был всегда дружен и который с прошлой недели стал ему неприятен, теперь раздражал его тем, что больше думал о шато-икеме, чем о сестре и об ее умирающем муже. Некоторое разочарование вызвал у Петра Алексеевича и Билльрот, в особенности своей актерской игрой в разговоре с больным. «Конечно, он, по существу, прав, но я не мог бы, просто не мог бы так лгать. Не мог бы и есть с таким аппетитом, если бы знал, что у меня завтра под ножом умрет пациент, хотя бы совершенно чужой человек. А еще говорят, он врач-гуманист…» Несмотря на свою уже немалую медицинскую практику, Петр Алексеевич не понимал, какое душевное облегчение испытывал за столом, в обществе молодых здоровых людей, Билльрот, проводивший всю жизнь в операционных залах.
– …Как вы хорошо знаете немецкий язык! А вашего зятя я просто принял бы за немца. Русские необыкновенно способны к иностранным языкам. Я все больше прихожу к мысли, что в Европе будущее принадлежит вашей стране. И врачи у вас превосходные. Я нигде не видел таких превосходных больниц, как в Петербурге, – говорил он совершенно искренне.
– Слышите, доктор, – сказал Черняков и для верности перевел Петру Алексеевичу слова гостя, приятно удивившие их обоих. – Вот только государственные дела у нас не блестящие, – обратился он к гостю. Михаил Яковлевич хотел узнать политические взгляды Билльрота.
– Ах, да, да… Ради Бога, объясните мне, что такое у вас происходит. Что означают эти ужасные покушения?
Узнав, что в молодой русской интеллигенции многие сочувствуют террору, Билльрот высоко поднял брови и даже открыл рот.
– Как же так? Я не понимаю… Зачем убивать чиновников? Ведь они делают то, что им приказано.
– Не каждое приказание надо исполнять, – вставил по-французски доктор. Билльрот смотрел на него изумленно.
– Как не каждое предписание надо исполнять? Но ведь человек лишится куска хлеба… Ну, хорошо, а покушение на царя? – Доктор чуть развел руками. Он о покушении Соловьева не высказывался и еще не имел твердого мнения. – Ведь ваш царь преобразовал Россию! Вспомните, какой была Россия при его отце… Нет, скажите мне, что такое вообще происходит в мире с молодежью! – сказал Билльрот и даже отодвинул бокал, в который ему подливал вина Михаил Яковлевич. – Вы знаете, мне иногда кажется, что мое поколение – последнее. На смену ему, быть может, идут люди, которые не будут ни любить, ни понимать культуру, искусство, радости жизни. Я говорю, разумеется, не о вас. Но я положительно больше не нахожу общего языка с молодежью, особенно в Пруссии, хотя я сам северный немец… А эта общая национальная ненависть!.. Не понимаю, просто не понимаю! Ведь я либерал и рационалист восемнадцатого века, случайно задержавшийся на земле, – сказал он с истинным сокрушением. Доктор хотел было ответить, что либерализм и рационализм восемнадцатого века кончились именно кровью, но не знал, как это объяснить на иностранном языке. Он за столом говорил не то, что хотел сказать, а то, что мог сказать.
– Меглих. Аллее меглих[162]162
Возможно. Все возможно (нем. Möglich. AIles möglich).
[Закрыть], – сказал он.
– А как насчет политики Австро-Венгрии? Или вы ею не интересуетесь? – спросил Черняков, желавший ругнуть австрийское правительство за Боснию и Герцеговину. Билльрот засмеялся.
– Was versteht der Bauer in Gurkensalat?[163]163
Что понимает крестьянин в огуречном салате? (нем.)
[Закрыть] – сказал он. – Впрочем, я и рад бы не интересоваться политикой, да разве это возможно, господин профессор? Вспомните слова Буркгардта: «Политика ломится в окно к тем, кто ее не пускает на порог». Но какая у нас в Вене политика? Основной принцип австро-венгерской государственной жизни: никаких важных вопросов не ставить, а на менее важные не давать ясных ответов… Нет, нет, мое поколение последнее, – опять повторил он то, о чем видно много думал.
Лакей принес бутылку коньяку. Билльрот приподнял ее с подноса, взглянул на надпись, радостно ахнул и, взяв штопор, сам в одно мгновение очень ловко откупорил бутылку. «Руки у него действительно золотые», – подумал Михаил Яковлевич, которому все больше нравился гость. Отпив с наслаждением из рюмки, Билльрот заговорил об Италии, где теперь находилась его жена с больной дочерью, об искусстве, о своем ближайшем друге Брамсе, причем рассказал о нем несколько анекдотов.
– Phantasie, Exzentricität, Narrheit, Genialität, wie liegt das alles so nahe beisammen! Nicht wahr, Herr Professor?[164]164
Фантазия, эксцентричность, сумасшествие, гениальность, – как все это близко одно к другому! Не правда ли, господин профессор? (нем.)
[Закрыть] – спросил он Чернякова. Михаил Яковлевич, мало интересовавшийся Брамсом, что-то промычал и подлил Билльроту коньяку. «Не много ли будет перед завтрашней операцией?» – с сомнением подумал Петр Алексеевич.
– Да, да, последнее поколение… А все-таки надо принимать жизнь. Ich bin doch ein Weltbejaher[165]165
Я ведь жизнелюб (нем.)
[Закрыть], – весело сказал Билльрот.
После кофе Черняков пошел наверх за сестрой. Венский профессор, немного понизив голос, с любопытством спросил Петра Алексеевича по-французски:
– Скажите, пожалуйста, коллега, кто эти люди? Что это за принцы? Они всегда так едят?
Доктор ответил, что Дюммлер не принц, но бывший министр, богатый человек. Билльрот вздохнул.
– Боюсь, что ему недолго осталось пользоваться своим богатством, – сказал он.
Вечером Билльрот, в сопровождении Софьи Яковлевны, Чернякова и доктора, обошел дом в поисках комнаты, которая лучше всего подходила бы для операции. Он предпочел бы сделать операцию в больнице, но большого значения этому не придавал и по долгому опыту знал, что богатые люди никогда на это не соглашаются. Петр Алексеевич предложил угловую гостиную. Билльрот не любил освещения с двух сторон. Зала была недостаточно светла.
– Не проще ли произвести операцию в спальной, чтобы не переносить его? – сказала Софья Яковлевна.
– Это совершенно невозможно, – кратко ответил Билльрот. За столом, в гостиной, на вокзале он разговаривал очень скромно. Но на консилиуме и тут, при отдаче распоряжений, тон у него был совершенно другой, чрезвычайно внушительный. Петр Алексеевич позавидовал: чувствовал, что у него не будет авторитетного тона, даже если он станет знаменитостью. «На сие впрочем мало надежды». – Больной ни в каком случае не должен видеть приготовлений к операции. Моральное состояние пациента имеет огромное значение, еще недостаточно оцененное наукой. Не правда ли, коллега?
– О я. Рихтиг! – сказал польщенный Петр Алексеевич.
– Очень важна воля к жизни у больного, – подтвердил Черняков больше для того, чтобы не молчать все время. После плотного ужина его клонило к отдыху. Билльрот на него покосился. Он не встречал пациентов, у которых не хватало бы воли к жизни.
– Скажем проще: не надо волновать больного, он и так перед операцией волнуется достаточно. Ну, так вот что: из комнат, которые вы мне показали, я выбираю ту, синюю, с тремя окнами. Только одно… – Он немного замялся, а затем сказал решительно: – В этой комнате прекрасная мебель, дорогие ковры. Как бы чисто хирург ни работал, остаются следы крови, карболки… Нет, нет, не говорите, что это не имеет никакого значения. Так всегда говорят перед операцией. А когда больной выздоровел, ругают хирурга: зачем испортил!
– Нет, я все-таки прошу вас с этим совершенно не считаться, – сказала Софья Яковлевна. Несмотря на благоговение, которым был окружен в доме Билльрот, в ее голосе послышалось раздражение. «Вот, наконец, сказался немец, а то он до неприличия был на немца не похож», – подумал Черняков. Петр Алексеевич не сразу понял, смутился и поспешно в полувопросительной форме высказал мнение, что в синей диванной слишком много ковров, гардин, мягкой мебели. Билльрот похлопал его по плечу.
– Я рад, что вы такой передовой врач, – сказал он. – Антисептика, да, да… Тот французский химик, который учит хирургов, как им надо делать операции… Милейший Джозеф Листер… Все это, конечно, очень ценно. Но у хирурга могут быть и другие соображения, кроме антисептики. Поверьте, самое главное в нашем деле: верный взгляд, познания, хорошие руки, быстрота работы. Я слышал, что Листер немного на меня сердится, – смеясь добавил он. – Нет, если вы не возражаете, мы остановимся на синей комнате.
Петр Алексеевич не возражал. В споре двух школ он был всецело на стороне новой. Ему было известно, кого разумеет Билльрот под французским химиком. Один петербургский ученый-врач, пробывший полтора года в командировке в Париже, рассказывал Петру Алексеевичу о борьбе, которую вел с врачами-практиками Пастер, никогда врачом не бывший. Хирурги, не верившие в существование микробов, доводили его до припадков дикого бешенства, вызывавших ужас у его учеников (эти припадки назывались «les fureurs de Monsieur Pasteur»[166]166
«Бешенство господина Пастера» (франц.)
[Закрыть]). Впрочем, в последнее время Пастер добился некоторых результатов: большинство хирургов теперь перед операциями мыли руки. Венская школа, во главе которой стоял Билльрот, тоже пошла на уступки.
– О я, дас нихт зер вихтиг[167]167
О, да, это не очень важно (нем. О ja, das nicht sehr wichtig).
[Закрыть], – сказал доктор.
– Найдется ли у вас в доме четырехугольный стол длиной в два с лишним метра и не очень широкий?
Софья Яковлевна в недоумении смотрела на Билльрота, на Петра Алексеевича. Она плохо представляла себе размеры столов в метрах.







