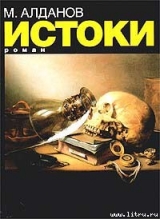
Текст книги "Истоки"
Автор книги: Марк Алданов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 58 страниц)
– Что я тебе говорил? Огромный успех! – сказал Николай Сергеевич. – Что это за штука?
– Большой успех! Три раза вызывали. Большой успех, – подтверждал Алексей Иванович.
– Правда, тебе понравилось? Ты не врешь? Смотри! Смотри, что я получила!
– Я видел, тебе что-то бросили справа. Очень красиво. Кто бы это?
– Говорят: государь, – сказала Катя, понизив голос до шепота и еще расширив глаза.
– Что за вздор! Его в цирке нет.
– Почем ты знаешь? Али говорит: он, быть может, инкогнито!
– Не иначе, как государь, – подтвердил Рыжков, делая знак Мамонтову. Но хотя Николай Сергеевич видел его знак, он решительно повторил, что государя в цирке нет.
– Адин порция бульон, – сказал Али-паша и протянул было свою огромную руку к браслету. Катя отдернула футляр.
– Так я вам, дяденька, его дала! Я и носить не посмею! – сказала она и поцеловала браслет, не вынимая его из углубления в бархате. – Вот он какой человек, государь! А ты еще говоришь, что он…
– Ну хорошо! Он, так он. Еще раз поздравляю. Так, значит, я вас буду ждать в нашем ресторане в шесть часов… Нет, подождать вас здесь я не могу, неотложное дело… Что же это вы, Алексей Иванович, подсовываете сопернику отточенную шпагу? Нехорошо… Впрочем, я сделал бы то же самое, – сказал Мамонтов. Но никто не улыбнулся в ответ на его шутку: он видел, что по такому случаю обязан был подождать их в цирке. Никакого дела у него не было; он даже не знал, куда пойдет до обеда. Николай Сергеевич просто почувствовал смертельную скуку, теперь столь ему привычную в обществе Кати и ее друзей. Хотя они больше в спектакле не выступали, им, по правилам товарищеской этики, неудобно уйти до конца генеральной репетиции. Да и нельзя было не обменяться впечатлениями, не установить, кому какой достался успех, не показать браслета. «Конечно, от какого-нибудь купца, они всегда после выпивки бросают подарки артисткам», – подумал, выходя, Мамонтов. Он был совершенно уверен, что государя в цирке нет. Тем не менее этот неожиданный подарок был ему неприятен.
III
Полгода, прошедшие после смерти Дюммлера, были самым худшим временем в жизни Софьи Яковлевны.
В пору медленного умиранья мужа у нее над всем преобладала жалость, желание его спасти или хоть облегчить его страданья. Но непрестанные заботы о нем совершенно ее измучили. Она ясно чувствовала, что его смерть принесла ей, кроме горя, облегченье, – как-то уживавшееся с горем. И это сознанье, от которого она не могла отделаться, вызывало у Софьи Яковлевны мучительные укоры совести. Друзья говорили ей, что она сделала для Юрия Павловича решительно все возможное, что нельзя было заботиться о нем лучше, чем заботилась она. Хотя это было правдой, у нее всякий раз появлялись на глазах слезы. Друзья думали, что она плачет, вспоминая Юрия Павловича. В действительности, она вспоминала то постыдное чувство облегченья.
Вначале Софья Яковлевна ни о чем не могла связно думать, просто по физической и душевной усталости. Затем почувствовала, что в ее жизни образовалась пустота, что ей больше нечего делать и больше не для чего жить. «Откуда ж пустота, если не было любви, если тогда стало легче?» – спрашивала она себя и не могла ответить. Ей было нечем заполнить часы, которые она прежде отдавала обществу, а в последние месяцы уходу за мужем, врачам, сиделкам. Теперь не было ни забот о больном, ни занятий, ни развлечений. В ее благоустроенном доме все шло само собой. То, что могло называться у богатых людей хозяйством, отнимало у нее не более десяти минут в сутки. Делами занимались управляющий и опекун Коли, которому Юрий Павлович завещал половину своего состояния. Сам же Коля все больше ускользал из-под ее влияния. Он был с ней ласков и, видимо, жалел ее. Однако ей было ясно, что она больше ему не нужна, что ему с ней скучно. Софья Яковлевна и прежде догадывалась, что Коля не любит отца; теперь ей казалось, что он не любит и ее. Зачем-то, больше по привычке и по своему властному характеру, она цеплялась за остатки своей власти, за свое право контроля, но это его тяготило и усиливало отчуждение между ними.
В первое время ее посещали друзья и близкие знакомые. Она думала, что в них не нуждается; визиты заполняли только небольшую часть ее дня, люди говорили пустяки о пустяках (все же иногда Софья Яковлевна слушала их не без интереса и сама этому удивлялась с неприятным чувством). Потом понемногу визиты прекратились. Чувство заброшенности, одиночества, безотчетной обиды у нее усилилось, хотя она понимала, что у всех есть свои дела и заботы, и помнила, какой corvée[182]182
обуза (франц.)
[Закрыть] были для нее самой в прежние времена такие визиты к находившимся в трауре людям; когда-то она шутила, что визиты соболезнования должны были бы запрещаться законом, и теперь ей было тяжело вспоминать эту шутку. Брат бывал у нее два раза в неделю. Она любила Михаила Яковлевича, он был самым близким ей человеком, единственным человеком, который знал ее всегда. Но Софья Яковлевна допускала, что, быть может, и он тяготится этими посещениями. Вдобавок, ей смутно казалось, будто в его жизни что-то неладно; она боялась спрашивать, ей теперь было не до чужого горя. Приблизительно раз в месяц с ним приходила его жена, бывала холодно-любезна и почти не разговаривала. «Странная особа. Elle me porte sur les nerfs»[183]183
Она мне действует на нервы (франц.)
[Закрыть], – думала Софья Яковлевна.
За этой темнотой был просвет: Мамонтов.
Тон его совсем изменился. В пору болезни ее мужа, почти до самого последнего времени, Николай Сергеевич говорил ей о своей любви. Она находила, что это неделикатно и даже просто грубо. Софья Яковлевна то переводила разговор, то резко его обрывала. Он со злобой подчинялся, но выражением лица как будто показывал, что не верит ей, что все это притворство, что она Юрия Павловича никогда не любила и любить не может. Теперь Мамонтов был чрезвычайно внимателен, деликатен, почти нежен. Однако иногда ей казалось, что этот тон принят им ненадолго: точно он дает ей какой-то срок для чего-то.
По молчаливому соглашению, он приезжал к ней раз в неделю в субботу. Почти бессознательно был выбран вечер, когда Коля не бывал дома. По вечерам гости и в первое время траура посещали ее редко; Софье Яковлевне было неловко перед лакеем, который подавал Мамонтову чай. Один раз Николай Сергеевич зашел еще в другой день – и по ее приему понял, что этого делать не надо. Именно в этот вечер она почувствовала, что его визиты теперь составляют единственную радость ее жизни, что она шесть дней в неделю живет в ожидании субботы.
Брат и друзья убеждали ее уехать отдохнуть за границу, ссылались на гнилой петербургский климат, точно этот климат, ей вдобавок с детства привычный, мог иметь значение. Однако в начале января Софья Яковлевна вдруг почувствовала себя худо. Появились грудные боли, под глазами обозначились черные круги. Болезнь и смерть мужа развили у нее мнительность, У него тоже все началось с груди, с легких, хотя его первая болезнь как будто не имела ничего общего с той, которая свела его в могилу. Петр Алексеевич ничего, кроме крайней усталости, у нее не находил, но Софья Яковлевна помнила Билльрота и думала, что Петр Алексеевич теперь ему подражает в манере успокаиванья больных. А главное, она вдруг почувствовала, что так больше жить не может, – хотя и не знала, как ей теперь надо жить. Она согласилась поехать в Швейцарию к знаменитому врачу, тотчас об этом пожалела, но взять назад согласие уже было бы трудно: так радостно оно было принято всеми. Ей казалось, что и друзья, и Петр Алексеевич, и даже брат желали бы от нее отделаться. – «То есть, как это ты не можешь оставить Колю? Это не разговор! – энергично сказал Михаил Яковлевич. – Он уже не ребенок, и я буду за ним следить». Коля с трудом скрывал радость. Он страстно хотел в первый раз в жизни остаться в доме один. Устроить его у Черняковых Софья Яковлевна не могла: у них не было лишней комнаты, да они его и не звали.
Только Мамонтов ничего не сказал, и лицо у него потемнело, когда она ему сообщила, что доктор убедил ее уехать.
– Куда?
– Петр Алексеевич советует в Швейцарию.
– Надолго?
– Я не знаю… Месяца на два… Мне надо вообще решить, что с собой делать, – сказала она и смутилась. Он взглянул на нее вопросительно.
Поездка была мучительной. Почему-то она не взяла с собой горничной, хотя на этом настаивали сын и брат. Михаил Яковлевич советовал ей отдохнуть день-другой в Берлине. Она вспомнила о больнице, о носилках и решила не останавливаться. – «Так хоть вызови эту твою Эллу, или как ее? Хочешь, чтобы я ей телеграфировал?» Но с Эллой тоже были связаны тяжелые воспоминания.
В Берлине она полтора часа ждала на вокзале. Носильщик поставил вещи около ее столика в ресторане, обещал прийти за ней и очень долго не приходил. Она сидела одна среди чужой толпы и чувствовала себя совершенно заброшенной. Ей никогда до того не случалось путешествовать одной. «Но мне ничего ни от кого и не нужно, мне ничего не хочется… Сейчас мне хочется только принять горячую ванну…» Софья Яковлевна вспомнила, как Мамонтов приехал провожать ее на берлинский вокзал, как они, по бессознательному соглашению, скрыли его приход от Юрия Павловича – и почувствовала к себе отвращение. Ей захотелось выйти на тот перрон, – она не сразу вспомнила, что это было на другом вокзале. Разносчик катил повозочку, на которой были книги и газеты. Она купила новый роман Золя. «Что он еще откопал грязного? И, вероятно, все правда…»
В женевской гостинице надо было записать имя. Это прежде тоже всегда делал Юрий Павлович. Из скромности он никогда не заполнял графы, где указывалась профессия. Она не записалась «фон Дюммлер», так как не хотела, чтобы ее принимали за немку. В «де Дюммлер» было бы что-то глуповатое. Софья Яковлевна просто указала фамилию. «Собственно, это ради него! Начало социального понижения», – с усмешкой подумала она и сама изумилась: точно в ней кто-то (уж конечно не она) допускал, что она может выйти замуж за Мамонтова!
Женевский профессор признал ее совершенно здоровой: «нервы и большая усталость, больше ничего». Это было единственной, недолгой радостью. Она опять написала Коле, опять написала Михаилу Яковлевичу, затем взялась за письмо к Мамонтову, которому обещала сообщить о своем здоровье. И по смущению, овладевшему ею после обращения «Милый Николай Сергеевич», ясно почувствовала, что здесь и есть теперь самое главное, единственное важное. Софья Яковлевна кратко сообщила, что профессор не нашел у нее ничего серьезного.
Поселиться надо было, очевидно, на курорте. У нее не было причины предпочитать один швейцарский курорт другому. Тем не менее она раза три переезжала, стараясь придумывать для этого доводы: один курорт был расположен слишком высоко, в другом было сыро, в третьем гостиница оказывалась недостаточно удобной. В отношении условий жизни она по-прежнему была очень требовательна, иногда сама себя ругала «капризной бабой». Никакого лечения профессор ей не предписал, и это осложняло жизнь, вместо того, чтобы упростить ее: воды, ванны, лечебные заведения помогли бы заполнить день. Одиночество в Петербурге было все-таки лишь условным. В Швейцарии одиночество оказалось настоящим. В первую неделю это было тяжело, потом стало почти невыносимо. Вдобавок, она плохо спала, постоянно меняла снотворные средства. Софья Яковлевна знала породу одиноких дам, которые по расстройству нервов могли жить только на курортах, проводили зиму в Ницце, весну в Монтре, лето в Баден-Бадене, осень в Сорренто, – и с отвращением думала, что может превратиться в такую даму.
Наименее плохое время суток было у нее в начале ночи, в постели, когда все в гостинице затихало. Действие порошка уже предвещалось легким, приятным кружением головы. Дурман точно развязывал ее мысли, как мысли Мамонтова развязывал алкоголь. В эти минуты она становилась откровенна с самой собой. Это было и стыдно, и мучительно, и вместе с тем радостно.
Эти минуты полной искренности она тоже приписывала его влиянию. «Неужели вам не надоело копаться в своей и чужой душе!» – как-то сказала она ему в сердцах. – «А вот вы попробуйте, это самый безопасный вид морфина, хоть не скажу, чтобы самый приятный», – мрачно ответил он. «Да, он, конечно, уверен, что я для чего-то играю роль неутешной вдовы», – думала она, представляя себе даже интонацию, с которой сказал бы это Мамонтов, если бы мог это сказать. Однако, и его интонацию она представляла себе почти без раздражения. «Худший его недостаток в том, что он не любит людей, не верит им, что он, с острым глазом на все дурное, не видит ничего, кроме дурного. Это неправда, я никакой роли не играю, мне незачем играть роль, и никакая роль мне ни в чем помочь не может: я просто очень несчастна. Моя жизнь кончилась, или, в лучшем случае, кончается. Мне нечего ждать, я не знаю, чего хочу… Так ли уж знает он сам, со всей своей внутренней самоуверенностью! Он правду говорит, что мы кое в чем похожи друг на друга. Но ведь это лишнее препятствие для дружбы… Да, для amitié amoureuse[184]184
любовная дружба (франц.)
[Закрыть]», – говорила она себе. Однако она знала, что amitié amoureuse не нужна ни ей, ни особенно ему. «Да, так чего же я хочу? Чего я боюсь? Неужто роль? Коля? Общественное мнение? Нет, вздор! Не надо думать об этом! Все вздор!» – почти с наслаждением прикрикивала она на себя. Просыпалась она с тяжелой головой, с сознанием, что перед ней опять пятнадцать часов, которые заполнить нечем, ею овладевала самая худшая, утренняя, тоска, и она мысленно подсчитывала, сколько времени еще надо пробыть за границей. «Если бросить лечение и вернуться, подумают, что я совершенно сошла с ума». Ей достаточно было представить себе недоумение брата, вытянувшееся лицо Коли, – она понимала, что раньше времени не вернется. «А вот он был бы, вероятно, счастлив…»
Она читала французские и английские романы, иногда дочитывала до конца, иногда бросала после первых страниц, если казалось скучно или не нравилось имя героини, или же если рассказ велся от имени «я»: почему-то ей казалось, что в этом случае обычная выдумка романистов становится вызывающей, «нахальной»: «Ничего с тобой этого не было, все ты врешь». Русских газет она не читала: нерасположение к ним перешло к ней от Юрия Павловича. В «Фигаро» просматривала заголовки. В курортных листках пробегала списки вновь прибывших и ловила себя на том, что ищет знакомых имен. По случайности, петербургских знакомых нигде не оказывалось. Иногда за целый день она ничего не говорила, кроме «подайте, пожалуйста, кофе», «велите затопить печь», «я завтра уезжаю…» Софья Яковлевна уверяла себя, что больше ничего не хочет в жизни, кроме покоя. «Жить до конца дней где-нибудь в одном месте, все равно где, видеть только людей, которых хочется видеть, и так, чтобы не приходилось думать, пойдет ли от этого гадкая сплетня».
В Монтре она неожиданно встретила принца и обрадовалась этому, как ни мало он был интересен и как ни смеялась она над ним прежде. Он давно принял тон ее поклонника, и это тоже было приятно, несмотря на глупость его цветистых комплиментов. Принц уезжал на следующий день во Францию. Он недавно купил там исторический замок, устраивал охоту для своих друзей и тотчас пригласил ее. Она печально улыбнулась и подумала, что вышла именно улыбка неутешной вдовы. Принц наклонил голову в знак того, что понимает причины ее безмолвного отказа, и сказал что-то очень восточное о преимуществе смерти перед жизнью. Они еще поговорили и вдруг он спросил ее о том русском художнике, которого когда-то у нее встретил. Он помнил даже фамилию Мамонтова, – ему была присуща профессиональная память владетельных особ. Выяснилось, что он искал для своего замка художника-пейзажиста.
Она была совершенно изумлена: в этом неожиданном вопросе было что-то загадочное, непостижимое и тревожное. Потом Софья Яковлевна подумала, что, быть может, до принца дошли какие-нибудь сплетни. Но он не был в Петербурге пять лет, и в его обществе ни ею, ни тем менее Мамонтовым никто интересоваться не мог.
Она ответила совершенно равнодушно, Связно в эту минуту Софья Яковлевна не думала ни о чем, за нее работал инстинкт, – как за Александра Михайлова в революционной деятельности. Она сказала, что, кажется, Мамонтов находится в Петербурге. – «Вероятно, он, как всегда, перегружен заказами… Если хотите, я его запрошу?» Затем она заговорила о Женевском озере, об его красотах, упомянула о Шильонском замке, перешла к замку, который приобрел принц, и проявила к этому замку такой интерес, что принц снова попросил ее приехать. Она сослалась на расстроенное здоровье и объяснила, что профессор рекомендовал ей «деревенский воздух, тишину без одиночества». Принц ответил, что его замок удовлетворяет этим условиям. Немного поколебавшись, она приняла приглашение и сказала, что, хотя сама не охотится, но рада была бы взглянуть на ночную охоту в лесу. – «Это, должно быть, очень красиво, настоящий клад для художника. Вероятно, мосье де Мамонтов не примет предложения, он слишком завален работой, но я могла бы вам рекомендовать еще несколько других пейзажистов, может быть, не столь известных, как он, однако тоже очень хороших…»
В эту ночь, на новом месте, в новой гостинице, Софья Яковлевна приняла два снотворных порошка. Она была взволнована, что приняла приглашение, которое просто невозможно будет объяснить брату, сыну, Петру Алексеевичу. Но еще больше ее взволновала проделанная ею небольшая комедия. «Даже следы замела!.. Что такое со мной творится!» Всего же страшней ей было то, что она в ближайшие дни встретится с Мамонтовым, – что они будут жить в одном доме среди незнакомых им, не интересующихся ими людей. Софья Яковлевна не сомневалась, что Мамонтов приедет. «Он может сказать Мише? Нет, не скажет… Еще умеет ли он писать пейзажи? Впрочем, принц ничего не понимает…» Разыскивая коробочку с пилюлями, она зажгла лампу на туалетном столике и долго смотрела на себя в зеркало. «Кажется, черные круги меньше, но хвастать нечем…» В кровати, пока мысли ее не смешались, она долго лежала с открытыми глазами. «Я не сообщу Мише, что еду в замок. Просто укажу французский курорт, а письма будут пересылаться… Иначе Бог знает, какая сплетня пойдет по Петербургу!» В первые годы ее замужества сплетники много ею занимались. «Тогда это было на почве злобы к parvenue. Теперь они забыли, что я parvenue, теперь просто было бы отвратительное злорадство, которое использовало бы мои годы, кончину Юрия Павловича, Колю…»
Наутро она проснулась с сознанием, что случилось нечто чрезвычайно важное, вспомнила о замке – и ахнула. «Кажется, я сошла с ума!» Одеваясь, Софья Яковлевна опять долго рассматривала себя в зеркало. При солнечном свете все было хуже, – немного хуже, но хуже. «Вздор, никуда я не поеду. А ему надо оказать эту услугу. У него, кажется, и денежные дела не очень хороши…» Проглотив чашку черного кофе, она села писать. Обычно она писала сыну, брату, знакомым в общих комнатах гостиницы, где были удобные письменные столы, но это письмо к Мамонтову написала почему-то в своей комнате; обдумывала каждое слово и едва ли не впервые в жизни два раза рвала лист на мелкие кусочки и начинала писать сначала.
IV
5-го февраля в Петербург, в гости к царской семье, приехал принц Александр Гессен-Дармштадтский с сыном принцем Баттенбергским.
Принц Александр, любимый брат императрицы Марьи Александровны, начал военную карьеру в гессенской армии, потом служил в кавалергардском полку, командовал кавалерией в кавказском походе князя Воронцова, еще позднее перешел на австро-венгерскую службу. Женат он был морганатическим браком на графине Гауке, дочери польского генерала русской службы и голландского происхождения. Один из его сыновей стал болгарским князем, спешно проходил курс болгарского языка и был горячим болгарским патриотом. Другой был британским морским офицером, влюбленным в славу английского флота. Сам принц Александр не совсем ясно представлял себе, какой патриотизм ему надо проявлять: гессенский, русский, австрийский, германский, если не болгарский и не английский по сыновьям. Он был старый боевой офицер, участвовал в многих сражениях, штурмовал Дарго, преследовал Шамиля и подобрал уроненный им Коран, был под Сольферино. Кампания 1866 года ему не удалась, его очень критиковали, он обиделся, вышел в отставку, поселился в имении, занимался искусством, науками, в частности, нумизматикой, и все отделывал и украшал свой хейлигенштадтский дом.
С Россией были связаны ранние и лучшие годы жизни принца. Но отношения его с русским двором были запутанные. Влюбившись в молодости в Юлию Гауке, он ее похитил, бежал с ней в Бреславль, был исключен с русской службы приказом Николая I, позднее был вновь на нее принят, затем сам ее оставил. Царь давно к нему охладел, как ко всей семье императрицы. В этот приезд принца Александр II не выехал встречать его на вокзал. Прежде иногда выезжал, хотя этикет и ранг гостя этого не требовали.
Со встречей вышла неприятность. Поезд немного опоздал и пришел лишь в три четверти шестого. Между тем в шесть часов в Зимнем дворце, в Желтом зале третьей запасной половины, был назначен семейный обед. Разные придворные, во главе с обер-гофмаршалом, ждали гостя в Салтыковском подъезде. Они посматривали на часы и переглядывались.
– Нельзя же все-таки заставлять государя ждать! – сказал князь Голицын, хотя было ясно, что принц не мог опоздать по своей вине.
– Снежные заносы в пути, – начал кто-то другой и не докончил: прибежавшие люди сообщили, что принц вошел во дворец с другого подъезда.
– Бог знает что такое! – сердито сказал Голицын заведующему дворцом генерал-майору Дельсалю. Его неудовольствие ни к кому в частности не относилось, но Дельсаль почувствовал себя виноватым и побежал на другую половину дворца. Теперь из-за недоразумения надо было изменить некоторые мелкие подробности встречи. Дельсаль на ходу соображал, что надо сделать. Отдав поспешно распоряжение внизу, он в возбужденном настроении быстро вошел в подъемный снаряд.
Машина поползла вверх. Вдруг раздался оглушительный удар. Клетка сильно покачнулась и стала. Что-то тяжело повалилось. Послышался страшный треск разбивающегося стекла.
– Это еще что такое? – закричал генерал. Служитель растерянно на него взглянул.
– Не могу знать, ваше превосходительство!
– Что глаза выпучил? Чтобы пошла машина!.. – заорал Дельсаль. Он во дворце не позволял себе народных словечек, – но во дворце было невозможно и то, что, очевидно, случилось. Подъемный снаряд остановился почти у уровня второго этажа. Дверь удалось отворить. Дельсаль выскочил и остановился в ужасе. Люстра свалилась, было почти темно, снизу неслись крики. «Господи! Что же это?.. Котел?.. Газ?.. Зачем орут?..» Вдруг повалил дым, запахло чем-то странным. Дельсаль схватился за голову и в полутьме побежал вниз. Он знал каждый закоулок в колоссальном здании. По-видимому, что-то произошло в первом этаже, со стороны главной гауптвахты. Крики усиливались, становились все отчаяннее, переходили в визг и стон. С разных сторон зазвенели звонки: часовые вызывали караул. «Пожар!.. Что же это?.. Где государь?» – на бегу, задыхаясь, подумал Дельсаль. Вдруг он вспомнил о «кроки». У него остановилось сердце. Он на мгновенье прислонился к стене, затем, ахнув, побежал, придерживая саблю, так, как не бегал со школьных времен.
Месяца два тому назад петербургский генерал-губернатор генерал-адъютант Гурко вызвал его к себе и, пожимая плечами, показал ему двойной лист почтовой бумаги с какими-то планами.
– Что скажете, батюшка, о сией штучке? Какой по-вашему croquis[185]185
эскиз (франц.)
[Закрыть]? – спросил Гурко. Дельсаль с недоумением осмотрел лист. На нем неровно карандашом было сделано несколько набросков, обозначенных номерами. В одном месте был поставлен кружок; были еще какие-то буквы, кресты. Как будто на втором рисунке изображалось расположение комнат в той части Зимнего дворца, которая выходила окнами на Адмиралтейство. Гурко своим трещащим резким голосом сказал, что «кроки» найден у какого-то арестованного крамольника. Дельсаль в изумлении раскрыл рот. Крамольники в Зимнем дворце, – этого его воображение не воспринимало.
– Да зачем же это может быть им нужно?
– Вот и я хотел бы знать, зачем, – ответил генерал-губернатор, тоже ничего не понимавший. – На всякий случай я вам, батюшка, посоветовал бы поговорить с этими… Ну, хотя бы с генералом Комаровым, – сказал он. – Ну, или там с кем найдете нужным, вам виднее.
Как все военные, Дельсаль недолюбливал полицию и поехал разговаривать неохотно. Комаров выслушал его рассказ равнодушно и без особого интереса. Все время со скучающим видом кивал головой, точно показывал, что ему это давно известно, как известно еще и многое другое: все предусмотрено и принято во внимание. Сам он Дельсалю ничего не сообщил: не то давал понять, что это его дело, не то намекал, что это не его дело. Однако составил протокол беседы и положил его в одну из папок, хранившихся у него в шкапу. После того, как бумага была положена в папку, Комаров, видимо, счел свою задачу совершенно законченной. Дельсаль простился с ним сухо. Впрочем, успокоительный тон жандармского генерала невольно на него подействовал, и он скоро перестал думать о плане с кружочком.
Звонок звонил протяжно-непрерывно. Теперь было ясно, что крики несутся из помещения главного караула. Вдруг впереди стало светло. Кто-то зажег лампу, ахнул и закричал диким голосом. Дельсаль подбежал к двери. У обвалившейся стены, в расходившейся луже крови, валялись люди. Почти у самых ног Дельсаля дергался в судорогах солдат с оторванными ногами. За ним дальше пол вогнулся, образуя впадину, и в нее змейками лилась кровь из отброшенной ноги солдата. По другую сторону впадины служитель отчаянно что-то кричал, показывая на потолок. Дальше везде лежали изувеченные окровавленные люди. Некоторые из них еще пытались привстать и снова падали. Другие несомненно были убиты наповал.
– Докторов! Зовите докторов! – не своим голосом закричал Дельсаль. Он подумал, что сегодня караульную службу несет лейб-гвардии Финляндский полк, почему-то вспомнил имя-отчество командира, подумал, что принц Гессенский уже наверное в Малом фельдмаршальском зале, где его должен был ждать государь. – «Господи!» – вскрикнул он и взглянул наверх. Над помещением главного караула как раз находилась та комната, где был приготовлен стол для царской семьи. Дельсаль опять схватился за голову. В потолке была дыра.
Отовсюду вбегали люди с лампами, свечами, фонарями. Дельсаль побежал, шагая через обвалившиеся камни стены, перескакивая через окровавленные тела, и с искаженным лицом выбежал в коридор, оставляя в нем кровавый след на полу. Голова стала у него работать. Он опять ахнул, вспомнив, что на том листе почтовой бумаги кружок стоял как раз на месте Желтой столовой. «А буква? буква где была?» Этого он вспомнить не мог, но это было и ненужно. «Убийцы тут, под полом!» – Под помещением главного караула в подвале было помещение, где жили столяры.
– Схватить!.. Арестовать столяров! Схватить всех столяров! – заорал он, сжимая на бегу кулаки.
Голицын ничего не сказал о недоразумении с подъездом, зная, что государь не любит ошибок в церемониале. Он просто доложил о приезде принца. Александр II сидел в кресле, устало откинувшись на спинку.
– Приехал? Верно, поезд опоздал? – зевая, спросил он и поднялся.
В этот день вручил свои верительные грамоты чрезвычайный австрийский посол граф Кальноки; церемониал приема, разговор с послом и с чинами посольства утомили царя совершенной пустотой, хотя и очень ему привычной. «Сколько времени на переливанье из пустого в порожнее. Просто погибаю от этого!» Потом он принимал еще каких-то ненужных и скучных людей. Теперь весь вечер приходилось отвести принцу Александру.
С ним были связаны очень далекие воспоминания, когда-то казавшиеся чуть не лучшими в жизни. Двадцатилетним юношей, объезжая в первый раз европейские дворы, после чудесной зимы в Италии, после веселой Вены, где он сводил с ума красавиц, царевич с Кавелиным, Жуковским и свитой прибыл в Дармштадт. Ему очень не хотелось останавливаться в захолустном гессенском городке, – уж столько было в этом путешествии убогих шлоссов[186]186
замок (нем. Sehloß).
[Закрыть], скучных немецких дворов, с плохими обедами, с еще худшими спектаклями в его честь. По его мнению, можно было обойтись и без встречи с гессен-дармштадтским великим герцогом. Но Жуковский и особенно Кавелин поднимали руки к небу: нельзя, никак нельзя! Он, досадуя, уступил и вначале все было так, как он ждал После невыносимого спектакля, он, проклиная судьбу, поехал в казачьем мундире в Шлосс. К обеду вышла пятнадцатилетняя девочка, показавшаяся ему небесным виденьем. Он был в ту пору влюблен в другую, но сразу перевлюбился и тут же почти решил жениться. Изумленный Жуковский растерялся, затем, по своей доброте, сказал, что дипломатически заболеет: тогда царевич, которого он обожал, мог, из внимания к его болезни, посидеть еще немного в Дармштадте и хоть ближе познакомиться с этой дочерью захудалого принца. После этого была поездка в Лондон, танцы с королевой Викторией, речи, парламент, докторский диплом в Оксфорде, – и новый приезд в Дармштадт уже для официального предложения руки и сердца. Великий герцог не мог опомниться от свалившегося на него счастья. Среди незамужних европейских принцесс началось уныние: наследник русского престола считался «лучшим женихом в мире». И вместе с ним и с его невестой тогда по лесам бегал ее шестнадцатилетний брат Алекс. – Теперь они с принцем Александром были стариками, а кончина императрицы Марии ожидалась со дня на день.
В сопровождении Голицына император пошел в Малый фельдмаршальский зал. В зале уже собрались люди, раньше ждавшие гостя в Салтыковском подъезде. Некоторые из них еще тяжело переводили дыхание, так как почти бежали, чтобы занять места до прихода государя. Впрочем, принц Гессенский, догадавшись о недоразумении, нарочно задержался внизу и шел очень медленно, чтобы привести церемониал в порядок. Когда он. в сопровождении сына и раззолоченных людей, появился в зале, царь, улыбаясь, пошел ему навстречу. «Господи, как он изменился! Это темное лицо!» – успел подумать гость.
– Шастлиф увидет ваше велитшество ф добром сдорови, – сказал принц, заранее приготовивший эту фразу.
– Mais vous n’avez pas oublié votre russe! C’est merveilleux[187]187
Но вы не забыли русский язык! Это великолепно (франц.)
[Закрыть], – сказал государь. В эту минуту послышался страшный удар, за ним долгий, все нараставший треск тысячи падающих стекол. Люстры погасли.
Принц Гессенский не знал, что ему надо делать: подобное происшествие не было предусмотрено ни гессен-дармштадтским, ни русским, ни австрийским этикетом. Александр II отправился к раненым в помещение главного караула. Немного поколебавшись, принц решил, что ему последовать туда за царем неудобно. Он прекрасно понимал, что его приезд еще усиливает расстройство хозяев: им совестно перед иностранным гостем. Идти в отведенные ему покои и оставаться там, пока не позовут, было тоже нехорошо: это могло бы быть истолковано как недостаток участия. Гость, попавший в чужой дом, в котором только что произошло несчастье, мог бы уехать домой. Принцу уехать было некуда. Он остался в Малом фельдмаршальском зале и, в ожидании появления кого-либо из членов царской семьи, вполголоса переговаривался с сыном, с князем Голицыным, который, с трясущимся лицом, отвечал невпопад.







