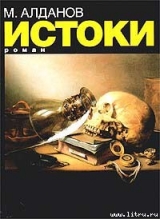
Текст книги "Истоки"
Автор книги: Марк Алданов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 58 страниц)
Вернувшись в «Кайзергоф», она села у отворенного окна, долго плакала и курила одну папиросу за другой. Ей казалось, что она и сюда привезла лекарственный запах лечебницы, все время ее преследовавший. «Господи, что делать? Что же мне делать? Как ему помочь?» Она чувствовала себя виноватой, что не любила мужа, что, не любя, вышла за него замуж, что теперь не имела сил всецело отдать ему жизнь. «Уж не покраснела ли я, когда он спросил о Николае Сергеевиче?» – с негодованием на себя – и на Мамонтова – подумала она. Краснеть было не от чего. Но прошлой ночью Николай Сергеевич ей приснился. Сон был нелепый, непонятный, с указанием на двойную жизнь, как столь многие сны. Ей снился человек, которого она никогда не видала, он что-то ей о себе рассказывал. Потом внезапно оказывалось, что это Мамонтов. Однако все, что этот человек ей до того о себе сообщил, очень к Мамонтову и подходило. «Точно какая-то повесть, кто-то заранее сочинил фабулу и подготовил развязку! Как это происходит? В чем дело? Непонятно… И почему он вообще мне снился?.. Но мне и Элла снилась, у меня сны обыкновенно бывают самые глупые и прозаические, вроде того, что я потеряла сумку с нашим паспортом и с двадцатью двумя марками, – именно с двадцатью двумя!»
Скоро она успокоилась и приняла холодную ванну. Тот же профессор, который лечил Юрия Павловича, вскользь, в разговоре, ссылаясь на жару, рекомендовал ей холодные ванны, хотя она ни на что не жаловалась и ни о каком совете не просила. Почему-то его совет был неприятен Софье Яковлевне. Но после ванн она действительно чувствовала себя лучше. Одеваясь, она думала о письме к Коле и к брату. «Это хорошо, что Коля стал увлекаться рисованьем. Нельзя ли найти в Сестрорецке учителя? Если б я была
там, я нашла бы…» Неожиданно у нее скользнула мысль, что несчастья имеют особенность: они всегда приходят необычайно некстати. «То есть главное, конечно, что они – несчастья, но…» Ей, впрочем, было бы нелегко объяснить, в каком смысле «некстати» случилась болезнь Юрия Павловича.
Они были женаты семнадцать лет. Софья Яковлевна неохотно вспоминала о том, как вышла замуж. Ей, впрочем, казалось, что приблизительно так же находит себе женихов большинство девушек, – «иных способов, к сожалению, мало». Она была не хуже других, читала стихи, читала романы, мечтала о всевозможных героях от Манфреда до Дубровского, была раз влюблена в одного бедного молодого человека. Но молодой человек был влюблен в другую, богатую барышню. Манфреды так и не появились. Когда в поле ее операций внезапно и случайно попал Дюммлер, дело решилось – отчасти потому, что она хотела показать молодому человеку (с которым, впрочем, больше никогда не встречалась). В ход были пущены все стратегические приемы, кампания продолжалась не более месяца и кончилась полной ее победой. Дюммлер, точно зачарованный, пошел на «мезальянс», – самая мысль об этом за месяц до того показалась бы ему нелепой.
Он нисколько не был противен Софье Яковлевне, – этой формулой «нет, он нисколько мне не противен, он не безобразен, в нем есть большие достоинства» она мысленно и пользовалась в пору кампании; все же формула начиналась со слова «нет». Софья Яковлевна своего добилась. Правда для некоторых кругов Петербурга сам Дюммлер был homo novus[113]113
новый человек, выскочка (лат.)
[Закрыть], а о ней не приходилось говорить. Еще сравнительно недавно какая-то дама, в присутствии некоторых общих приятелей, называла ее выскочкой и говорила, что «не пустит ее к себе на порог». Это вскоре дошло до Софьи Яковлевны, которая весело смеялась, отлично скрывая злобу. Ей, впрочем, было известно, что кое-кто, тоже с известным правом, считает «выскочкой» эту даму, что равенства нет нигде, что его нет даже между великокняжескими дворами, так как существуют великие князья очень богатые и менее богатые, очень близкие и менее близкие к Зимнему дворцу, вокруг которого, как планеты вокруг солнца, расположены были их дворцы. Над всеми, на необычайной высоте, находился государь, совершенно не интересовавшийся равенствами и неравенствами. «У меня он был, а у некоторых великих княгинь годами не бывает, у Ростовцевой пробыл чуть не три часа, а у этой дуры не был ни разу», – думала Софья Яковлевна, разумея под дурой даму, которая «не пускала ее на порог». «Если бы в России и сейчас, как при Павле, аристократом был лишь тот, с кем разговаривает государь и пока он с ним разговаривает, все совершенно спуталось бы. Да он таков и в общении с монархами: с Франц-Иосифом холоден и сдержан, а из какого-то захудалого принца чуть не сделал себе друга!»
Теперь ее положение было прочно, но отчасти держалось на должности Юрия Павловича. Софья Яковлевна не думала о возможной смерти мужа: кто-то в ней об этом думал, – откуда-то всплывали гадкие и страшные мысли, мгновенно загонявшиеся ею на дно сознания. «Что тогда?.. Стать дамой-патронессой? Совсем перейти на положение „старухи Дюммлер“. Или…»
Со своим холодным, ясным практическим умом она могла на мгновенье представить себе что угодно, могла недолго думать о чем угодно. Так в последние годы иногда, очень редко, думала, что в восемнадцать лет – «самый поэтический возраст» – ее главной, чуть ли не единственной, целью стало богатство и общество Юрия Павловича. Да и теперь, основным, после Коли, интересом ее жизни были все-таки светские отношения, как они ни были ей привычны, часто скучны, а иногда и противны.
Незадолго до болезни мужа, у нее возникла мысль о придании нового характера своему салону. Она подумывала о том, чтобы в ее доме министры и сановники встречались со «сливками интеллигенции», – слово «интеллигенция» уже привилось в России, как позднее во всем мире. Софья Яковлевна не сомневалась, что наиболее либеральные из сановников охотно пойдут на это. В Петербурге уже раза два бывали периоды паники, когда дарование государем конституции считалось делом ближайших недель. «Более порядочные будут приезжать бескорыстно, из любопытства, а другие – с расчетом, на всякий случай: «сегодня интеллигенция, а завтра кто-нибудь из них да первый министр!» Относительно интеллигенции она была не совсем уверена, потому что меньше ее знала и хуже понимала. Михаил Яковлевич, лично знакомый с Тургеневым и Достоевским, приятель известных либеральных профессоров, как будто принадлежал к ее верхам, но у Софьи Яковлевны были на этот счет сомнения. Она раза два в год считала себя обязанной посещать вечеринки Чернякова и незаметно при этом настраивалась на какой-то особый, сверхлиберальный и идеалистический лад. Однако Софья Яковлевна не была уверена, что люди, бывавшие у ее брата, действительно составляют сливки интеллигенции. К ее удивлению, их разговор не так уж блестел умом, либерализмом, идеализмом. В общем, он мало отличался от разговоров, к которым она привыкла, и даже суждения часто бывали сходные (Черняков, считаясь с возможностью появления Юрия Павловича, впрочем маловероятной, особенно радикальных людей в эти дни к себе не звал). Все же Софья Яковлевна возлагала на брата большие надежды в деле создания конституционалистского салона. «Говорят, у Новиковой бывает весь Лондон, она делает английскую политику. А кто такая Новикова!..» Главным препятствием была политическая репутация Юрия Павловича, – он считался очень консервативным человеком. Однако Софья Яковлевна знала, что в случае дарования конституции заставит мужа примкнуть к умеренным конституционалистам. «Если б не этот его пунктик: генеалогия», – думала она. Для Юрия Павловича действительно существовали дворяне и люди-просто. Против людей-просто он ничего не имел, но, несмотря на свои познания в генеалогии, считал дворянство высшей человеческой породой, столь же бесспорной, как высшие породы лошадей. Между дворянами существовали, конечно, подразделения, они его основного взгляда не подрывали. Романовы были дворяне, и он был дворянин. Впрочем, в присутствии не-дворян Юрий Павлович о сословиях не говорил. Он был как тот английский герцог, который совершенно не помнил о своем происхождении – если только о нем не забывали другие. Несмотря на подробные объяснения мужа, Софья Яковлевна весьма сомневалась в древности и знатности рода Дюммлеров.
Теперь же мысли обо всем этом только мелькнули у Софьи Яковлевны, поразив ее своим ничтожеством. «Неужели я серьезно могла придавать значение этому вздору? Да, так бывает постоянно: думаешь о пустяках, пока не свалится несчастье. Господи, как верны все общие места! Действительно, нет ничего, что шло бы в сравнение с ужасами кончающейся жизни, неизлечимой болезни, близкой смерти!»
В час дня лакей принес ей завтрак, – по-берлински обед. К неудовольствию прислуги «Кайзергофа», она не спускалась в ресторан; так повелось с той поры, как Юрий Павлович жил в гостинице. Когда лакей постучал в дверь, Софья Яковлевна поспешно прикрыла чем-то пепельницу с окурками. Она стыдилась того, что курит, и ей было совестно даже перед прислугой.
Ill
Вестибюль был полон Фаустов и Маргарит, Гамлетов и Офелий, средневековых рыцарей и валленштейновских ландскнехтов. Было также довольно много лакеев и кухарок; они перебрасывались радостными восклицаниями на простонародном берлинском диалекте. Еще на лестнице Мамонтов услышал и «Knorrke!» и «Ach Jptt»[114]114
«Отличный парень!» и «О Боже» (нем.)
[Закрыть], и что-то такое еще. Николая Сергеевича раздражало, что вилла, построенная верно Шинкелем или одним из его подражателей, была красива. Нечто живописное было в маскарадной толпе, – к этим крупным тяжелым рубенсовским людям шли латы, мечи и копья. «Да, порода не изменилась, они в латах чувствуют себя так же хорошо, как их предки». Сверху доносился гул.
Под Gesindeball первоначально разумелись именно балы для прислуги. Позднее по их образцу стали устраиваться балы в обществе; потом они еще как-то изменились, превратились в грубовато-веселые маскарады с необязательными масками и вошли в моду. Европейский секретарь принца, быстро богатевший на своей должности, рискнул на Gesindebali, – этого развлечения не было ни в Париже, ни в Лондоне, – и добавил музыкальное отделение; Патти как будто не очень подходила, но важно было лишь то, чтобы все было самое лучшее, то есть самое дорогое.
Секретарь встречал гостей на верхней площадке лестницы. Он приветливо улыбался, но лицо у него было растерянное. Принц вел себя в Европе просто: охотно принимал писателей, актеров, журналистов, не спрашивая об их происхождении: все они были нечистые твари, не лучше и не хуже королевы Виктории. Зная это, секретарь пригласил множество самых разных людей, – лишь бы было занятнее. Однако гости, очевидно, думали, что в доме восточного дикаря особенно церемониться нечего. Доносившийся из дальних комнат шум становился неприличным. Где-то играл оркестр, и казалось, что он нарочно всем мешает.
Гостиные шли одна за другой – их было шесть или семь. В первой из них стоял принц. На нем был его длинный, шитый золотом кафтан с белой лентой через правое плечо, длинные белые брюки, белый тюрбан. В левой руке он держал белые перчатки, а правой опирался на кривую саблю в белых ножнах. Все на принце сверкало драгоценными камнями. Проходившие гости, независимо от своей воли, больше смотрели на его бриллианты и изумруды, чем на самого принца. Все знали, что он несметно богат; говорили, что он богаче Ротшильда, богаче коммодора Вандербильта, богаче русского царя. Принц отличался щедростью и соблюдал обычаи своей страны: если гость при нем хвалил какую-либо из его вещей, принц произносил слова: «Думара ке бас хай» («Пусть же это будет твое») и дарил вещь гостю. Так, впрочем, бывало лишь в первые его приезды в Европу. С годами он стал благоразумнее. Когда кто-то похвалил огромный изумруд на его тюрбане, принц не расслышал похвалы и больше к себе этого гостя не звал.
У принца были дома в Париже и Лондоне, виллы на модных курортах. В Берлине он ничего не имел. Между тем в лето Конгресса Берлин стал центром Европы, и туда без всякой надобности отовсюду направлялись праздные люди. Секретарь снял загородный дом, который считался историческим, так как в нем прожило жизнь несколько поколений тупых, невежественных, но богатых, титулованных и потому делавших историю людей.
Несмотря на летнее время, приемы не прекращались в германской столице. Бережливые берлинцы точно ошалели от небывалого съезда иностранцев. Самым блестящим праздником был обед и бал в доме Блейхредера. Банкира посетили все члены Конгресса, и по городу ходили почтительные рассказы о том, в какую сумму обошелся Блейхредеру этот прием. Принц не гонялся за высокопоставленными людьми и начинал скучать в Берлине. Устроенный секретарем бал ему не понравился и не развеселил его. Вначале принц еще говорил дамам свои цветистые комплименты, теперь только кивал в ответ на поклоны. Его приземистая фигура невыгодно выделялась в гостиной. В этой комнате и в следовавшем за ней готическом салоне все приглашенные еще вели себя сравнительно прилично, но уже в третьей зале, отойдя от хозяина, который все-таки был принц, хотя и несерьезный, совершенно переставали стесняться. На Gesindeball они считали себя обязанными изображать шумное веселье.
В готической гостиной поток гостей разделялся: часть их направлялась в параллельную гостиным длинную узкую залу, предназначенную для концерта. Николай Сергеевич заглянул туда. Софьи Яковлевны в зале не было. «Может и лучше, что ее нет? Ох, надо бы от нее подальше! Ведь это неправда, будто я в нее влюблен. Если б был влюблен, то не видел бы морщинок у глаз и не говорил бы себе, что она «честная женщина, уставшая от своего ремесла». Впрочем, я все замечал и в восемнадцать лет, когда был влюблен по уши… Да, вероятно, с ней будет петля. Но ведь я как будто поставил себе правилом всегда слушать «голос благоразумия» и всегда поступать наоборот… Посмотрим, там будет видно! Я жду от жизни не больше, а меньше того, что она может дать, и уж если она меня покарает, то скорее всего за недоверие к ней». Ему было досадно и то, что «философские» мысли лезли ему в голову в самое неподходящее время.
Николай Сергеевич пошел дальше, чуть скользя по паркету. Он с удивлением заметил, что на него как будто подействовал надетый им костюм. Теперь в нем уже сидело три человека: он сам, дешевый бутафорский Мефистофель и наблюдатель, внимательно следивший за Мефистофелем и за ним. Гостиные были уставлены всевозможными предметами в стилях Gotik и Spätgotik, Hochrenaissance и Spätrenaissance, Frühbarok, Hochbarok и Spätbarok.[115]115
Готика и поздняя готика, высокий Ренессанс и поздний Ренессанс, раннее барокко, высокое барокко и позднее барокко (нем.)
[Закрыть] По книгам и музеям Мамонтов знал толк в мебели: он видел, что в большинстве это хорошие, дорогие вещи, – и раздражался. «Верно, тот барон или банкир, которому все это принадлежит, в душе любит только добрый честный би-дермейер. Да, есть что-то особенное в этой толпе, в этих упитанных перепившихся людях, нисколько не безобразное, – это о них говорят неправду – но вызывающее, почти дерзкое. Им ударили в голову пиво и Седан… Это Иордане, переделанный Менцелем… Из дам особенно шумят те, что переоделись горничными. Голубушки, вам и играть не надо… Куда же она делась?» – думал Николай Сергеевич. У входа в пятую или шестую гостиную он столкнулся с другим Мефистофелем. Они криво улыбнулись друг другу.
В последней гостиной было столпотворение. «Вот здесь уж совсем сумасшедший дом!» – радостно сказал про себя Мамонтов, все тщетно старавшийся определить атмосферу бала. Вдоль стен комнаты тянулись столы буфета, но их и разглядеть было невозможно: так они осаждались гостями, толпившимися в три и даже в четыре ряда. Паладины и ландскнехты шумно пробивались к столам, хватали бокалы, мороженое, бутерброды для себя и для Офелий, которые, впрочем, сами о себе не забывали. Николай Сергеевич тоже стал проталкиваться к столу. Лакеи не успевали разливать напитки. Некоторые гости хватали и уносили с собой бутылку. Хотя ему не хотелось есть, Мамонтов положил на тарелку огромную порцию паюсной икры, выпил один за другим несколько бокалов шампанского и прорвался назад. «Кажется, лучше было не пить так много. Я ведь и за обедом выпил бутылку вина…» Отойдя от буфета, он стал скользить еще больше, – как Стравинский в сцене с Мартой Швертлейн.
– Арестую вас именем закона! – сказал сзади кто-то, хлопнув его по плечу так сильно, что кусок икры упал с тарелочки на паркет. Николай Сергеевич чуть было не схватился за рукоятку шпаги, но тарелочка помешала. Перед ним был венгерский журналист.
– Наконец-то вы! Я вас искал. Вы, кажется, шестой Мефистофель в этом сумасшедшем доме.
– Как будто и вы тоже не проявили большой фантазии.
– Надел к фраку черный галстух и стал лакеем. Очень дешево. Этим и объясняется успех «балов прислуги».
– Да еще тем, что этим господам чрезвычайно легко подражать лакеям.
– Что, кстати, необыкновенно тактично в отношении настоящих лакеев. Настоящие лакеи здесь одни и ведут себя достойно. Впрочем, я напрасно вам это говорю. Как все русские, вы почему-то привыкли иронизировать над немцами. Но не судите о немцах по сегодняшнему обществу.
– Как же у принца оказалось такое общество?
– Очевидно, вышло какое-то недоразумение. К тому же, все сразу перепились. Я первый. – Он засмеялся. – Знаете, тут психология вроде шейлоковской: как же не выпить шампанского за счет расточительного дикаря? Буфет у него превосходный, я давно такого не видел, со времени раута у герцога… Ну, как его? Отчего вы так редко бываете на Конгрессе? Вы, как Феникс, прилетаете раз в пятьсот лет.
– Где это «на Конгрессе»? В передней министерства? Там нечего делать.
– Делать там, конечно, нечего, но можно сплетничать, а это величайшая радость в жизни. Если не считать шампанского… Впрочем, пить большой грех. Египтяне в жертву Вакху приносили только нечистую свинью, – сказал венгр. – Слышали, на Конгрессе достигнуто соглашение. Вы получаете Карс, Ардаган и Батум, но отказываетесь от той проклятой долины, дабы Диззи не подвергся личному насилию в Палате. Франц-Иосиф берет себе Боснию! Воображаю физиономию бедных турок! Сначала Кипр, теперь Босния! А они были так благодарны своим благодетелям! – сказал он, захохотав. – Главное же, Болгария делится на части. Северная…
Он изложил предположительные условия договора, Николай Сергеевич старался слушать, но голова у него немного кружилась. Венгерский журналист говорил в своем обычном утомительном тоне балагура.
– Бловиц сегодня уезжает. Как вы верно слышали, он добился своего: был принят Бисмарком и даже у него обедал. Это гениальный человек. Ему уже известны секреты богов. За гений Бловицу можно простить все, хотя бы он утопил не одну жену, а десять. Впрочем, он верно никого никогда не топил. Ох, много стали люди врать… Диззи готовится триумфальная встреча на Чаринг-Кросском вокзале. Я боюсь, что Гладстон и Горчаков умрут от разрыва сердца… Но что же Pattina mia, как говорил Россини? Вы слышали, секретарь принца перехватил ее по пути не то из Англии в Италию, не то из Италии в Англию. У нее, у бедненькой, вышла в Лондоне большая неприятность: антрепренер тайно повысил гонорар Нильсон до двухсот фунтов за спектакль! Подумайте, какой наглец! Разумеется, Нильсон позаботилась о том, чтобы это стало известно кому следует. С Патти сделалась истерика. Она немедленно потребовала, чтобы ей платили по двести гиней.
– Двести гиней это больше, чем двести фунтов?
– Больше на пять процентов, но дело не в лишнем шиллинге. Вы, надеюсь, понимаете, что Патти должна получать больше, чем Нильсон, иначе ей остается повеситься. Антрепренер в отчаянии. Если он согласится, Нильсон выцарапает ему глаза: вы, надеюсь, понимаете, что и Нильсон должна получать больше, чем Патти, иначе ей остается повеситься.
– Что же будет?
– Повесится антрепренер. Впрочем, они очень любят друг друга. Я их слышал вместе в Париже в церкви Трините, когда отпевали Россини. Патти, Нильсон и Альбани пели Stabat mater, это было божественно и бесплатно… Вот ваша знакомая, – многозначительно сказал журналист, показывая в сторону двери. Мамонтов увидел Софью Яковлевну. На ней была какая-то мантия, платье цвета слоновой кости с голубым поясом, расшитое странными цветами. К ее черным косам было приколото несколько красных роз. Она опиралась на высокую тонкую раззолоченную трость. С ней были Элла в костюме Гретхен и ее муж, плотный краснолицый король Лир. Они тотчас исчезли, король Лир, как будто с сожалением. – Какая красавица! Она Клеопатра, что ли?
– Не знаю. Так договор будет скоро опубликован?
– Сегодня ходят глухие слухи, будто Бловиц у кого-то купил полный текст договора и опубликует его в «Тайме»! Это будет величайший шедевр репортажа в истории… Пойдем выпьем еще шампанского за здоровье всех жен нашего дорогого хозяина. Не хотите? Ну, как знаете, а я пойду штурмовать буфет. Если шампанское и бесплатно, я всегда стервенею, – объяснил венгр и отошел, напевая марш Ракоци. «Нет, нет, я не пьян!» – заверил себя Николай Сергеевич. Он быстро пошел по гостиным, делая грациозные жесты правой рукой. «Все-таки очень странно, что костюм так действует на человека? Особенно эта идиотская шпага!.. Кажется, я наговорю глупостей!» В готической гостиной, в которой по-прежнему было сравнительно тихо, сидели Софья Яковлевна и Элла с мужем. На лице короля Лира была легкая тоска. «Не подходить!» – сказал себе Мамонтов и скользнул к ним уж совсем развязно. Софья Яковлевна как будто неохотно познакомила его с мужем Эллы. Но ее друзья, видимо, ему обрадовались. Король Лир крепко пожал руку Мамонтову, пододвинул ему стул, точно опасаясь, как бы он не ушел, и предложил папиросу. Муж Эллы, довольно видный прусский чиновник, тоже забавлялся тем, что говорил на берлинском простонародном наречии:
– Jott, reservierte Plätze det jibt’s ja heute nich[116]116
Господи, сегодня нет зарезервированных мест (искаж. нем.)
[Закрыть], – сказал он о чем-то Софье Яковлевне. Николай Сергеевич заговорил по-французски. Король Лир наклонил голову, с обычным почтением иностранцев к французскому языку.
– Все-таки человек должен есть и пить. Нет, здесь, право, очень мило, – тоже по-французски весело сказал он. – Элла находит, что дурной тон и похоже на бедлам, а по-моему просто богема. Пусть молодежь веселится как умеет… Так я пойду в буфет и все вам принесу. Почему вы ничего не хотите? Берите пример с Эллы. Ни шампанского, ни портвейна, ни икры?
– Какие волшебные слова! Я пойду с тобой! – воскликнула, вскакивая, Элла и ударила его по плечу.
– N-na, bisken höflich jejen ormen König[117]117
Не очень-то вежливо вы обходитесь с бедным королем (искаж. нем.)
[Закрыть], – сказал король Лир, потирая плечо. Элла подмигнула Софье Яковлевне.
– Поскучайте пока без нас, нам понадобится время, там Бог знает, что творится! – прокричала она уже у двери. «Сейчас будет разговор! Не знаю какой, но такой, какого у нас еще никогда не было, – радостно подумал Мамонтов. – Кажется, у меня заплетается язык!»
– Вы Клеопатра?
– Нет, еще глупее: я Семирамида… Мне хотелось послушать Патти и принц очень просил…
– Платье изумительное и идет к вам необыкновенно, – сказал он, шаря у себя в мозгу, в поисках каких-либо сведений о Семирамиде: «От Семирамиды, кажется, легко перейти к настоящему разговору», – подумал Николай Сергеевич. «Кажется, была такая ассирийская царица и с кем-то воевала. Очень хорошо воевала. Это мне ни к чему… Постой, какая-то голубица? Голубица тоже ни к чему… Постой, дурак! – радостно сказал он себе, – ведь у покойной Семирамиды покончил с собой муж? Вот это „к чему“! Хотя почему? Почему – к чему. Я пьян? Если и пьян, то не только от вина, но и „от страсти“, – подумал он и в ту же секунду начал трезветь. – Я ожидал, что здесь сегодня будет „весь Берлин“, – сказал Мамонтов.
– Нет, императора Вильгельма здесь нет.
– Благо его подстрелили.
– J’aime le[118]118
Я люблю (франц.)
[Закрыть] «благо». А вы как сюда попали?
– Церемониймейстер вашего принца пригласил всех иностранных журналистов… Я, впрочем, знал, что вы здесь будете.
– Я вам сказала? – спросила она, чуть подняв брови. – Все-таки я не думала, что здесь будет, как она говорит, бедлам. Это мне, разумеется, все равно и даже скорее было бы занимательно, но, по-моему, тут просто скучно. И этот унылый оркестр, что-то уж очень плохой для Германии… Мы собираемся уехать после Патти. Впрочем, Элла веселится как ребенок. Они у меня сегодня ужинали и много выпили. Вы, кажется, не столуетесь в «Кайзергофе»?
– Только завтракаю. Обедаю я то у Люттера-Вегенера, то у Хабеля. Сначала меня там приняли не так, чтобы уж очень любезно, но от «начаев» очень смягчились, – сказал, смеясь, Николай Сергеевич, старательно за собой следя. Он было положил руку на рукоятку шпаги и тотчас ее отдернул. «Нет, нет, я не пьян, но это очень приятно, когда развязывается язык…» – Хабеля облюбовала прусская аристократия. К абендброту туда приходит сам Мольтке, ест Кальбсниренбратен мит пфлаумен[119]119
жареные телячьи почки со сливами (нем.)
[Закрыть] и пьет мозельское вино с земляникой («ни к чему это»), А вот вчера я попытал счастье в ресторане Золотой колбасы. Вы не слышали? Этот ресторатор каждый вечер кладет в одно из своих блюд золотую монету. Если она попала в ваш кусок «Эрбсвурст гарнирт», ваше счастье. У него каждый вечер сотни немцев с надеждой осторожно жуют свою порцию. Гениально, не правда ли? – спросил Мамонтов, смеясь веселее, чем требовал рассказ. Софья Яковлевна улыбнулась, с некоторым удивлением на него глядя. «Кажется, и он выпил больше, чем нужно», – подумала она. – Однако я вам даю какое-то гастрономическое интервью («еще глупее»)… Вы очень много выезжаете?
– Выезжаю? Напротив, очень мало. Иногда бываю в опере.
– Непременно пойдите на «Militaria». Это прелесть. Изображается вступление немецких войск в Эльзас в 1870 году. Курт фон… Забыл какой фон… Курт покоряет сердце юной дочери эльзасского мэра, в глубине души, конечно, желающего победы немцам. Но французские изверги узнают о тайных симпатиях мэра и уже ведут несчастного на расстрел. Как раз в ту минуту, когда они наводят на него ружья, на сцене появляется отряд прусских егерей. Рев в зале невообразимый. Особенный восторг вызывает еврейка-балерина Давид. Она в егерском мундире идет впереди отряда гусиным шагом и поднимает ноги выше головы. Чудесный спектакль! Я давно ничем так не восторгался. Все заканчивается Валгаллой немецких героев, с Фридрихом Барбароссой в качестве флангового гренадера.
– Да, многое у них уморительно, но далеко не все. Есть и прекрасные театры. Шекспира нигде не играют так благоговейно, как здесь.
– Я почему-то уверен, что Шекспиром здесь восхищаются те же самые люди, которые беснуются от восторга при освобождении эльзасского мэра. Странный народ немцы! А как здоровье Юрия Павловича? – спросил он и увидел, что его связь мыслей ей не понравилась.
– Благодарю вас. Сегодня он чувствовал себя лучше. Юрий Павлович убедил меня поехать на этот маскарад. – Она почувствовала, что точно оправдывается, да еще во второй раз. – Обыкновенно я по вечерам дома. Очень рано ложусь. Читаю… Сейчас читаю во второй раз «Анну Каренину». Перечла все, кроме того, что о сельском хозяйстве: оно меня не интересует, да и сам Левин менее интересен, чем остальные. Я многому научилась в этой книге. «Вот что мы используем! – подумал Николай Сергеевич, – тут-то и распустить перышки». – По-моему, она значительно лучше «Войны и мира».
– О, не говорите этого! – сказал горячо Мамонтов. Он еще не знал, как перейдет к настоящему разговору, но чувствовал, что и «о!» и горячая интонация были полезны. – Разумеется, это тот же великий талант. Но ему, по-видимому, стало скучно. Я думаю, то, что критики так часто называют упадком таланта, происходит от ослабления у художника интереса к своему творчеству, – пояснил он, уже не совсем зная, имеет ли он в виду Толстого или себя. – Жег море и не зажег, потерял не только надежду, но и желание зажечь. Вся его дьявольская изобразительная сила осталась, но он теперь точно ищет, к чему бы ее приложить. Попадется под руку какой-нибудь ни для чего не нужный Туровцын, дай, опишу хоть Туровцына. Некуда деваться Левину и не о чем ему высказываться, – дай, пошлю его на какие-то дворянские выборы в какую-то Кашинскую губернию. Половина романа состоит из гениальных пустяков. А уж турецкую войну сам Бог послал графу Толстому, иначе он совсем запутался бы в своих «отмщениях». Помните, «мне отмщение и аз воздам», – сказал он, опять было положил руку на шпагу и опять ее отдернул. Софья Яковлевна заметила его движенье, оно ее позабавило. – Очевидно, измена Анны старику-мужу кажется графу Толстому последним пределом преступления и позора! Согласитесь, что это очень наивно. Вы не находите?
– Нет, я не нахожу. Так вы такой поклонник графа Толстого? А знаете ли вы, что он обязан своей жизнью государю, которого вы не любите? Государь сам мне это рассказывал. Он каким-то образом еще в корректуре прочел что-то Толстого, да, «Севастопольские рассказы», и тоже, как вы, пришел в восторг. Государь справился, кто такой, узнал, что это молодой офицер на Малаховом кургане, и велел тотчас перевести его за двадцать верст в тыл. На Малаховом кургане граф Толстой, конечно, погиб бы. Быть может, он и сам этого не знает.
– Так ли это? Каким образом корректура могла попасть к государю?
– Уж я не знаю, как, но поверьте, что если я это слышала от государя, то это правда.
– Отдаю должное. За это царю можно многое простить.
– Как вы добры.
По готической гостиной теперь движение шло только в одну сторону к концертному залу; туда входили люди при шпагах или мечах, видимо, много выпившие и старавшиеся подтянуться перед концертом. Оркестр перестал играть, точно музыканты почувствовали, что они всем надоели.
– Я, кстати, замечаю, что вы при каждом разговоре со мной стараетесь меня обратить в монархическую веру или, точнее, в веру в Александра Второго, – сказал Мамонтов. Ему было досадно, что она равнодушно отклонила разговор об измене Анны мужу. – Скажу вам прямо: это бесполезно. – Николай Сергеевич становился все тверже в выражении своих революционных взглядов, по мере того, как они в нем слабели.
– А если бы и так? Мне в самом деле жаль, что ваши блестящие способности, быть может, пойдут на службу дурному делу. Да и нигде никакой пользы от революции никогда не было… Вот я на днях взяла в читальне «Кайзергофа» книгу… Я всегда читаю наудачу, поэтому и вышла невежественная… – Оказалось, воспоминания Мунго Парка! – «Кто такой Мунго Парк? Кажется, какой-то путешественник?.. Но она нарочно ведет такой разговор!» – подумал Николай Сергеевич. – Я надеялась, что засну от скуки, оказалось, что я всю ночь не могла заснуть от волненья. Он описывает, как рабовладельцы вывозили негров из Африки. И самое удивительное, что эти рабовладельцы были даже незлые люди. А сам Мунго Парк был просто добрый человек. Между тем рассказывает он об этом, как о самом почтенном деле. Это просто нельзя читать: стыдно и страшно за человека.







