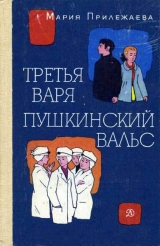
Текст книги "Третья Варя"
Автор книги: Мария Прилежаева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
5
– Вы меня не знаете! Я вас никогда не встречала! Первый раз вижу! – отчего-то вся замирая, сказала Варя.
Откуда эта незнакомая женщина может знать ее имя?.. Незнакомая женщина, испугавшаяся так, словно перед ней привидение!
– Я верно Варя, но вы… Я первый раз в Привольном. Я вас первый раз вижу.
Дед отстранил Варю, вышел вперед.
– Вы Клавдия Климанова. Мы к вам приехали.
Она вскрикнула, подняла ладони к лицу и опустилась на лавку, упала головой на стол. Заплакала громко, со всхлипами. Шпилька выпала у нее из пучка, волосы светлой гривой рассыпались по плечам. Дед подошел к столу, нагнулся, тронул ее плечо:
– Слушайте, гм… успокойтесь, Клавдия, гм… Вы испугались? Неожиданно, да… Она Варя. Она третья Варя. Та была вторая, вы знаете. А эта третья. Они похожи, она почти копия. Успокойтесь. Ну? Дать воды?
Варя подбежала к печке, зачерпнула ковшом из ведра. Клавдия подняла голову, щеки ее были мокры от слез, и глаза, мокрые и светлые, изумленно не отрывались от Вари. Вскочила, взяла у Вари ковш, поставила на стол, наполовину расплескав воду, схватила ее за руки, вглядывалась в лицо, узнавая все больше.
– То лицо, та улыбка! Вся та! Юность моя в родной моей отцовской избе! В России!
Она снова заплакала, громко всхлипывая. Плакала, утирала ладонями щеки и глаза. Улыбалась. Говорила. И все утирала щеки.
– Надо же, сегодня приехали! А завтра меня уже и нет. Ах батюшки, если бы на денек припоздали, так и не встретились бы! Вы Варин отец. Второй Вари… Так я вас и рисовала себе. Несгорбленный. Ах, и удивление же! Ах, что же вы стоите? Садитесь, чаем вас напою!
Она кинулась к печке ставить самовар. Варя и дед сели на лавку. Варя наблюдала за Клавдией. Все в ней привлекало – голос, быстрая походка, лицо. Она то уходила к печке, то возвращалась. То смеялась, глядя на Варю, то всхлипывала, а Варя краешком глаза разглядывала обстановку.
У задней стены стояла книжная полка, к ней прислонилась изголовьем старенькая кушетка с иссеченной от ветхости атласной обивкой. Висячий посудный шкафчик, вышитое красным и черным крестом полотенце на зеркале. Изба и не изба – всего вперемежку.
Будто сошедший со страниц сказки братьев Гримм, бесшумно явился зеленоглазый дымчатый кот и сел посреди пола. Зажмурил глаза – две длинные черточки, искосись, протянулись от носа.
Старейшая докторша Авдотья Петровна принимала в сельской амбулатории, Клавдия была одна дома. Да кот с зелеными черточками глаз.
– Вчера подъезжаем к Привольному, – возбужденно говорила Клавдия, – я у въезда сошла. «Поезжайте вперед, оставьте меня!» – говорю, а сама чувствую – обессилела вдруг, так обессилела, села при дороге, не могу идти, да и все! Раньше прясла стояли у въезда. Когда отца с братьями на войну провожала, тут, возле прясел, простились. И я, когда уходила, мать, помню, упала без памяти… Мамонька, родимая моя!
Клавдия подняла ладони к лицу, постояла молча.
– Постарело село-то, – опуская руки, с грустью сказала она. – А сады не перевелись. Наш и не узнаешь, вон как разросся. А молодежь незнакомая вся. Вчера с кладбища, от маминой могилки, под вечер иду, девчата навстречу, а чьи, не узнаю…
Клавдия в раздумье качнула головой и, вдруг вскликнув: «Ах, что же я, самовар-то забыла!» – убежала к печке поглядеть самовар.
– Да-да, – отвечая своим мыслям, сказал дед.
Клавдия вернулась от печки, держа перед собой измазанные углем руки.
– А вы… тоже прошлое вспомнили, – несмело проговорила она, видя хмурые дедовы брови.
– Вспомнил. Мы вашу делегацию в Москве повстречали.
– Вот оно что!
Клавдия глядела на деда, словно ожидая чего-то, с какой-то робкой, даже чуть виноватой улыбкой.
– Что же вы не спрашиваете, зачем мы в Привольном? – сказал дед.
Улыбка сбежала у нее с лица.
– Сейчас вот руки отмою.
Долго мыла у печки под рукомойником руки, терла мочалкой. Подобрала волосы и села возле деда. Дымчатый кот вспрыгнул на лавку и, выгибая спину, терся о ее плечо. В зеленых глазах его сверкали искры, как у заправского сказочного кота, который только и выжидает случая начать свое колдовство.
– «…Что бы ни стало со мной, пускай мне назначены гибель и смерть, пускай наши страдания останутся безвестны, никогда не раскаюсь в своем решении! Вокруг себя я вижу терпеливых, каждодневных героев, простых, без громких слов. Так и я буду записывать все, просто, без громких слов…»
Клавдия наизусть читала из Записок. Когда дед рассказывал Варе историю ее прабабки Варвары Викентьевны, он тоже читал наизусть отдельные места из Записок. Он их помнил, хотя, с тех пор как Записки пропали, прошло более двадцати лет.
– «…Сколько геройства увидела я, сколько подвигов!» – читала Клавдия.
Дед молчал. Под окошко прилетела пышная птичка с растопыренными перышками на розовой грудке, попрыгала снаружи на подоконнике. Кот повернул голову к окну, расширил глаза, брызнул зелеными искрами. Птичка стукнула клювом в стекло и улетела.
– Знаю, как вам драгоценны Записки! – сказала Клавдия.
Ей было семнадцать лет. Босоногая и быстрая, она летала из конца в конец по селу, проверяла по поручению председателя готовность колхозников к встрече школьного интерната, эвакуированного из Москвы в июле 1941 года. В Привольном нет такого большого помещения, где можно бы поместить восемьдесят приезжих ребят плюс десять учителей и пионервожатых всех вместе. Постановили размещать по избам. Кто пускал добровольно, кто по разверстке.
Клавдия с матерью рады были взять на постой интернатских в свою осиротевшую избу. Мужчин проводили в армию. Троих в один день. Опустела изба.
В ожидании москвичей Клавдия вымыла полы и стены. Навязала букеты цветов, наставила на столе и окошках в глиняных кринках. Утром, в день приезда, сбегала в лес, на вырубки, набрала земляники. Мать затопила в печи молоко, спустила в погреб корчажку: приедут интернатские, угостятся холодненьким, неснятым, с коричневой сладкой пенкой в два пальца.
Они приехали за полдень. Их привезли со станции в грузовых машинах, остановили возле правления. Собралась толпа. Женщины, ребятишки. Поглядеть: какие такие эвакуированные? Еще в диковинку было.
Они были в красных галстуках, пыльные, иссиня-бледные, словно из больницы. Словно выпавшие из гнезда птенцы. Молча жались друг к дружке. Их старшие, тоже в красных галстуках, едва из машин, суетливо принялись хлопотать, требуя от председателя колхоза отдельное помещение для интерната, чтобы блюсти гигиену.
– Нету у нас дворцов. Не ожидали таких важных гостей, возвести не успели, – угрюмо отказал председатель.
Начальница интерната с длинным унылым лицом сразу пала духом от его неприветливости.
Закудахтала:
– Куда же, куда нам?
– Бабы… товарищи женщины, делите эвакуированных промежду собой, – велел председатель. И отвернулся.
Уж очень вид был у ребятишек растерянный. Что за война! Немец как через границу вступил, так и прет, так и прет. До чего же допрется?..
Клавдия обежала старших глазами и с одного взгляда выбрала себе пионервожатую. Нельзя сказать, чтобы пионервожатая, выбранная ею, была очень красива или заметно одета. Нет. Но что-то было в ней ясное, располагающее. Смотрела прямо. И вела себя не рохлей и не нюней.
Пионеры попрыгали из грузовика. Она поставила их в стороне, пересчитала, раздала мешки и рюкзаки, тому одернет рубашку, той поправит косичку – словом, она не бездействовала!
Клавдия поглядела – подошла:
– Как тебя зовут?
– Варя.
– А меня Клавой Климановой. Сколько их у тебя? Раз, два три… восемь. Давай ко мне. Уместимся.
Варя не стала колебаться и расспрашивать, как обычно это делают нерешительные люди: «А где? А что? А как?» Другие, боясь прогадать, все еще выбирали жилье, мучились сомнениями, а Варино звено уже располагалось в пятистенке Климановых.
– Набивать сенники!
– Стелить постели!
– Готовить мыло, белье! Живо!
И вот уже несется команда:
– По-стро-ить-ся!
Не желая в первый же день ударить в грязь лицом перед местными жителями, вожатая построила звено и повела на Оку отмывать усталость и дорожную пыль. Чистенькие, причесанные, они сидели после купанья вот за этим выскобленным, добела отмытым столом, на этих лавках.
Им нравились эти широченные лавки, бревенчатые стены с пазами, коричневые с цветочками деревянные ложки, глиняные миски, в которых дышали паром – только из печки – аппетитные кислые щи! Им нравилось, что их вожатая Варя с первого часа, нет – получаса, нет – первых минут так душевно и страстно подружилась с привольновской комсомолкой Клавдией Климановой, что всем им, эвакуированным из Москвы пионерам, о которых их матери проплакали, наверно, сегодня ночь напролет, стало хорошо в Привольном. Несиротливо.
– Марш, марш, писать письма домой! – скомандовала после обеда вожатая.
И, кажется, все ее пионеры, как один, написали в первом письме:
«Дорогая мама! Я здесь живу хорошо…»
Это была дружба двух мечтательных, некорыстных сердец. У обеих остались в школах привязанности. Но то было другое. То было обыкновенным. Сейчас все необыкновенно!
Они говорили, говорили, говорили. Это была удивительно разговорчивая дружба!
Разумеется, у них была тьма дел и работы. У Клавдии – в колхозе. У Вари – со своим звеном. Варя полновластно управляла своими восемью пионерами. Она заменяла им мать и отца. Была для них всем. Водила их на колхозное поле полоть свеклу, окучивать картофель или в лес собирать для сдачи в аптеку шиповник. Следила, чтобы они были сыты, обуты, одеты, не утонули в Оке, не завшивели.
Клавдия помогала Варе обстирывать и вычесывать ребят. Варя тоже чем могла помогала Клавдии.
Но главным в их дружбе было открывание сердца! Они говорили обо всем. О прошлом. Прошлое – то, что до войны. Каким счастливым и беспечным было их прошлое, а они и не замечали!
Они говорили о книгах, кино и о том, кто из мальчишек им нравится. А что такое любовь? А что важнее всего в человеке? А что такое благородство и честь? О том, что подлых гадов фашистов к зиме разобьют, вот увидишь! Что после войны ты, Клавдия, поступишь в Москве в Тимирязевку и будешь жить у нас, возле Покровских ворот.
Они говорили о Записках, которые Варя привезла из Москвы. Тетрадь в красном сафьяновом переплете (теперь таких тетрадей не водится), исписанная крупным ровненьким почерком. Ноябрь – декабрь 1877 года.
– Что тогда было в ноябре – декабре тысяча восемьсот семьдесят седьмого года?
– Русско-турецкая война. Наши освободили болгар от турецкого ига.
– А она? Ее тоже звали Варей?
– Да.
– А она что?
– Вот слушай.
Но сначала надо уложить ребят спать. Давно вечер. Вовсю светит луна, серебря привольновские сады, и луга, и Оку. Беззвучно, тихо. Будто не было на свете никаких бед и не будет…
– Приказываю спать, – сказала пионервожатая. – Пионеры, у меня дело. Личное. Даете слово?
– Даем.
И все на правый бочок. Ладошка под щеку. И на всех восьми сенниках, в полшаге один от другого, тишина. Так они слушались свою вожатую, просто завидно! Это не значит, что они всегда подчинялись ей, как заводные игрушечные солдатики. Всякое в интернатской жизни бывало! Но у Вариных пионеров обычай: дано слово – значит, дано.
Подруги сели на ступеньки крыльца. Круглая луна висела высоко в небе. Они читали Записки при лунном свете, как при фонаре.
«…Он уехал, и я поняла, что не могу розно с ним. Разве бывает иная любовь? Разве могу я оставить любимого одного, при исполнении опасного долга, а сама жить в безопасности, без цели, без смысла? Нет, нет! Мне пришлось много скрываться от домашних, пока втайне я получила необходимую практику. Пришлось снести гнев и угрозы отца, рыдания маменьки, изумление и отговоры знакомых. Все позади. Я сестра милосердия, еду волонтеркой в Болгарию…»
Несколько вечеров они при луне читали Записки. После этого они обе решили, что не хотят больше сидеть на крылечке, когда «там» война.
Но война была уже не «там». Война подступала все ближе к Привольному. По вечерам было слышно стрельбу. В небе до утра тлели зловещие зарева.
По Оке день и ночь шли суда, увозя из Москвы детей, заводское оборудование, библиотеки и музейные ценности. Прилетел самолет с черными крестами на крыльях и на виду Привольного разбомбил баржу с заводскими станками, расстрелял из пулеметов рабочих, пытавшихся спастись вплавь, с воем пронесся над крышами и исчез.
В октябре война подошла совсем близко. Октябрь наступил дождливый, холодный. Оказалось, для интернатской кухни нет дров. Не запасли. Печь топили сырым валежником, хлеб не выпекался. В ноле гнила под водой невыкопанная картошка. Крупу доедали. Скоро нечего будет варить.
Начальница интерната звонила из правления колхоза в Москву:
– На мне восемьдесят малышей! Вы нас бросили! Вы ответите!
Из Москвы велели уложить мешки и рюкзаки! И ждать.
Синие от холода, несытые, снова похожие на выпавших из гнезд птенцов, ребята жили кое-как, на рюкзаках. Каждый день могла прийти сверху баржа, увезти интернат на Каму. И могла не прийти.
– Пионервожатая, ты собиралась на фронт?
– Вот провожу их, тогда…
Пароходик с баржей подошел на рассвете. Был тоскливый рассвет. Сеял меленький дождик. Мутное небо низко повисло над Привольным, едва не цепляясь клоками облаков за верхушки деревьев. Мутный туман стлался по лугу. Ока скучно пузырилась от дождя, серая, хмурясь беспорядочной рябью.
В Привольном нет пристани. Пароходик кинул якорь, подгадав остановить баржу поближе к мосткам. С мостков перебросили на баржу доски.
Ребята шли один за другим, стараясь не наступать переднему на пятки, под конец, не выдерживая, два последних шага бегом. Как все спешили и стремились на эту черную, низко осевшую в воду баржу, будто домой! Все мечтали уехать, уехать! А где-то позади, где-то за горизонтом, погромыхивало, будто раскатывался и урчал дальний гром.
Оставалось пройти Вариному звену, когда доска сорвалась и мальчишка нырнул под мостки. Пионервожатая кинулась в воду. У берега неглубоко. По пояс. Мальчишку вытащили, по рукам передали на баржу. Наладили доску, и остальные семь Вариных пионеров осторожно, гуськом, прошли по доскам. Вожатая замыкала звено.
И пароходик потащил баржу вниз.
– Прощай, Привольное! Спасибо, Привольное! До свиданья, Привольное!
– Ладно, поезжайте. А мы уж как-нибудь со своими-то…
Дождик припустил, сек, как прутьями. Коченея под дождем, в мокрой до горла одежде, пионервожатая приложила трубкой ладони ко рту.
– Клавдия! Клавдия! Клавдия! – надрывно неслось по реке.
– Что? Что? Что? – кричала Клавдия. И вдруг поняла: Записки!
Вожатая забыла Записки! Они были завещанием отца! Совестью и честью семьи. Памятью о первой Варе…
Клавдия побежала домой. Клавдия умела бегать не хуже любого парня, только пятки сверкают да мелькает пестрый подол. Призы получала в школе по бегу!
Но была осень. Шел дождь. Ноги вязли в сыром, тяжелом песке… А если бы и не осень, не дождь?
Разве капитан остановил бы баржу, сколько ни маши Клавдия красной сафьяновой тетрадкой, как флагом, когда, задыхаясь, вернулась на берег, а баржа уплывала дальше, дальше?
Уже почти нельзя различить людей на далекой, далекой, далекой барже. Можно лишь угадать: вон пионервожатая Варя! Стоит на корме. Ветер рвет на ней платье. На ней мокрое платье. Ведь она кинулась в осеннюю воду!.. Пионервожатая Варя, что же ты стынешь в своем мокром платье? Тебе холодно. Что ты кричишь? Ты кричишь:
– Сохрани их! Не забывай! Клавдия! Кла-ав-дия!
Дед встал с лавки, заложил руки за спину и тяжелыми шагами отошел к окну. Он никогда не сутулился, а сейчас стоял у окна совсем сутулый.
Кот неторопливо повел головой, вперил в деда свои таинственные черточки.
«Пионервожатая Варя – моя мама! Моя мама! Мама!» – тревожным молоточком стучало у Вари в груди.
– Бедные девчонки! – сказал дед. Повернулся от окна, беспокойно глядя на Клавдию: – А дальше?
– Я берегла их всю войну! Они были со мной всюду, на фронте. Берегла после войны! Они были со мной, как память…
– Вы привезли Записки? Слушайте… Клавдия!
Клавдия молчала.
– Не привезла, – сказал дед. – Где же они?
6
В эту минуту на крыльце послышался шум. Нетерпеливый стук в дверь.
– Дома кто есть?
Дверь распахнулась. Вошла женщина лет под сорок, в цветастом платке, повязанном концами назад, в красной кофте, такой красной, что вокруг все закраснело, будто в избу заглянула заря. Из-за плеча женщины высовывались еще две. Подталкивая друг дружку, они вошли в избу, загорелые, с выцветшими на весеннем солнце бровями.
– Клавдия! – перешагнув порог, сказала женщина в красной кофточке.
– Батюшки-матушки! Клавка наша! Клавдия, деваха наша геройская, она!
Они стали в ряд у порога и возбужденно заговорили все три:
– Вчерась слух по селу прошел… А нынче агроном: бежите, говорит, товарищи колхозницы, Клавдия Климанова с того света явилась. Не соврал агроном!
– Клавдия, да ты ли? Тела в тебе вовсе нет!
– Городской, что ли, стала? Нет, руки-то, глядите, вроде крестьянские. Слух по селу, а я не верю, сомневаюсь. Дай, думаю, своими глазами удостовериться надо.
– Клавдия, дак про тебя известие было, что на фронте убита!
– Узнала ли нас, Клавдия?
– Неужели не узнала? Ты – Маруська. Ты – Катя. Неужели не узнала! Ты, Маруська, и прежде красные платья да кофты любила. А ты Зинаида! Что? Не помню? Девочки! – идя к ним навстречу, возбужденно и радостно, как и они, говорила Клавдия. – Все помню. Ой, девочки, какие мы стали! Ой, девочки, какие мы старые стали!
– Ври! В самом расцвете. Молодых за пояс заткнем.
– Молодые нашу жизнь не осилят. Изнеженные… Откуда ты, Клавдия?
– Из Болгарии, девочки.
– И-их ты! Куда война занесла! По иностранным государствам раскидала людей. В иностранных-то государствах о Привольном нашем соскучишься!
– Ой, соскучилась! – всплеснув руками, воскликнула Клавдия. – Катя, Маруся, помните, за Оку по белые грибы на лодке ездили! У тебя, Катя, заветных местечек полно: чуть в лес – и пропала. Ау-ау, Катенька! Куда там! Ее и след простыл. Корзину с верхом боровиков наломает, тогда и покажется. А нам завидно, мы с Марусей аж почернеем от зависти!..
– Клавдия, про себя расскажи, – перебила бойкая колхозница в красной кофте, которую Клавдия называла Марусей.
– Расскажу!
Клавдия оглянулась на деда. Дед хмуро стоял у окна. Оживление на ее лице погасло.
– Сели бы, товарищ… Арсений Сергеевич. С дороги усталые. Сядьте, – нерешительно пригласила она.
– Я понимаю… вам не до меня… – ответил он с запинкой.
– Арсений Сергеевич! Виновата, Арсений Сергеевич!..
Видимо, он надеялся услышать другое и, медленно шагнув по направлению к ней, беспокойно спросил:
– То есть?
– Виновата…
Он сделал еще шаг и еще беспокойнее и требовательно:
– То есть?
Маруся в красной кофте перешепнулась с товарками, выдвинулась вперед:
– Товарищ военный или… как вас назвать, не пугайте ее.
– Не пугайте! – хором подхватили две другие колхозницы.
– Агроном сказывал, военный из Москвы прикатил, Клавдию ищет… Зачем она вам? – допрашивала Маруся.
– Двадцать годиков не видели Клавдию, а всё наша деваха геройская, обидеть не дадим! – подхватили другие.
– Девочки, бабы! – со слезами в голосе воскликнула Клавдия. – Этот товарищ военный не чужой мне, а дорогой человек. Пионервожатую Варю, мою московскую подругу, помните? Отец. А то дочь. Тоже Варя. На смену… Арсений Сергеевич, уж как я Записки хранила! Из войны, из плена целыми вынесла!..
– Сейчас где они? – нетерпеливо спросил дед. По лицу его было видно, спросил уже без надежды.
– В день перед отъездом хватилась, дай, думаю, взгляну, размечталась, как сюда, на родину, ехать, разгрустилась, вспомнила старое, думаю, ах, погляжу на свою дорогую тетрадочку, везти-то ее с собой не собиралась я, не для кого вроде, про вас неизвестно, может, вас и на свете уж нету…
Клавдия говорила без передышки и прижимала руки к груди.
– Ну? – торопил дед.
– Они в сундуке лежали, на дне. Неносильная одежда у меня в сундуке, отцов кафтан, чабаном отец был у мужа, его кафтан и лежит, и другое памятное, а на дне, под вещами, Записки. Арсений Сергеевич, может, найдутся еще…
Дед отвернулся. Помолчал.
– Когда пропали? – не оборачиваясь, коротко спросил дед.
– То и беда, что не знаю! Может, год тому, может, два… А может, вовсе недавно. А может, сама я переложила куда да забыла. Прежде памятлива была… – Клавдия всхлипнула.
– Пре-ежде! Двадцать годиков утекло после прежде-то! – вставила колхозница в красной кофточке. – Клава, Клава! Отец с матерью, два братана потеряны. Что там тетрадочка! Что там Записки!
Клавдия заплакала. Плечи у нее вздрагивали, снова из пучка выскочила шпилька, и волосы гривой рассыпались по спине.
– Не нашла, видно, счастья Клавдюха! В обиде на жизнь? – запричитали в голос колхозницы.
– Дорогие мои, золотые! Не в обиде я на жизнь, а напротив! А вы? А вам что досталось? Мужья, семьи-то есть ли? Какое ваше бабье житье, поделитесь, – спрашивала Клавдия сквозь слезы.
– Иди, Варя, в сад, – велел дед.
Он не любил при ней разговоры на житейские темы. «Бабьи» особенно. О мужьях, женихах, свадьбах, изменах, разводах… Он считал, что гораздо более Варю должно интересовать политическое положение в Конго. Концерт Шостаковича. Кинофильм «Иваново детство». Одним словом…
– Иди, Варя, в сад.
– Есть идти в сад!
– Батюшки-матушки! Муштра-то! – удивились колхозницы.
Варя не прочь была бы послушать разговоры про бабье житье. Но с дедом спорить напрасно, это Варе слишком хорошо было известно, и она, не споря, вышла на крыльцо. Крыльцо высокое, с перильцами. Перильца пошатываются от старости, ступеньки скрипят.
Здесь они читали Записки. На этих ступеньках. Сидели, прижавшись. Пропала тетрадь! Деда жалко. Он старый, он упрямый, дед. Мечтал вернуть в дом реликвию. А Варя рада, что приехала в Привольное, мамино Привольное, увидала крылечко, узнала мамину подругу Клавдию Климанову… Хадживасилеву Клавдию… На этих ступеньках они сидели… «Пионервожатая Варя, моя мама, моя…» Ступеньки, поскрипывая под ногами, свели ее в сад, отгороженный от дороги густой изгородью из акаций. Несколько длинных рябинок стояло в садочке. Варя обняла рябинку, прислонилась к стволу головой.
– Тебя тогда не было, рябинка. Меня тоже не было.
Она обогнула дом. За домом был другой сад. Настоящий. Большой. Яблоневый сад. Старые яблони, широко раскинув сучья, цвели белым и розовым цветом. От бело-розового цвета, разлившегося как половодье, все сияло вокруг и светилось.
Весь воздух звенел. Это звенели пчелы, тыкаясь хоботками в душистые венчики.
«Никогда, никогда не видела я такой радости!» – подумала Варя, впервые за свою жизнь очутившись в таком большом яблоневом саду. Она пошла вдоль сада узенькой тропкой, которая, наверно, приведет ее к самой Оке. От ожидания Оки у нее шумно стучало сердце. Она нетерпеливо смотрела вперед. И вот впереди, на узенькой тропке между белыми яблонями, она увидела мальчика. Он был ее лет. Нет, старше. Должно быть, ему лет пятнадцать. Высокий, гибкий, в черном свитере.
Утро было свежо, по погоде свитер, в самую пору. Мальчик был смугл, чернобров, черноглаз, с волнистыми спутанными волосами, один клок рогом загнулся на лбу. Он шел Варе навстречу и показался ей удивительным, этот смуглый высокий мальчик в черном свитере посреди белых яблонь.
От неожиданности сердце у нее застучало шумнее, так шумно и часто, что она остановилась, ожидая, пока он приблизится.
– Здравствуй! – сказал он, подходя, и улыбнулся.
И сразу она почувствовала себя прекрасно и весело от его ласковой и хорошей улыбки.
– Здравствуй, – весело сказала она.
– Ты не здешняя?
– Нет. Как ты угадал? Из Москвы.
– Из Москвы! – в изумлении воскликнул он, как если бы она сказала, что из Нью-Йорка или с Марса. – Москва хорош город! Когда я приехал в Москву, даже спать вначале не мог. Знаешь, что самое красивое в Москве? Когда смотришь с горы, где высотный университет, смотришь вдаль с высокой горы, с обрыва, и видишь весь город. В дымке. Большой, в дымке… Потом зажгутся огни, весь город в огнях… Перебегают огоньки, как живые. Ты видела?
– Как чуднó ты говоришь! – удивилась она. – У нас в классе ни один мальчишка не стал бы расписывать огни и все такое.
– А что он стал бы расписывать?
– Ну… футбол.
– Футбол я тоже люблю. Кто не любит футбол! Куда ты идешь?
– На Оку.
– Идем, я провожу тебя на Оку.
Они пошли узенькой тропкой. Варя впереди.
– Еще мне понравился в Москве Большой театр с четверкой коней. Кремль тоже нравится.
– А я первый раз вижу такой большой яблоневый сад, – сказала Варя. – А через плетень еще сад, гляди! А там еще… Здорово бы пожить здесь, среди яблонь!
Она нагнула ветку понюхать цветок. В шелковистых лепестках возился мохнатый шмель и гудел. Варя, вскрикнув, выпустила ветку.
– Не тронет, – спокойно сказал он. – Работает, некогда.
– Как тебя зовут? – спросила Варя.
– Людмил.
Варя оглянулась. Он улыбнулся своей доброй улыбкой. Его черные яркие глаза улыбались.
– Как ты сказал?
– Людмил.
Ей стало смешно. Она поняла, что он шутит, но не поняла, в чем смысл его шутки. Но все равно, неизвестно почему, ей стало смешно! Она захохотала. Он тоже рассмеялся.
– Что ты? Что ты? Ха-ха-ха! – смеялся он.
– Ха-ха-ха! – покатывалась она.
– Что тебе смешно, ха-ха-ха! Что ты? Что ты? – повторял он сквозь смех.
Наконец, вздохнув в последний раз – сладко вздохнув, ох, ха-ха! – она двинулась по тропке дальше. Он шел следом за ней.
Сад кончился. Плетень отделял его от небольшого лужка, полого спускавшегося к Оке. При виде этого яркого изумрудно-зеленого лужка и тихой Оки Варя сразу утихла. Открыли калитку. Молча спустились к реке. Солнце потоками лучей лилось на воду, вода сверкала, как будто миллион маленьких зеркалец раскололся и рассыпался по реке.
На том берегу, песчаном, с рыжими крутыми обрывами, стеной стояли сосны. Могучие их стволы, темные внизу, кверху раскаленно горели знойной медью. Вершины сходились, и казалось – над медными стволами навешена зеленая крыша.
Варя оглянулась. Мальчик в черном свитере глядел на сосновый бор за Окой. Глядел куда-то вдаль. Черные шнурочки бровей задумчиво сдвинулись. Клок волос беспорядочно падал на лоб.
– Как тебя зовут? – спросила Варя.
– Людмил.
– Ты нездешний, – сказала она.
– Нет. Идем.
Он быстро зашагал вдоль берега, она едва за ним поспевала. Ей было не до смеха теперь. Кто он такой, этот нездешний, черноглазый? Откуда он взялся? Неужели…
Они довольно долго шли вдоль берега. Ока еле слышно плескалась о берег, еле-еле. Песчаная полоса над Окой становилась шире. Лужок поднимался выше, дальше уходил от воды. Выше поднималось Привольное, с белыми садами, пением петухов, запахами дыма из самоварных труб.
Людмил привел Варю к мосткам. Мостки были широкие и далеко вдавались в воду. С этих мостков, наверно, удобно полоскать белье. Вдоль берега стояли лодки, десятка три, розовые, синие, разных цветов, и некоашеные, большие и грубые, прикрепленные цепью к колышку на берегу или привязанные обыкновенной веревкой.
К этим мосткам могла бы причалить баржа…
Что-то толкнуло Варю в сердце. Она оглянулась. Как здесь много песку! До самых садов пески и пески! Осенью, когда сечет дождь, Ока серая, в беспорядочной ряби, на том берегу не горят знойным золотом сосны, песок мокрый, тяжелый… ноги вязнут, трудно бежать…
– Когда была война с фашистами, сюда, в Привольное, как раз к этим мосткам… – сказал Людмил.
– Слушай, – вся похолодев от предчувствия, перебила Варя, – как твоя фамилия?
– Хадживасилев Людмил.
– Так я и знала! – сказала Варя. – Ты приехал из Болгарии. Я так и знала!








