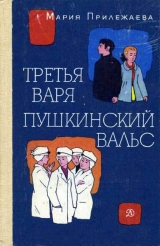
Текст книги "Третья Варя"
Автор книги: Мария Прилежаева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
3
Дед молчал. Варя тоже помалкивала. Так они молча приехали на Казанский. Люди толкались, бежали с чемоданами и сумками. Была суета, как всегда на вокзалах, гул голосов, дневные лампы лили безжизненный свет.
Поезд дальнего следования был уже подан, в окнах вагонов виднелись первые пассажиры, устраивающие чемоданы на верхних полках, готовясь в не маленький путь. У подножек вагонов толпились провожающие.
– Прибудешь на место, телеграмму отбей!
– Здоровье, Павлуша, береги, слышишь, здоровье!
– Аллочка, в пакете на дорогу яички крутые!
Неожиданно Варя увидела поспешно идущую вдоль поезда учительницу Валентину Михайловну в синем берете.
– А я жду, а я беспокоюсь! – встревоженно кричала учительница.
– Напрасно, напрасно, – отрывисто бормотал дед.
– Как – напрасно? Как же напрасно? Арсений Сергеевич, желаю удачи! Варя, а я из школы вернулась и будто прозрела! Такое совпадение, такое удивительное, может ли быть? Мигом в метро – и в «Советскую» на Ленинградский проспект. Только их разыскала, а тут и Арсений Сергеевич подоспел… Варя, отпускаю тебя на свой страх и риск за три дня до окончания школы. Директора сейчас не найти, беру на себя, на свой риск… А Клавдия-то, Клавдия, можешь представить!..
– Поезд номер… Москва – Ташкент отправляется…
Шум и суета возле вагонов усилились.
– До свиданья! Благодарю, – сказал дед, церемонно целуя Валентине Михайловне руку.
– Что вы! Что вы! – радостно загорелась она. – Ведь это исключительный для историка случай! Если в вашу семью возвратится… Ведь это же документ сердца, живой голос истории… ведь для вашей летописи как это важно!
Дед нагнулся, снова молча поцеловал полненькую ручку Валентины Михайловны.
– А какая для школы находка! – кричала Валентина Михайловна, идя рядом с вагоном, когда поезд тронулся, сначала медленно, потом быстрее, шибче: стучу-стучу, чу-чу, чу-чу-чу… – Замечательная для школы находка, для нашего исторического кружка! Ты там слушай, Варя, запоминай да записывай… Да копию, Варя, сними для кружка!.. Не опаздывай на практику, Ва-а-ря!
Вокзал остался позади, давно уже не видно учительницы в синем берете. Мимо окон вагона бежали пятиэтажные розовые здания, склады, пакгаузы, автобусные парки, пробежала деревянная, с навесом платформа Сортировочной, и пошли мелькать дачные поселки, цветные абажуры террас, сады, темные сосны, и пахнуло в окно сыростью, свежестью, ароматом весеннего подмосковного вечера.
– Симпатична, но слишком восторженна, – сказал дед. – Ну-с, прибываем завтра утром в шесть тридцать. В нашем распоряжении нормальная ночь.
Попутчиками по купе оказались старики: муж и жена, любезные и очень общительные. В первые же минуты после отправления поезда выяснилось, что старики едут в Ташкент, гостить к сыну, известному хирургу, чуть ли не с мировым именем, что жена сына тоже ученая, тоже известная и премилая, но бездетная. Все хорошо, лучше не надо, а вот внуков нет и, как хотите, неполная жизнь, пустота какая-то…
– Гм! – неопределенно отозвался дед.
– Димочка, съешь пирожок, – сказала старушка. – Хочешь с грибами или с капустой? Ветчина есть. Хочешь баночку компота откроем! Ехать нам, е-ха-ать! Девочка, хочешь пирожок? А вы, товарищ военный?
– Благодарю, на ночь не ем.
Поезд мерно покачивал вагоны: сту-тчу, тчу-чу… За окном на бледном небе летели бледные звезды. Лес подступил, встал вдоль путей, и июньская ночь потемнела. Поезд мчится сквозь черный туннель леса, длинный-длинный туннель, черный-черный.
Пока старики ужинали, Варя стояла у окна в коридоре. Лес отошел. Снова открылось бледное звездное небо с оранжевой полосой вдали на горизонте – зарево огней Москвы. До свиданья, Москва! Едем в Привольное, мамино Привольное на Оке, мы едем, мы едем, мне интересно, я рада, я люблю деда! Вон он сидит в купе, прислонившись затылком к спинке скамьи, прямой, как линейка, с закрытыми глазами…
Старики окончили ужин, убрали продукты в большую суму, аккуратно смахнули в газету крошки со столика.
– Димочка, как ты полезешь на верхнюю полку? Как им не совестно, всучили билетик… Димочка, не упасть бы!
Дед открыл глаза:
– Можете располагаться внизу.
– Спасибо, а вы? А вы как же? Девочка все же… Неловко…
– Ничего, мы привыкли. Мы по-солдатски. Варвара, занимай верхнюю полку.
– Есть занять верхнюю полку!
– Мы вам так благодарны… Так любезно… Димочка, ты слышишь, как любезно! Все хорошо, Димочка, лучше не надо…
Старики улеглись. Варя и дед тоже улеглись наверху. Погасили электричество. Только глядит фиолетовым глазом ночник, разливая таинственный свет. Тихо. Сон пришел. Ночь.
Стчу-тчу, чу-чу… Варю покачивает на верхней полке. Фиолетовый глаз глядит на нее с потолка. Колеса стучат. Ты помнишь, ты помнишь, ты помнишь… Много лет назад, помнишь, твоя мама ехала так же в село Привольное на Оке. Так же глядел с потолка фиолетовый глаз…
Нет, все было не так.
Варя не помнит, не может помнить. Тогда ее и на свете еще не было. А мама ее была сама школьницей, десятиклассницей, шестнадцати лет, отрядной пионервожатой.
Варя не помнит, а знает! Подробно, будто не мама, а она была пионервожатой, которую послали провожать из Москвы школьный интернат в эвакуацию. Состав, переполненный школьниками, собирался, готовился, маневрировал, перегонялся с пути на путь так долго, все отчаялись: не отправят! Настала ночь, дети не слышали, как поезд наконец пошел. Дети спали. На полках, на полу и узлах. Фиолетовый глаз ночника призрачным светом освещал сонный вагон. Пионервожатая одна дежурила в вагоне. В эту первую ночь ее оставили одну на целый вагон, потому что была неразбериха, все падали с ног от усталости, в ушах стоял плач матерей. Все потеряли надежду, что состав с детьми увезут от бомбежек, от сегодняшнего налета. Неужели тронулись все-таки? Тронулись. Едем. Что впереди?..
Пионервожатой было тоскливо. Ее никто не провожал. Ее отец, Варин дед, ушел на фронт, а матери у нее не было.
«Если я не вернусь, – сказал пионервожатой отец, Варин дед Арсений Сергеевич, – снеси мужественно. Многие не вернутся с этой войны. Живи честно и бескорыстно и храни эту тетрадь, здесь Записки… Никогда и нигде не роняй нашу честь, а, наоборот, умножай своими поступками!»
Так простился дед со своей единственной дочерью, произнеся ей в напутствие небольшую, довольно старомодную речь. Он редко выражался возвышенно, только в случаях крайне сильных волнений.
Он уехал на фронт, а его дочь, пионервожатая, – в село Привольное, в Рязанскую область.
Она ничего не взяла с собой, уходя из отчего дома. Она была еще очень юна и не обладала житейской практичностью. Задернула на окнах занавески, закрыла простыней портрет в овальной раме. Прощай, детство!
За плечом – вещевой мешок с двумя сменами белья, парой обуви, шерстяными носками. На дне мешка – завернутая в платье тетрадь в переплете из красного сафьяна.
«Говорят, я стала скучна. Нет тех красок в лице, того блеска в глазах… Душевная тревога меня съедает. Где смысл моей жизни? Зачем я живу? Затем, чтобы, встав поутру, дождаться наступления обеда, привычных встреч, музицирования или обычного ничегонеделания? Что со мной, что со мной? Дни мне кажутся пустыней. Не с того ли часа я мучаюсь вопросом о смысле и назначении жизни, когда Сергей под великой тайной признался, что отклонил благосклонность влиятельного лица, а с тем вместе и протекцию избежать действующей армии?
Сергей отверг покровительство и вытекающие из него привилегии. Ты прав, Сергей, ты послушался стремления сердца. Благородство и честь – защищать от насилия слабых! Всегда бороться с насилием, везде! Ты прав, Сергей, прав!.. Он уехал, а я вспоминаю, я горжусь им! И может быть…»
Так начинались эти Записки, которые пионервожатая спрятала между прочими вещами в мешке, уезжая с интернатом от бомбежек Москвы летом 1941 года.
Ребята спали. Пионервожатая ходила вдоль вагона, от полки к полке, поправляя разметавшиеся руки и ноги детей. В свете фиолетовых лампочек лица детей казались больными. Вагон трясло и бросало. Дети стонали во сне.
– Мама! – позвал мальчик.
– Я здесь, – сказала пионервожатая. Прижалась щекой к теплой щеке мальчика. Он мирно чмокнул губами.
«Благородство и честь – защищать от насилия слабых».
Вожатая одна бодрствовала в вагоне. В других вагонах бодрствовали другие вожатые и учительницы из разных школ и интернатов.
В Коломне поезд остановился. Пионервожатая вышла на площадку вагона. На соседнюю площадку вышла из другого вагона учительница.
– Как тихо! – шепотом сказали они друг другу.
Было неестественно тихо. Зловеще. Станция не освещалась. Станционные здания были темны, будто все вокруг вымерло. Смазчик в черной куртке, с черным от копоти и масла лицом, сверкая белками глаз, осматривал колеса. Негромко постукивал молотком. Прошагали двое патрулей с винтовками и красными повязками на рукавах. Долго слышался стук шагов.
На стене вокзала висел плакат. «Смерть фашистам!» – было видно на плакате в свете луны.
– Как тихо! Ты боишься? – спросила учительница.
– Нет.
– Только не бойся!
В ту же секунду радио отчетливо, странно спокойно сказало:
«Граждане, воздушная тревога».
Тонко завыла сирена.
– Идут, – сказал смазчик.
В июльском, без единого облака, синем от луны небе шли фашистские самолеты. Они шли строй за строем, наполняя все небо гулом.
– На Москву, – сказал смазчик. – Не вовремя остановились здесь с ребятишками! Как на ладони весь состав.
Он, пригибаясь, побежал вдоль поезда.
– Слушай, – сказала пионервожатой учительница, – ты не буди детей, все равно не успеем. Ты не бойся.
– Я не боюсь, – ответила пионервожатая.
Она вернулась в вагон. Окна были закрыты. Было душно, пот крупными каплями выступил у нее на лбу. Фиолетовый глаз недобро светил с потолка призрачным светом. У нее дрожалл от слабости ноги.
Мальчик застонал во сне. Она нагнулась. Прижалась щекой к его тепленькой щечке. Судорожно обняла его сонное тельце, прильнула, словно хотела спастись.
– Мама!
– Я здесь.
Как его зовут? Спи, мальчик, спи. Лучше не просыпайся, мальчик. Если они не сбросят сейчас на нас бомбу, если мы не погибнем, клянусь, даю святую пионерскую клятву…
Варя, шумно вздохнув, перевернулась на полке. Всякий раз, когда она добиралась до этого места, ей хотелось реветь…
Дед приподнялся, оперся на локоть.
– Ты что, Варя?
– Ничего. А ты? Дед, отчего ты не спишь?
– Обидно, если мы не застанем Клавдию. Она могла приехать в Привольное на один день и уехать.
– Зачем ей в Привольное?
– Край детства.
– Ты уверен, что это она?
– Она.
– Дед, если мы не застанем Клавдию, теперь-то уж мы разыщем ее. Пара пустяков теперь ее разыскать! Привольное красиво?
– Увидишь.
– Покойной ночи, дед! Пожалуйста, постарайся заснуть.
– Постараюсь. Спасибо.
Ночь. Колеса стучат. Стучу-тчу, чу-чу… Спите спокойно, люди добрые, спите. Стчу-тчу…
4
Поезд постоял у станции с минуту, гуднул низким басом и застучал колесами дальше. Несколько колхозников и местных районных деятелей с портфелями, сошедших на станции, быстро рассеялись. На платформе остались высокий военный в плаще и безукоризненно отглаженных брюках, ничуть не смятых в дороге, и девочка в голубом пальто и желтом платье, с полупустым рюкзаком на спине.
– Итак? – сказал военный.
Сейчас, ранним утром, на незнакомой станции, он был немного смущен внезапностью и слишком быстрым темпом путешествия.
– Итак?
– Что ты теперь собираешься делать? – спросила Варя, оглядываясь.
– Раздобыть машину или другой экипаж и следовать по назначению. Тебе улыбается, скажем, «Волга»? Или ты не пренебрежешь и телегой, запряженной сивой кобылой?
– Не пренебрегу и пешком.
– Неплохо, будь десятка на два поменьше годочков. Поищем-ка транспорт.
Он направился своей решительной военной походкой к станционному зданию. Это было каменное здание дореволюционной прочной кладки, приземистого, тяжелого стиля. Невольно хотелось пригнуть голову, входя в его низкие двери. По обе стороны станционного здания стояло по ларьку, набитому дешевеньким, невзрачным товаром; позади, прячась до крыш в жасминовых и сиреневых зарослях, расположились флигеля служащих, сараи, сараюшки, погреба, колодец, поленницы дров; дальше шел луг, весь облитый росой, сверкающий тысячами серебряных капель; еще дальше дубовый, недавно одевшийся лес. Все это – жасмины, сирени, луг, лес – звучало, звенело. Отовсюду летели щебет и свист. Звонкое, удивленное какое-то кукование доносилось из леса. В кустах шумно возились воробьи. Петух на плетне, с великолепным, как разноцветное опахало, хвостом, упоенно и гордо пробовал свой петушиный, неотразимый для куриного населения голос.
– Ах, – сказала Варя, – как здесь весело! Здесь хочется пожить.
Немного спустя в низких станционных дверях показался дед и поманил ее пальцем.
– По щучьему велению, по моему хотению машина подана!
И правда, позади станции Варя увидела «газик». Квадратный, с брезентовым верхом, с ярким лазоревым кузовом! Молодой человек в соломенной шляпе тер тряпкой запыленное смотровое стекло. При виде Вари он бросил тряпку под переднее сиденье.
– Скоро! Заждались!
Он был высок, тощ, в высоких сапогах и синей прорезиненной куртке на «молнии», с накладными карманами, очень эффектной.
– Бегом, пионер!
Это относится к Варе? Никого, кроме нее, в красном галстуке возле не видно.
Она хохотнула, развеселившись еще больше, и бегом подбежала к машине. Он влез в машину, включил мотор. Машина крупно задрожала, готовая ринуться в путь.
– Повезло, – сказал Варе дед. – Случайно оказался на станции товарищ агроном из колхоза «Привольное». Двадцать километров мы с тобой, пожалуй, до вечера прошагали бы.
– Двадцать пять. Занимайте места, – сказал агроном.
Они заняли места: Варю пропустили на заднее сиденье, дед сел рядом с агрономом. Дверца захлопнулась, и, ныряя в ухабах, гремя в задке кузова чем-то железным, вздымая позади курчавые клубы белой пыли, «газик» покатил в Привольное.
– Ближней дорогой поедем, – сказал агроном.
– Знаешь, зачем он был к поезду? – сказал Варе дед. – Какие-то сверхредкие семена гороха с этим поездом товарищ прислал. Горох какой-то сверхредкий.
Агроном промолчал.
– В пакете два десятка горошин, – сказал дед.
Агроном молчал.
– Двадцать пять километров сюда, двадцать пять обратно. Из-за двадцати горошин, – повторил дед, явно желая втянуть его в разговор.
Он все молчал.
Дед искоса на него поглядел, обиженно кашлянул и насупился.
– От самой Москвы всё удачи, а у цели возьмет да сорвется, – после паузы в задумчивости самому себе сказал дед.
Агроном и сейчас не откликнулся. Он до странности не проявил интереса к приезжим.
Они въехали в лес.
Дубы стояли в нем редко и высоко под широкими сводами крон. Толстым ковром лежали на земле прошлогодние ржавые листья, от рыжины рябило в глазах. Тонкие прутья подлеска, спрятанные от солнца кровлей дубов, едва начинали пушиться.
– Просторно в лесу, по-весеннему, – сказал дед.
– Гм! – неопределенно отозвался агроном.
Дед внимательно на него поглядел, слегка улыбнулся и продолжал:
– Славный лесок. Привольновский?
– Что? Гм… кажется.
– Понятно, – усмехнулся дед. – Не местный.
– Кто?
– Вы… Приезжий?
– Приезжий.
– Со студенческой скамьи?
– Д-д-да.
– Давно?
– Гм… первый год.
– Точнее – первую весну. Точнее – нет месяца.
– Кто вам сказал? – удивился агроном.
– Вижу. Бычитесь. В себе не уверены.
– Еще чего! – сердито вспыхнул агроном.
– Вон и загореть не успели. Ленинградец?
Агроном кулаком столкнул шляпу со лба назад и озадаченно уставился на деда. Впрочем, не дольше секунды – «газик» вильнул. Он вмиг его выправил. Осторожно нагнулся к рулю. Некоторое время вел молча.
– А водите хорошо.
– Кто вам сказал, что ленинградец?
Дед довольно усмехнулся:
– Немного наблюдательности, немного догадки, немного чутья.
– Ну, а мы кто? А мы? – спрашивала Варя, подпрыгивая на заднем сиденье.
Она подпрыгивала от толчков, радости и необыкновенности этого утра, этой поездки в брезентовом «газике» по деревенским дорогам. При каждом толчке она едва не тыкалась носом агроному в плечо. Железный бидон, гремя, катался у нее под ногами, она с ним сражалась, стараясь отпихнуть. Ухаб. Вниз! Вверх!
– А мы кто? Ну? Немного догадки…
– Куртка выдала, – сказал агроном. – Ленинградец, верно, и не загорел еще, верно…
«Газик» вылетел из дубового леса и спустился в низину. Дорога, развороченная грузовиками, стала труднее, почти непроезжей. В грубоких колеях стояла жидкая грязь. Чавкала под колесами, летела ошметками в стороны. Вдруг забьет, как из шланга, фонтаном. «Газик», напрягая силы, кряхтел.
– Черт, забуксуешь, чтоб ему!.. – выругался агроном. – Извините.
– Ничего, – сказал дед.
Пока «газик» выбирался из грязевой лужи в полметра глубины, полкилометра длины, они напряженно молчали. Такого грязевого разлива Варя еще не видала! Выбрались. Обошлось без буксовки.
Агроном остановил машину, выскочил поглядеть, что стало с кузовом. Что стало с лазоревым кузовом! Где небесная его голубизна!
– Надо было в объезд, – сказал агроном, надвинул шляпу на лоб, влез в машину и погнал как сумасшедший по ровненькой, словно катком выкатанной, зеленой равнинке. Такой чистенькой, гладкой, будто и не было только что чавкающей топкой низины позади.
– Немного наб-лю-да-тель-но-сти! – напевала Варя.
– Удивляюсь, что в дачах? – сказал агроном. – Чепуха на постном масле!
Вот что, он их принял за дачников!
Среди дачников встречаются плохие и хорошие, умные и неумные, ничем не знаменитые и выдающиеся люди, но агроном из колхоза «Привольное» к данникам как таковым относился со скукой.
Пусть это был предрассудок, агроном пренебрегал данной категорией советских граждан. Он считал их какими-то ненастоящими гражданами, прозябателями. Извините, конечно…
– Дана задача, – сказал дед, – двое граждан в летнюю пору приезжают из Москвы в живописное село на Оке. Зачем? Решение первое – дачники. Классический пример шаблонного мышления.
– Отпадает? – спросил агроном, столкнув со лба шляпу назад.
– Ох, и хочется знать, зачем двое граждан приехали из Москвы в живописное село на Оке! Не на дачу – зачем же? Зачем же? Зачем же? – дразнила Варя, веселясь и прыгая на заднем сиденье.
– Зачем же? – равнодушным тоном повторил агроном.
– О Клавдии Климановой слышали? Вот вам!
Он так круто обернулся, что Варя едва успела откинуться на заднюю спинку. Машина вильнула. А как раз яма. Он едва не свалил машину в яму, только его водительская квалификация спасла их от аварии.
– Едем к Климановой Клавдии, да, – сказала Варя.
Он рванул тормоз. Машина стала. Он сдвинул шляпу на лоб, оперся локтями на руль и изумленно деду:
– Фантастика?
– Не фантастика. Мы едем к Климановой Клавдии, – сказал дед.
Хорошо жилось до войны в селе Привольном Климановым! Справный был дом, залюбуешься. И что редко, что в наше время почти исключительно – вся семья вместе, никто не убежал из колхоза.
Бегут из разоренных колхозов. В Привольном перед войной колхоз жил небедно. Во владении богатейшие заливные луга. Пашни близкие. Скотина ухоженная. Председатель не вор, не дурак. И не пьяница. Оттого и колхозники жили с достатком.
И Климановы жили ладно и дружно, крепкой, работящей семьей. Отец работал конюхом. Когда в двадцать девятом в Привольном обобществляли хозяйство, свою животину на колхозный двор свел, так и остался при конях. Спросите любого, никто не скажет о Климанове худо. Обыкновенный колхозник, речей не умел говорить, наград и отличий за трудовую жизнь не добился – работал на совесть, только и всего. А это много – работать на совесть! Если бы все-то на совесть работали! И еще – плохого людям не делал. Не любил делать людям плохое.
О сыновьях тоже худа не скажешь. Сыновья росли трезвые. Отца и мать уважали. Правда, люди говорят: «Женятся – переменятся». Но это когда-то… А пока холостые, ребята не стремились покинуть отцов дом в Привольном. Один после армии работал механиком в тракторном парке, другой – учеником кузнеца.
А радостью дома, баловницей, общей любимицей была дочка Клавдия! Клавдюшка! Хохотунья, певунья, танцорка. Но главное не в том, что танцорка, а что в весну перед войной окончила районную десятилетку по признанию педагогического совета отлично. Отличницу собирались провожать в институт, в Московскую имени Тимирязева сельскохозяйственную академию. Учителя предсказывали Клавдии победу в науке. Учителя – фантазеры: «Вот такой-то мой ученик или такая-то ученица – будущая звезда и талант – совершит что-то из ряда вон выходящее, и моя педагогическая деятельность осветится особым, возвышенным смыслом…»
Клавдия не успела отличиться в науках. Началась война. Отца и сыновей Климановых взяли в армию в первые дни. Позже и Клавдия ушла добровольно на фронт.
Агроном нажал на педаль, «газик» взревел. Агроном обращался с ним без церемоний. Но с доверием. И «газик» его не подводил. Мягко бежал да бежал луговой дорожкой. Луг сверкал и искрился от еще не просохшей росы…
– Откуда я про Климановых знаю? – гоня машину луговой дорожкой, продолжал агроном. – Откуда я знаю? Зайдите в наш клуб… Спокойно, не дрейфить, Малыш! Нормально, Малыш!
Последние слова относились к машине. Дубовый лес, и низина, и миленькая луговая дорожка давно позади. «Газик» осиливал гору, довольно крутую гору, и весь вздрагивал, тяжело и натужно дыша. Человек за рулем подался вперед, весь тоже напрягся. Дед с любопытством глядел на него, на его сжатый рот.
«Газик» взял гору. Агроном ослабил руки на руле, отдыхал, распустив плечи.
– Классически водите, хотя и недавно, – сказал дед. – Отец водитель?
– И это угадано, – послушно согласился, словно сдался, агроном. – Водитель. На самосвале. На стройке. А я по сельскому хозяйству. Случайно.
– Семена гороха с поездом тоже случайно?
– То для опыта… Стипендию отработаю, там поглядим. А может, увлекусь.
– А вы уже увлеклись! А вы уже увлеклись! – хлопая в ладоши, кричала Варя.
Ей очень хотелось, чтобы он увлекся, вырастил рекордные урожаи своего сверхособого гороха, прославил Привольное… Незаметно они отмахали двадцать пять километров. Нырнули в овраг, поднялись, пересекли празднично зеленеющее молодыми всходами поле, над которым громко ликовали хоры утренних жаворонков, и глазам открылось Привольное. Оно вытянулось километра на два вдоль Оки. На той стороне, на высоком берегу, стеной стоял сосновый мачтовый лес.
– Вот что здесь, какой Шишкин! – сказал агроном. – И Левитана найдете. А импрессионизм? На каждом шагу!
– Скажите пожалуйста! – покачал головой дед и снова поглядел на него с любопытством.
«Газик» вбежал в село, остановился против проулка с яблоневыми, белыми от цвета садами позади изб.
– Приехали, – сказал агроном. – Третья по счету изба-пятистенка – бывший климановский дом. Откуда я знаю? Интересовался Климановыми, поскольку в клубе у нас… Теперь правление колхоза старейшую колхозную докторшу Авдотью Петровну тут поселило… А что Клавдия вернулась… не знаю. На фантастику смахивает. Правда, я больше в полях… На селе-то, если не вымысел, наверно, слышали. В правление скатаю, вернусь за информацией. До встречи! Пока!
Он приподнял шляпу. Малыш его фыркнул газом и умчался.
– Итак? – сказал дед.
Дед волновался. Варя поправила рюкзак на спине и ободряюще сказала:
– Пошли!
В проулке было безлюдно и тихо. Только пели где-то во дворах петухи. Третья по счету изба-пятистенка под красной железной крышей выходила крылечком в палисадник с живой изгородью из акации. Длинные рябинки стояли под окнами. Варя и дед поднялись на крыльцо, дед постучал. Никто не ответил.
– Дед, ты не видел ее никогда?
– Нет.
– Как же мы узнаем ее?
– Узнаем уж как-нибудь.
Дед толкнул дверь, они вошли в просторную комнату с большой русской печью в правом заднем углу. Вдоль передней стены, как в крестьянских избах, тянулась широкая лавка, перед лавкой – ненакрытый, чисто вымытый стол. Варя не успела как следует оглядеть обстановку, из соседней комнаты раздался голос: «Кто там?» – и на пороге появилась моложавая миловидная женщина с пучком светлых мягких волос, вся легкая, светлая.
– Вам кого? – спросила она деда.
Перевела взгляд на Варю и вдруг схватилась рукой за косяк, отшатнулась, словно ужасно удивилась чему-то. Словно перед ней привидение.
– Варя! – отчаянным голосом вскрикнула женщина. – Варя!!








