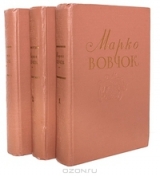
Текст книги "Совершенная курица"
Автор книги: Мария Вилинская
Жанр:
Сказки
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
1 Сюда! (франц.). Ред.
Впрочем, совесть Барбоски была щекотливее, чем у многих других.
Когда Тобишка показала ему, улыбаясь, свои желтые, расшатавшиеся зубы и сказала: «Вот. милая собачка, послушно идет!» – он горестно и гневно пролаял ей в ответ:
Не забывайте, ядовитый сморчок, что у меня ошейник на горле и что порабощенному щенку извинительно многое, чего нельзя простить самостоятельной собакеї О, если бы не цыпочка!..
Но ядовитый сморчок не понял настоящего смысла этого лая и объяснил его по-своему.
Рад погулять. Фингал? Рад? Я поведу тебя вон туда,– она указала на видневшуюся вдали огороженную рощицу,– к своей лисичке...
К лисичке? Великий боже! Тут где-то есть лисичка... цыпочка так неопытна...
Его охватила страшная тревога.
Он схватил было за колено Тобишку, но она стала визжать и отбиваться.
Чего вы боитесь? – лаял Барбоска.– Я вас донесу, как любой обгорелый сук... или как мертвого ужа...
Но старая тварь жеманилась; пришлось ей покориться и идти по ее мелким шажкам.
Наконец, они достигли огороженной рощицы. Тобишка вынула из кармана ключ, отперла замок, висевший на красивых воротцах в сельском вкусе, и они очутились под светлою, движущеюся сеткой березовых ветвей.
Лисинька! Лисинька! – запела Тобишка.
Ответа не было.
Где ты, лисинька! Лисинька! Лисинька! А вот она! На солнышко смотрит!
Прислонившись спиной к белому березовому стволу, распустив извилистый хвост по траве, устремив задумчиво глаза на заходящее солнце, сидела лисичка. Хотя сторожкие уши и острая мордочка заставляли предполагать, что у их обладательницы слух тонкий и чутье тонкое, она, очевидно, не слыхала и не почуяла приближения посетителей, пока они не подошли к самой березе, под которою она приютилась.
Лисинька!
Как она вскочила, узнав знакомый голосок! Ее глаза заискрились таким восторгом при виде Тобишки, что Барбоска заподозрил, не приняла ли она эту старую шутиху за представительницу какой-нибудь особой породы кур.
Здравствуй, лисинька, здравствуй, милая! Вот я тебе гостя привела... Фингал, Фингал, поди сюда. Ну, знакомьтесь, знакомьтесь... Фи, какой невежа Фингал – рычит! Поучись-ка у лисиньки. какая она милая и обходительная! Вот тебе, лисинька, гостинчик, яичко...
Грациозная лапка деликатно откатила от себя яичко, и острое рыльце, сиявшее умилением, выразительно говорило, что лисинька в присутствии своей покровительницы так наслаждается духовно, что ей и на ум не идут вещи, питающие грешную плоть. Глаза ее с упоением устремлялись на морщинистое лицо Тобишки и увлажались слезой, пушистый хвост трепетал от избытка чувства, лапки нежно вытягивались, как бы движимые неудержимым влечением обнять предмет своего обожания...
Скушай же, лисинька, яичко, скушай!
Ясные лисинькины глазки закатились вверх к голубому небу, будто они желали сказать:
Чего-чего не сделаешь для тех, кого обожаешь!
Затем она склонила рыльце, мягко дотронулась до
яичка, с несравненной грацией, быстротой и аккуратностью выпила его, подняла восторженно головку, нежно оскалила зубки, выразительнее всяких слов давая понять:
Требуйте еще жертв, я готова!
Очаровательная простота и безыскусственность сельской жительницы возвышалась тонким эстетическим чутьем художницы, умерялась врожденною скромностью, трогательною женственностью, и все вместе представляло столь пленительное сочетание, что Барбоска, невзирая на все предубежденье, всосанное им с молоком матери, не мог оставаться суровым и сам не заметил, как смягчился.
Когда старая Тобишка, наконец, отстала со своими ласками, занявшись собиранием букета из диких цветочков, и новая знакомая с милою приветливостью обратила к нему рыльце, он только потупился, но уже не зарычал, а когда новая знакомая застенчиво выразила ему свое удовольствие познакомиться с «таким» лягавым, как он, и надежду, что это знакомство облегчит ее тоску в одиночестве, мягкосердый пес смутился и пробормотал в ответ, что он рад служить ей, чем может.
О, благодарю вас, – ответила она, – я не забуду этого доброго, сердечного предложенья! Но, – прибавила
она с меланхолическою улыбкою,– я вас этим не затрудню! Я давно удалилась от света и всех его волнений! Если я чего ищу еще, если чем дорожу, так это посещеньем «таких» лягавых, как вы...
Как полно значенья было это ударенье на «таких»!
Барбоска невольно поднял голову выше, словно его пощекотали под горло.
Я совсем иначе представлял себе лису! – подумал он.– Это премилый зверек! Умеет оценить щенка, умеет...
Лисинька! ФингалІ Где вы? – раздался дребезжащий голос Тобишки.
Лисинька стрелой пустилась на зов и в одну секунду успела помахать хвостом, потереться у ног и возвратиться к Барбоске, который остался на месте, занятый вдруг мелькнувшею мыслию.
Скажите, пожалуйста,– спросил он,– что вы находите в этом старом труте?
И он кивнул на Тобишку.
Ах, сердце просит любви и привязывается к первому существу, которое покажется ему достойным!
Эта старуха самая лицемерная тварь!
Что вы говорите! Возможно ли? Ах, не подрывайте мою веру в прекрасное! Я так пламенно желаю верить и любить!
Но если не стоит ни верить, ни любить?
О, боже! О, боже! Не верить!.. Не любить!.. Мир превратится в опустелый храм!
Но в мире, слава богу, не одни лицемерки! Есть существа честные, возвышен...
Ах, не ошибаетесь ли вы в ней?
В ком? В этой старухе? Я своими глазами убедился...
Ах, нельзя судить по наружности!
Какая наружность! Я ее по наружности принял за сахар, такие она сладкие глаза строит!
Ах, предвзятая мысль часто вводит в невольное заблужденье, незаметно заставляет поступать несправедливо!
Но ведь я собственными глазами...
Ах, не доверяйте ни зрению, ни слуху – доверяйте только сердцу! Часто одна какая-нибудь едкая порошинка... или даже просто на предмет не так падает освещение, и все уже представляется в другом свете! Раздражен слух каким– нибудь неприятным шумом, и его утруждает самая гармония! Только сердце...
Вы подразумеваете чутье? – прорычал Барбоска.
Ну, чутье, если хотите... Не будем спорить о словах! Будьте великодушны, прощайте мне неточность выражения; ведь я выросла в уединении, я не ученая... Я знаю очень немного, да и то ничтожное знание досталось мне с трудом. Сколько помех! Сколько преследований! О, какое бесприютное детство! Какая безрадостная, сиротливая юность!
При одном воспоминаньи глаза ее затуманились слезами и рыльце приняло такое выраженье печали, что не только юный Барбоска, а и закаленный Бульдог смягчился бы непременно.
У каждой чувствительной твари имеются свои горестные воспоминания, и какой угодно Иеремия легко может пробудить сочувствие, если только сумеет искусно затронуть слабые больные струны.
Перед Барбоской мелькнуло его детство, его юность...
Лапа его невольно протянулась к лапке товарки по жизненным невзгодам.
Где ваша родина? – спросил он с участием.– Каким несчастным случаем вы сюда попали?
Моя родина?—отвечала она с меланхолическою улыбкой.– Я и не знала родины!
Как не знали?
Не знала. Мы изгнанники.
Изгнанники?
Да. Мать моя должна была бежать из отечества... Наш лес караулил сторож Максим, бородатое, грубое, безжалостное чудовище, которое завело у себя целый курятник и, свирепо почмокивая губами, с адским смехом пожирало бедных, беззащитных курочек...
Невзирая на все сочувствие к несчастиям рассказчицы, что-то кольнуло Барбоску в сердце...
И колотье это тотчас же отразилось на его простодушной, бесхитростной морде.
Может статься, что от зорких глазок рассказчицы и не ускользнуло облако, омрачившее ее юного слушателя, но она по этому поводу не сделала никакого замечания, только на рыльце ее выразилось столько страдания, что Барбоска сконфузился за допущение недостойной мысли.
Мать случайно познакомилась с несчастными жертвами, – продолжала рассказчица, – и решилась, хотя бы с опасностью для жизни, помочь им. Долго она взыскивала средство, наконец, в одну ночь ей удалось проникнуть в курятник...
Невольный лай вырвался у Барбоски... Он тотчас же опомнился, совершенно смутился и проворчал:
Извините... Я прервал вас... Вашей матушке удалось проникнуть в курятник... И?..
И отворить двери обреченным на истязания и смерть,– кротко взглянув на него, продолжала рассказчица.– Бедные создания опрометью кинулись на волю, сбились в проходе, и в смятеньИ какая-то закудахтала... Варвар выскочил с ружьем... Мать моя была ранена, но нравственное мужество дало ей силы добежать до норы, схватить меня и пробраться за границу владений Максима. О, что это было за бегство! Она на каждом шагу спотыкалась, стонала от мучительной раны...
Волненье пресекло ее голос... Мягкая лапа Барбоски снова невольно протянулась...
Благодарю,– прошептала она дрожащим голоском, помолчала, как бы подавляя одолевающее ее волнение, затем продолжала снова:
Мы поселились в чужом небольшом леске, недалеко от деревеньки. Мать моя, хотя поправилась, но уже не наслаждалась здоровьем и утратила прежнюю ясность духа. Рана от картечи мучительно ныла, но еще мучительнее ныли раны сердечные. Ах! Сердечные раны незалечимы!
Сочувственный визг вырвался из груди Барбоски.
Некоторое время мы вели безрадостную, бедную, но спокойную жизнь, но раз, гуляя под вечер по чаще, мы встретили горько плачущую и прикрывающую крыльями цыпляток наседку...
Опять Барбоску что-то кольнуло в сердце...
Однако, как сильны в нас предрассудки! – подумал он с досадой.
Мать подошла к ней, старалась ее успокоить и скоро узнала ее грустную историю. У нее было семеро детей, и трое старших были зажарены в это утро; она в порыве отчаяния вырвалась с остальными из курятника, скрылась в этой чаще, каждую секунду ожидала преследования и не знала, что ей делать.
Мать моя не колебалась ни минуты.
Норка у меня убогая,– сказала она несчастной наседке,– но вы с малютками все-таки найдете там убежище! Вы слишком слабы, я поддержу вас...
Она подхватила наседку под крылья, я, по ее знаку, тотчас же собрала испуганных малюток, и мы поспешили к норке...
Но наседку так растрогало участие моей матери, что с ней сделалась истерика, и она огласила лес истерическим хохотом.
Это всех нас погубило! Преследователи напали на наш след и настигли нас.
Раненая нога не позволяла матери шибко бежать, наседка лишилась чувств при виде убийцы своих детей...
Я могла бы спастись, но у меня на руках было четверо цыпляток, которые с жалобным писком жались к моей груди...
Могла ли я их бросить?
После нескольких минут безнадежного сопротивленья мать моя лежала бездыханная на траве, около нее трепетала умирающая наседка, я и малютки находились во власти ужасного человека, который превосходил свирепостью самого варвара Максима...
Он скрутил меня, вкинул в мешок и в мешке принес домой. Дорогой я слышала отчаянный писк цыплят... Они призывали меня на помощь, но увы! Я сама была беспомощна!
Началась ужасная жизнь – точнее говоря, ужасная пытка – я сидела в темном чулане... Но я не хочу входить в страшные подробности... Скажу вам только, что Семен и Мавра – так звали моих злодеев – хотели принудить меня есть курятину!
Рассказчица закрыла рыльце лапками.
Барбоска пролаял:
И вы?.. И вы?..
Вы можете сомневаться?—тихо проговорило возвышенное творенье, с кротким укором устремляя на него глаза.
О, нет!.. Но хлыст... заточенье... неопытность... Ведь можно с ума сойти! Взбеситься!
Мне посчастливилось выдержать до конца, – смиренно опуская глаза, отвечала она.– Злодеи, наконец, утомились истязать меня и продали сюда... Здесь я немного отдохнула... Я много страдала, Барбос Иваныч, я ничего уже не желаю от жизни для себя. Единственная моя отрада – служить, чем могу, ближним... Я не имею предрассудков и стремлюсь ко всему прекрасному, в каком бы виде оно мне ни являлось – в виде благородного человека, слад– когласой птички, милой овечки, золотистой мошки, великодушного бульдога... Нередко лучшие, чистейшие мои чувства попираются, но я считаю недостойным платить тем же! Я счастлива тем, что отроду не обидела ни одного невинного существа оскорбительным подозрением потому только, что кто-нибудь из его породы оказался жестоким или низким!
Барбоска не находил слов в ответ...
Ах, здравствуйте, Сусанна Матвеевна! Давно ли вы здесь? – вдруг раздался голос, похожий на скрип немазаного колеса, но преисполненный самых заискивающих ноток, и чья-то голова, покрытая голубой вуалью, просунулась сквозь березовые ветки около ограды.
Здравствуйте, милая Наденька! – вскрикнула То– бишка.
Ах, какой букет! Как вы умеете подбирать цветы, Сусанна Матвеевна! Что ж вы это сами наклоняетесь! Я сейчас пойду и помогу вам...
Раздался солидный топот, воротца хлопнули, и скоро показалась Наденька в пестром клетчатом платье.
Барбоска залаял.
Фингал! Фингал! Tout beau! Tout beau!—закричала Тобишка, спеша навстречу Наденьке.
Чмок-чмок-чмок...
Ах, какая миленькая собачка! – воскликнула Наденька.– Где вы достали?
Это Жорж себе достал.
Гороховы тоже достали себе, только плохенькую... Как зовут, Сусанна Матвеевна?
Фингал.
Фингал, дай лапку, дай миленький... поди, я тебя поглажу...
Не пойду! Не пойду! – пролаял Барбоска.
Ай, какой он у вас сердитый, Сусанна Матвеевна! Это не то, что ваша Дорочка! Что Дорочка? Отчего она не с вами?
Больна что-то! Вот уж два дня мало ест, мало пьет, все стонет... Так жалко, просто душа разрывается!
Ах, бедненькая! – воскликнула Наденька, словно у нее от этого известия если и не разорвалась душа, то, по крайней мере, где-нибудь треснуло. – Чем же вы ее лечите?
Припарками.
На животик, Сусанна Матвеевна?
На животик.
Из чего припарки, Сусанна Матвеевна?
Из теплых отрубей и фиалкового корня в порошке... Я прибавляю туда еще немножко гвоздички...
Ах, я была у тетеньки Палестины Мартыновны, Сусанна Матвеевна, и там меня научили одной припарке, которая ужасно помогает...
Неужели?
Ей-богу, Сусанна Матвеевна!
Ах, скажите, как ее приготовить!
Я вам ее приготовлю, Сусанна Матвеевна.
Добрая Надя!
Чмок в щеку.
Ответный чмок в плечо.
Надо взять сто зернышек льна, Сусанна Матвеевна, щепотку земли из-под порога, горячей золы... Я вам сегодня же сделаю...
Барбоска почти не слыхал этого разговора, потому что очень занялся наблюденьем новой физиономии.
Физиономия эта казалась ему престранной. Над маленьким, ввалившимся ложбинкою лбом лежали начесы темных, грязноватых волос, изумительно гладко примасленные. Барбоска ни на минуту не усомнился, что то было дело не гребенки, а усердно лизнувшего коровьего языка; за начесами топырился какой-то тугой, твердый, как арбуз, волосяной шар, обмотанный яркою ленточкою. Крупный нос, как будто, сначала собрался выскочить далеко вперед, но нашел выгоднее раздаться в ширину и образовал невет роятно тупой конец; крупные губы, которые могли бы прикрыть целую гряду капусты, не прикрывали, однако, зеленовато-голубоватых зубов. Но самым занимательным казались Барбоске глаза: они прыгали и вертелись на желтом, как застывшее лампадное масло, лице, точно изжелта– коричневые колесики, причем зрачок одного колесика стоял как следует, а зрачок другого уходил к самому переносью.
Все, взятое вместе, представляло какое-то жадное, обжорливое, алчное, трусливое и терпеливое двуногое пресмыкающееся, нечто вроде слабой представительницы особого рода доморощенных мелких крокодилов, которые еще не причислены научно к особому семейству и часто тогда
только познаются своими жертвами, когда жертвы уже попадают им на зубы.
Барбоска, которого неотступно преследовала тревога о безопасности цыпочки, разглядывая ее, не мог не рычать и не вздрагивать: один такой зеленовато-голубоватый зуб мог лучше всякого ножа перехватить любое нежное горлышко!
Кто это такая? – спросил он у своей новой приятельницы лисички.
Это здешняя поповна.
Поповна?
Да, попова дочь. Вы ведь видали попов?
Видал одного, отца Амвросия.
Это ей близкая родня.
Зачем она сюда пришла?
За поживой.
За поживой?!
Он впился сверкающими глазами в Наденьку и залаял.
Ах, он меня укусит!
Нет, нет, милая, не бойтесь! Он не кусается. Фингал, couche! Да, Надя, такова-то моя жизнь!
Ах, уж и не говорите, Сусанна Матвеевна! Вы всем пожертвовали, все отдали ей, а она этого совсем не чувствует! Господи! Бывают же такие люди! Все ссорятся?
Да,– вздохнула Тобишка.– Теперь за эту бедную собаку... Я, право, не знаю, что будет из Эли!
А что?
Она ей все позволяет! Вырастет ужасный палач из этой девочки! Да уж теперь» в одиннадцать лет, она палач! Вчера, вообразите, раздавила муху! Я задрожала, закричала, а она только что не смеется!
Ах-ах!
Теперь ей дали в забаву цыпленка!
Слышала! Купила за полтинник у егерихи?
Вообразите, вчера я говорю Дине: что будет с этим несчастным цыпленком, когда Эли им натешится? А она хохочет и отвечает: тогда мы ее в пасть к твоей лисице!
Ах-ах!
Как будто моя лисинька...
Вы ведь знакомы с приезжей курочкой?—спросила лисичка трепещущего Барбоску.
С приезжей? С какой приезжей? – взвизгнул Барбоска, подпрыгивая.– Когда она приехала? Откуда?
Не могу вам сказать, откуда именно. Мы недолго разговаривали... Я слышала, Эли говорила, что она ее привезла от какого-то егеря...
Цыпочка! Где она? Что с нею?
Мрачные подозрения, которых Барбоска только что стыдился, свирепо пробудились в его сердце. Он устремил пылающие взоры на кротко улыбающееся ему рыльце и испустил глухое рычанье, шерсть его ощетинилась...
Не знаю, где она,– отвечала собеседница, показывая вид, что не замечает его грубых, буйных ухваток, и в то же время давая ему понять, что только деликатность заставляет ее показывать этот вид незамечающей,– я ее уже давно не видала. Я хотела у вас спросить о ней. Такое очаровательное создание! В ней что-то неземное!
Но где она? Где она?—пролаял Барбоска.
Я постараюсь это разузнать. Хотите?
О, да!.. Нет, нет... О, какое несчастье!..
Барбоска, как безумный, принялся неистово рыть землю передними лапами, затем вдруг остановился, словно у него блеснула какая-то мысль, затем, вскочив, перепрыгнул через голову поповны Наденьки, прыжком зацепил за голубую вуаль, сорвал волосяной арбуз с маковки, не обращая вниманья на «ах» и «ай», стрелой помчался из рощицы и исчез из виду.
IX
Было чудесное ясное утро. Солнце жарко сияло на голубом, безоблачном небе, но в саду, под старыми липами, где лежал грустный Барбоска, зной не беспокоил.
Положив морду на передние лапы, он уныло смотрел в одну точку, на какую-то былинку. Он не замечал окружающего его летнего великолепия и думал свои думы.
Он очень упал духом с тех пор, как убежал из березовой рощицы.
Да и было отчего!
Тобишка вообразила, что он взбесился, и в первую минуту все поверили полоумной старухе...
Впрочем, по правде говоря, поверить было нетрудно, Барбоска это сознавал. Он. действительно, как безумный, кидался, куда попало... Он искал цыпочку, лай и вой его были отчаянным призывом, а не угрозой, не буйством; но кто же это знал!
Цыпочки он не нашел, хотя ему удалось проникнуть в комнаты налево, повалить там какое-то зеркальце, испугать Эли... Вместо того чтобы ответить на его умоляющий лай, где цыпочка, Эли принялась кричать и вскочила на стол...
Скоро, однако, все убедились, что он в здравом рассудке, и превосходительство опять его взял к себе в кабинет. Вчера Дина, которой превосходительство откуда-то принес какие-то коробки, погладила его и потрепала за уши; старая Тобишка при всякой встрече сует ему в пасть какое-нибудь пирожное.
Но разве все это может утешить в разлуке с названной сестрицей, с драгоценной цыпочкой?
Небо! До чего бессилен, до чего ничтожен всякий пес! Какое-то превосходительство, которое ему совершенно неизвестно, берет его, надевает на него ошейник и лишает всех радостей жизни!
Барбоска взвыл...
Ах, кто это воет в такую прекрасную погоду, когда все цветет и благоухает? Вот чудак! – прощебетала молодая чечетка, порхая с ветки на ветку над его головою.– Надо петь и веселиться! Вот чудак!
Раздраженный Барбоска вскочил на все четыре лапы, но, увидав крошечную головку, в которой едва могла поместиться какая-нибудь капля мозга, он снова упал на траву, прорычав с горечью:
О, чечетки!
И снова взвыл.
Он взвыл еще пуще, когда вдруг около самой той липы, под которой он лежал, раздался голос Тобишки:
Фингал! Фингал! Милая собачка! Вот тебе кренделек!
И она начала совать ему в пасть какие-то кусочки.
Оставьте меня! Оставьте меня! – завизжал Барбоска.
Что ж ты не кушаешь, Фингалик, а? Кушай, кушай, славный мой песик!
Оставьте же меня, бога ради! – визжал Барбоска.– Неужто вы думаете, что мне приятно ваше вниманье? Не глядите на меня такими сладкими глазами! Я раз видел, какою злобой, каким коварством они исполнены, и этого довольно! Кто лицемерит с людьми, тому и собаки не верят! Вы думаете, что если сунуть собаке какой-нибудь
лакомый кусочек, так она сейчас и возведет вас в доброе создание? Уйдите от меня, бестолковая шутиха!
Фингалочка, что с тобой? Кушай, кушай...
Она его не понимала.
Она вообще не понимала, до чего может надоесть, пока ей этого не высказывали чистым русским или французским языком.
Барбоска умел только лаять!
И к счастью для него: иначе добрая Тобишка поспешила бы сплести о нем такие кружева, что у всего собачьего рода шерсть стала бы дыбом и все шавки кинулись бы рвать его...
Но юный Барбоска не умел заглядывать так далеко в будущее, а главное, презирал всякие житейские мудрости.
Видя, что Тобишка не понимает лая, он зарычал так, что она отшатнулась, воспользовался этим и кинулся от нее бежать.
Пусть рассказывает, что я взбесился! – думал он, забившись под низкие ветви громадного куста калины.– Мне все равно!
Он закрыл глаза и на некоторое время впал в какое-то забытье.
Легкий шорох заставил его очнуться и приподнять голову.
Силы небесны! Что он увидел!
Как раз против куста калины, на дорожке, усыпанной желтым песком и испещренной движущеюся тенью ближних древесных ветвей, стояла цыпочка и что-то клевала!
Да, цыпочка, цыпочка! Хотя ее скорее угадало его верное, преданное сердце, чем признали глаза,– до того она выросла, пополнела, расцвела.
Неожиданная радость чуть не лишила его чувств... Он даже не мог взвизгнуть и с минуту не был в состоянии вскочить с места.
Цыпочка! – вырвалось, наконец, из его груди, и он ринулся к любимице сердца.
Цыпочка громко кудахтнула и, растопорщив крылышки, побежала в кусты.
Цыпочка! Цыпочка! Это я! Это я!
Но она не слушала. Когда он уже настигал ее, она взлетела на ветку старой груши, но сорвалась и упала ему в лапы.
Цыпочка, сокровище мое! Это я! Узнай меня! Это я!
Я! Я!
Ах, тише! Тише! Что ж ты так лаешь? Тише! Ах, ты меня всю измял! Кто-то, кажется, идет... Пусти! Пусти!..
Она высвободилась из его лап, отпрыгнула шага на два, оглянулась во все стороны и поспешно начала расправлять перышки.
Цыпочка, что с тобой? Где ты живешь? Хорошо ли тебе? Я все тебя искал... Наконец-то я тебя вижу! Как тебе жилось? Как живется? Ты поправилась... Ты, кажется, довольна?
Ах, как ты громко лаешь! Прошу тебя, потише! Кто-нибудь услышит, подумает бог весть что... Вот ты опять разеваешь пасть...
Но Барбоска разинул пасть не лаять, а потому, что горло ему словно сдавили в железных тисках. Жалкой гримасы, исказившей при этом его добрую морду, не видали, по счастью, ничьи посторонние глаза, и никто, благодаренье небу, не мог, значит, «подумать бог весть чего».
Слова цыпочки подействовали на него, как пригоршня мелкого каенского перцу, вкинутая в пасть, которая бы разинулась в ожиданьи восхитительного лакомства, но он не стал ни визжать, ни выть, а постарался оправиться и тихонько попросил названную сестрицу:
Расскажи же мне, цыпочка, все, что с тобою было с тех пор, как мы расстались. Ты все время была довольна?
О, да, очень довольна! – отвечала цыпочка. – Знаешь, меня кормят и печеньем, и ягодами, и червячками, и зерном, и катышками; что хочу, то и клюю! А уж что за катышки! Ты не можешь себе и вообразить! А какое у меня гнездышко! Мягкое-мягкое, теплое-теплое – восторг! – заключила цыпочка с пафосом.
– Где ж ты живешь, цыпочка?
Я живу в саду, у меня...
В саду? В этом самом саду?
Ну, разумеется, в этом самом! У меня прелестный решетчатый домик! Перекладинки точеные, насест просто божественный! Один пух!
Это близко отсюда?
Очень близко. Вон в конце той аллеи!
Как же ты не слыхала меня? Я здесь часто бегал, часто призывал тебя...
Ах, я слышала...
Слышала? Слышала?
Конечно...
И не откликнулась даже? О, цыпочка!
Как же мне было откликаться? Я не знала, что тут
делается, почему ты так лаешь... Почему ты так лаял?
Барбоска постарался справиться со второю пригоршней каенского перцу и ответил:
Я не знал, где ты, и беспокоился!
Все-таки, зачем же так лаять! Знаешь, что все
говорили? «Вот неуч собака!» Пожалуйста, никогда не лай...
О, цыпочка!
Не называй меня цыпочкой, прошу тебя! Это как-то странно звучит...
Как же мне тебя называть?
Авдотьей Федотовной. Меня теперь все зовут Авдотьей Федотовной!..
Ах, цыпочка! Я думал, что я всегда останусь для тебя Барбоской, а ты для меня останешься...
Ах, нет, нет. Ты теперь Фингал! Это гораздо лучше! Ну что за имя Барбоска? Фи!
Цыпочка!
Авдотья Федотовна! Запомни же, пожалуйста... если меня любишь... Ну, запомнишь?.. Не забудешь?..
Запомню. Не забуду,
И ты уж будешь Фингал, да? И не станешь откликаться, если кто тебя покличет Барбоской?
Да... не стану...
Бедный пес как-то одурел от горестного изумления. Голова у него горела, мысли путались, сердце тяжело, мучительно билось...
Пойдем, посмотрим на мой домик! – пригласила Авдотья Федотовна.– Ты увидишь, что это за прелесть!
Он встал и покорно последовал за нею по аллее.
Ты только, пожалуйста, иди прилично, Фингал, не кидайся в стороны, не скачи,– внушительно заметила Авдотья Федотовна.– Пойми, что здесь не то, что у Тришкиных! Понимаешь?
Понимаю.
Когда мы будем проходить мимо розовой куртины, так, наверное, увидим кур и петухов! Они так там и дежурят! Ты не гляди в их сторону, мы сделаем вид, будто их не замечаем... Вон они! Поверни голову сюда, к липе...
Он покорно исполнил приказанное.
Слышишь, закудахтали? – шепнула Авдотья Федотовна.– Не оглядывайся, не оглядывайся! Делай вид, будто не видишь и не слышишь... Тут есть петух очень хорошей фамилии – Краснокрыл, но он разорился и не имеет никакого положения в обществе... Ну, теперь оглянись, как будто нечаянно... Видишь их? Краснокрыла видишь?
Да, вижу...
Краснокрыла?
Там их много,– отвечал бедный пес, машинально обращая глаза на решетчатые ворота в садовой эграде, через которые зазирали круглые, блестящие глаза, мелькали красные гребни и разноцветные зобы.
Ах, какой ты! Да куда ж ты?
Я подойду поближе...
Помилуй, помилуй!.. Перестань же глядеть туда... Они подумают, что я очень ими занята...
Авдотья Федотовна несколько нахохлилась, но лестное вниманье трех воронов, выглядывавших на нее из-за ветвей раскидистой ивы, снова привело ее в хорошее распо– ложенье духа.
Видишь? Видишь?
Что? – спросил ее горемычный спутник.
Ах, какой! Да воронов!
Где?
Ах, боже! Да не останавливайся! Иди, как будто не знаешь, что они тут...
Вороны проводили их до самого решетчатого домика, перелетая с ивы на тополь, с тополя на другой, с этого на липу, посылая вслед Авдотье Федотовне весьма одобрительное карканье, и, наконец, сели на громадную старую грушу, как раз против изящного насеста красавицы.
Ну, вот видишь мой домик, нравится?—спросила Авдотья Федотовна, грациозно вспрыгивая на первую перекладинку, то небрежно развертывая, то небрежно свертывая крылышки, поводя головкою, поправляя хохолок, то сверкая глазками, то закатывая их, то сжимая клювик, то запуская его в свой крапчатый зобик.– Нравится?
Нравится,– отвечал бедняга.
Он чуял, он видел, что все грациозные эволюции крылышками и глазками, головкою и клювиком к нему, злополучному псу, не имеют никакого отношения, но предназначены единственно для носатых черных птиц, которые глядели со старой груши, щурили свои воровские буркалы и нагло вертели головами.
Вот моя чашечка для воды... Вот мое блюдечко для зернышек... Эли сама мне насыпает кормі
Эли? – машинально повторил удрученный Барбоска.
Да, да, Эли! Эли со мной очень дружна! Она говорит, что еще никогда отроду не видала такой курочки, как я! Она говорит, что я, как две капли воды, похожа на одну ее знакомую, знаменитую принцессу, которая несла золотые яички... Она говорит, что у меня... Ах, боже мой!
Последнее восклицание относилось к молодому щеголю павлину, который остановился у решетчатых дверец Авдотьи Федотовны и, улыбаясь, распускал свой веер.
Какова погода! – громко и резко объявил подошедший и улыбнулся так самодовольно, словно погода хороша была только по его милости.
Ах, прелесть!
Я люблю хорошую погоду; в хорошую погоду можно гулять.
Ах, да!
Я не люблю дождя; в дождь весь измокнешь.
О, да!
Приятно иметь вкусный корм, а иметь дурной – неприятно!
'– Ах, как это справедливо!
Мне нравится, как блестит солнце.
О, удивительно!
Удивительней всего оно блестит у меня на хвосте!
Ах, невыразимо!..
Прощай, цыпочка,– сказал Барбоска,– мне пора...
Если бы он сказал «мне невмочь» – это было бы
точнее.
Авдотья Федотовна встрепенулась, словно на нее щедро брызнули ключевой водой, глазки ее сверкнули досадой, и перышки взъерошились.
Она сделала вид, что желает перелететь повыше на другую перекладину, и при взлете пропустила сквозь клювик:
Опять «цыпочка»!
Прощай, Авдотья Федотовна, мне пора...
*– Прощай, Фингал...
«Фингал» долетело до него, когда он уже был за розовой куртиной, потому что, боясь зарыдать, он стремглав кинулся от решетчатого домика по аллее, в глубину сада.
X
Понятно, что всю остальную часть этого дня Барбоска провел в горестном изумлении, которое сначала выражалось то неистовым бегом, то катаньем по земле, то скусы– ваньем цветочных головок, то рытьем цветников, то лаем, то визгом, а затем бессильною неподвижностью в углу кабинета превосходительства, потерей аппетита и сна, нытьем всего существа, тихим визгом и проч., и проч., и проч.
Понятно и то, что на другой день Барбоска, даже не дождавшись часа вчерашней встречи, побежал на садовую дорожку, усыпанную желтым песком, на то самое место, где накануне увидал клевавшую цыпочку.
Когда на рассвете он приподнял не освеженную сном голову, у него и мысли не было искать нового свиданья с названной сестрицей.
Когда он лежал, обхватив лапами голову, и бесцельно смотрел на разгоравшуюся все ярче и ярче розовую полосу на востоке, он думал о том, как она отрекалась от своего прежнего имени, как хотела заставить его отречься от своего, каким несчастным простофилей он стоял у дверец решетчатого домика, а она кудахтала с павлином...
Отчего я не откусил голову этой безмозглой птице? – задавал он себе вопрос.– Отчего я, по крайней мере, не истрепал его веер, не повыдергал этих отвратительных перьев, не оборвал радужного галстука?






