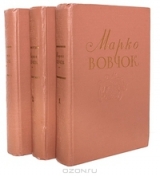
Текст книги "Совершенная курица"
Автор книги: Мария Вилинская
Жанр:
Сказки
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
Неужели? Поэтому-то ты, верно, и дал собаке так истерзать книгу!
Ах, нет, Дина, это я сам уронил...
Сам уронил? Вот как! Позволь-ка мне ее! И это зубами прорвал первые листы тоже сам? C’est bête enfin! Je m en vais! [3].
и она вскочила с кресла и устремилась в двери.
Дина! Дина! – вскрикнул превосходительство, вскакивая тоже, поспешая вслед за нею и забывая впопыхах притворить дверь.
VI
Не прошло и мгновенья, как Барбоска уже носился из угла в угол по какой-то зале, затем, нашарив из нее выход, проник в другую залу, поменьше, где, едва только он успел показаться, на него бросился с пронзительным лаем какой-то растрепанный шпиц не шпиц, болонка не болонка, пинчер не пинчер, а затем кинулось какое-то поджарое существо и с криком: «Ах! Собачка, миленькая собачка!»– схватило его в объятия и начало целовать.
Оторопевший Барбоска начал биться, как рыба, попавшаяся на крючок, но, видя, что это бесполезно, обратил испуганные глаза на поймавшее его лицо.
Сначала ему показалось, что это его старая знакомая, старая мордашка Тобишка, которую он встречал иногда у пруда,– тот же нос с расщепом, те же губы, так же недостает зуба с правой стороны, такие же бурды такие же морщины,– но Тобишка не сжимала губ сердечком, не носила чепчика с лиловыми лентами, не говорила нараспев, не жеманилась, не подпрыгивала на ходу, не делала сладких глаз, не прижимала всех к сердцу; у Тобишки не было ничего кошачьего в манерах, глаза у нее черные, а не цвета перестоявшей овсянки, и от Тобишки не пахнет прокислым миндальным молоком.
Это незнакомая Тобишка, но, видно, доброе существо; она скажет мне, где цыпочка,– подумал несколько опомнившийся от изумления Барбоска и провизжал:
Где цыпочка? Где цыпочка?
Ах, бедненькая собачка! Как она визжит! Кто тебя обидел? Дорочка! Молчи!
Где цыпочка? Где цыпочка? – визжал Барбоска, то вырываясь из ее объятий, то снова кидаясь к ней и нисколько не обращая вниманья, что Дорочка, чуть не разрываясь со злости, старалась старыми зубами вырвать хоть клок шерсти из его хвоста.
Ах, ты, бедненькая собачка! Дорочка! Молчи! Иди на постельку... Я его уведу... Ну. пойдем, пойдем... Сюда, сюда...
Не сомневаясь, что его, наконец, поняли, Барбоска не заставил незнакомую Тобишку долго прищелкивать костлявыми пальцами: он полетел за нею со всею необузданностью обрадованного щенка...
Каково же было его отчаяние, когда он вдруг снова очутился в кабинете превосходительства, куда теперь он попал через другую дверь!
Это я. Жорж,– сказала Тобишка.– Я привела твою собачку... Ведь это твоя новая собачка?
Да,– ответило превосходительство со своим обычным величием.
Он уже успел вернуться, по-прежнему сидел в кресле и курил сигару.
Какая миленькая! Она забежала ко мне, и моя Дорочка ужасно ее ко мне приревновала... Верно, она искала тебя... Я ее поскорее привела, чтобы Дина не услыхала лая,.. Как ее зовут?
Фингал.
Дай лапку, Фингал! Дай, мой славный, дай мне лапку...
Не будь у Барбоски развито до высшей степени, кроме чувства деликатности, и чувство справедливости, всегда подсказывавшее ему, что другие, не виновные в наших огорчениях, не должны нимало терпеть от них, и не помни он с такою живостью уроков тришкинской нагайки, которая как нельзя убедительнее объяснила ему мудрость пословицы: «Лошадка в хомуте, вези по моготе», он бы
оттолкнул даже эту, ласково протянутую руку.
Благонравие его было вознаграждено новыми ласками со стороны незнакомой Тобишки, но, невзирая на всю мягкость сердца, ласки эти были ему в тягость.
Ему хотелось обдумать свое положение, свой образ действий, а потому, улучив минуту, он забился в угол между диваном и креслом и притворился спящим.
Заснула, бедненькая собачка! Только как неспокойно улеглась! – повторяла незнакомая Тобишка, протискиваясь между мебелью и тормоша бедную, обремененную тяжелыми заботами и мрачными думами, голову Барбоски.– Погоди, я тебя хорошенько уложу... Я тебя хорошенько уложу... Вот так... Нет, лучше вот этак...
Наконец, она убрала свои холодные костлявые руки и оставила горемыку в покое.
Тяжелые часы провел Барбоска в этом душном углу!
В жарком воздухе, пропитанном дымом сигар, было что-то одуряющее, каждую минуту, при самомалейшем движении то бахрома со скатерти на столике трепала по глазам, то душил непривычный ошейник, то колола какая– нибудь вычурная ручка дивана или ножка кресла, то под лапу попадалась шпилька или под нос окурок...
Как раздражительно действовала на него неумолкаемая болтовня незнакомой Тобишки, перемешанная со вздохами и визгливыми возгласами, и басовые односложные ответы превосходительства, его постукиванье белыми пальцами по окраине стола, и струи дыма, которые он непрерывно пускал из-под усов!
Ему хуже сверла сверлил уши дребезжащий дискант:
Ах, Жорж! Обмануться так, как я обманулась во всех, это ужасно! Разве не ужасно?
И, как молотом, по ним бил густой, ровный, внушительный бас:
Конечно...
Трудно ведь после этого оправиться? Ведь трудно?
Разумеется...
Я всегда готова была для Дины всем пожертвовать... Я и не жалею об этих деньгах, мне их не надо,– что деньги! Но когда попираются наши самые святые чувства, тогда мы можем роптать... Ты согласен, что больно разрывать сердечные нити?
Согласен...
Барбоска зажал уши лапами и забился под диван.
VII
Барбоска целую ночь провел в том, что строил планы, разрушал их и снова строил.
Поутру, когда он вылез из-под дивана, встряхнулся и критически рассмотрел уцелевшие постройки, они показались ему весьма ненадежными, вследствие чего из груди его вырвался протяжный вой.
А утро, между тем, было великолепное. Солнце так и било в окна кабинета, малиновые портьеры превратились в светло-алые. Свежий веселый ветерок то и дело проносился по садовой листве, повсюду слышался шорох, шелест, шуршанье, со всех концов неслось разноголосое птичье пенье и щебетанье, цветочные чашечки колыхались, и из них скатывались сверкающие росинки.
Но справедливо говорит пословица: как на сердце
ненастье, так и в ведро дождь! Все это утреннее великолепие, жизнь и свежесть только пуще разжигали тревогу и печаль бедного Барбоски.
Он сидел на задних лапах, с томленьем обводил глазами стены своей тюрьмы и то тихо повизгивал, то тихо завывал.
В открытое окно врывались волны ароматного свежего ветерка, но окно, словно нарочно, было заставлено этажеркой, украшенной по углам завитушками и сплошь уставленной пестрыми куколками.
Ах, не проберусь ли я через эти завитушки и куколки к окну, а из окна в сад? – мелькнула у него мысль.
Попытка была немедленно произведена.
Легким прыжком махнул он на спинку дивана, но, к несчастью, диванная обивка была такая скользкая, что, пока он эквилибрировал, намереваясь перескочить отсюда на этажерку, пришлось пустить в дело когти, что оставило кое-какие следы на шелку. Скачок на этажерку тоже не удался. Она была слишком хрупка, куколки слишком легки: на одном угле отвалилась завитушка, с верхней полки скатилась фарфоровая пастушка с корЗинкой цветов и по самые колени отломила себе ножки, упали часики, чикавшие в мраморном ободке, усеянном мраморными мотыльками, полетел узкоглазый китаец, угодивший как раз в забытый на столике стакан с чаем, который он разбил вдребезги,– чайная струйка, глухо журча, побежала по триповой скатерти на ковер... Не успел Барбоска, держась, как танцовщица, на самых концах лап, высмотреть, куда лучше всего будет прыгнуть далее, ножка у этажерки подломилась, и с первой полки, со второй, с третьей, с четвертой посыпались прочие пастушки и китайцы... Конечно, это не могло на него не подействовать: он подпрыгнул, словно его кольнули иголкою, и хряснула другая ножка, и этажерка так сильно покачнулась набок, что он уж ринулся, зря на окно. Нерассчитанный скачок был тоже не совсем удачен, но ему посчастливилось повиснуть на оконной малиновой шелковой занавеси, и уж с нее он благополучно очутился на подоконнике, а с подоконника на садовой аллее, по которой пустился стрелой, словно на другом ее конце кудахтала цыпочка.
С громким, звонким лаем обежал он все куртины, обследовал все дорожки, обшарил все кусты, заглянул во все беседки – нигде выхода за высокую, белую каменную ограду!
Он пробовал царапать эту ограду лапами, цеплялся за нее, повисал на ней, на несколько мгновений удерживался в этом висячем положении, скатывался в траву, в порыве отчаяния рыл землю, снова принимался носиться из стороны в сторону, снова терзал какие-нибудь, ни в чем неповинные цветы, снова катался по земле, спугивая птиц своим визгом и воем.
Заключенье в саду показалось ему еще тошнее заключенья в кабинете, потому что сад имел вид совершенно свободного простора: большие, развесистые, зеленые деревья предательски скрывали ограду и манили в свои чащи, суля тысячу цветущих лазеек во все стороны. Эти посулы на каждом шагу невольно сбивали с толку горемычного заключенного.
А, может, вот здесь прошмыгну?—думалось ему при каждой мелькающей перед ним тропинке в чаще, при каждом просвете между шелестящих ветвей.– Кажется, я тут еще не пробовал пробираться, а тут-то, быть может, и есть настоящий путь...
И вот он снова мчался, пренебрегая уколами иглистых кустов, хлестаньем веток по глазам и ушам, царапаньем сучьев, и снова ударялся о ту же стену!
Эта беспрерывная суета, эти ежеминутные проблески надежды, эти, всякий раз обманутые, ожидания только не давали ему на чем-нибудь сосредоточиться, мешали ему что-нибудь измыслить.
Пойду в кабинет! – подумал он, наконец, совершенно умаявшись.– Я там лучше соберусь с мыслями... Скорей, скорей туда, это яркое солнце палит меня!
Он пустился к дому, чтобы вернее устоять против искушения, без оглядки домчался до окна, стал на задние лапы и заглянул в кабинет.
В кабинете никого не было и, по-видимому, никто еще не входил: осколки стакана и засахарившаяся лужица разлитого чая поблескивали на триповой скатерти, фарфоровые пастушки – которая без ног, которая без головы или без руки – были распростерты по ковру, изувеченный узкоглазый китаец закатился под диван, этажерка стояла на боку.
Какую потасовку задаст мне за это превосходительство! – подумал Барбоска.
Но мысль эта только мелькнула у него и мало его озаботила: сердечное его смятенье и печаль были так сильны, что он не мог относиться в данную минуту к истязаниям своей грешной плоти с бывалою чувствительностью.
Ему почудилось, будто не то прокатились где-то вблизи какие-то черепки, не то донесся голос, кликавший его по новому имени: «Фингал! Фингал!» – но он не обратил на это вниманья.
Он впрыгнул в окно и лег на ковре под тенью большого кресла, стоявшего посреди кабинета, облегчил измученную грудь глубоким вздохом и погрузился в думу.
Он довольно долго ломал себе голову, изыскивая средство, как разыскать драгоценную цыпочку, но сколько именно – неизвестно, так как опрокинутые часики с мраморными мотыльками не показывали уже времени.
У многих есть привычка, когда их особенно начинает волновать какая-нибудь мысль, барабанить пальцами по столу, или трясти ногою, или ерошить себе волосы, или насвистывать, – у Барбоски была привычка в такие минуты царапать лапами. Лапы его усердно заработали туда и сюда по ковру, и чем осаждавшие его мысли были тревожнее, тем работа шла живее.
Фингалочка!
Он оглянулся.
Из сада в окно заглядывала вчерашняя Тобишка.
Сейчас схватит и начнет ласкать! – подумал, содрогаясь, бедный пес.
Но Тобишка на этот раз была уже не так экспансивна: она вытягивала жилистую шею и оглядывала кабинет...
Она – точно лампадное масло, – подумал Барбоска,– а глаза – два куска сахару в этом масле!
Но, когда она вдруг оскалила желтые, как лимон, зубы, Барбоска исправил первое сравненье.
Нет, глаза не два куска сахару в лампаде, а два паука!.. Сейчас она кинется на меня!..
Но она не кинулась, а, подтанцовывая, как сорока, скрылась, и скоро донесся ее медовый голос:
Ах, Дина! Не ходи туда! Не ходи!
Дининого голоса не было слышно, но, вероятно, Дина спросила, отчего, потому что Тобишка взвизгнула снова:
Ах, так... право так!.. Но не ходи...
Барбоске было не до чужих разговоров.
Он уже успел процарапать другое изрядное местечко, как раз на ярком букете, когда дверь кабинета тихонько скрипнула, приотворилась и в кабинет заглянули уже виденные им накануне голубые, как незабудки, глаза.
Чувство самосохранения заставило его невольно податься назад.
Но глаза скорее с торжеством, чем с гневом, зорко обозрели кабинет, усмотрели все до единого – в этом Барбоска готов был головою поручиться – произведенные тут изъяны и исчезли.
Само собою разумеется, что, как бы ни была огорчена божия тварь, она никак не пожелает к этому огорченью прибавки в форме колотушек, затрещин или ударов хлыстом; как ни был Барбоска подавлен грустью, он не без некоторого беспокойства следил за глазами-незабудками, и их исчезновение доставило ему некоторое удовольствие.
Странно, однако, что я не получил даже пинка! – подумал он. – Невероятно! Но на свете, ах! Столько странного и невероятного!
Он было развалился по-прежнему и снова принялся за царапанье, но дверь опять отворилась – на этот раз очень широко,– и вошел превосходительство.
Ну, сейчас будет баня! – подумал Барбоска, инстинктивно ежась и тихонько отпалзывая подальше в угол.
Но, к величайшему его изумлению, превосходительство не погрозил ему, даже не кинул на него строгого взгляда!
Превосходительство вошел своим обычным уверенным шагом, со своим обычным уверенным, важным видом, но едва глаза его упали на валявшиеся по ковру осколки, на сбочившуюся этажерку, на процарапанные места на ковре, как они расширились от ужаса; он отчаянно всплеснул руками, несколько минут оставался в каком-то оцепененьи, затем осторожно притворил плотно двери и торопливо принялся сбирать разбитые куколки, устанавливать этажерку, оправлять драпри, передвигать кресла...
Невзирая на все свое жестокое сокрушенье и тяжелые заботы, Барбоска не мог не улыбнуться, глядя, с какою тоскою он составлял и прилаживал отбитые головки и ножки, как озабоченно приседал перед оконными занавесями, как старательно перебирал и хитро располагал их складки, утаивая следы цепких лап на материи, как сосредоточенно распарывал свой белый галстук, вытягивал оттуда ниточки и скреплял ими крылышки мраморного мотылька от часов, как распластывался на ковре и, приникнув лицом так, что величественные баки волочились по земле, расправлял своими белыми руками истеребленные ковровые нити и разглаживал торчавшие обрывки ладонями...
Жорж, ты здесь? – вдруг раздался голосок под дверью.
Барбоска сейчас узнал этот голосок: то спрашивали голубые, как незабудки, глаза.
Создатель! Что сотворилось с превосходительством при первом же звуке этого голоска!
Заяц, которому внезапно забить в бубен над самым ухом, не подпрыгнул бы на такую высоту! Лицо его мгновенно все попунцовело, на лбу выступили капельки пота, словно его вдруг окружили горячими парами, мясистая высокая фигура как-то странно осела, шея вытянулась, как у индейки, зачуявшей коршуна... Он затаил дыханье и зажал в кулак шипящий сургуч, которым было только что приготовился клеить куколку...
Ты здесь, Жорж! – повторил голосок.
Послышалось, что берутся за дверную ручку... Вот
ручка повертывается...
Превосходительство закрыл глаза...
Но, хотя ручка повернулась, дверь не отворили, и удаляющиеся шаги дали знать, что опасность миновала.
Какая же эта опасность?
Что опасность была, в этом Барбоска не мог сомневаться, видя, как сначала превосходительство замер на месте и как потом вздохнул всею грудью, словно с его плеч свалилась свинцовая гора.
Но едва только превосходительство пришел в себя и опять занялся склеиваньем, снова послышались те же шаги и снова тот же голосок спросил под дверями:
Жорж, ты здесь?
И дверная ручка звякнула...
В эту самую секунду растопленный сургуч капал на отшибленный бок китайца, и превосходительство до того растерялся, что, дунув на свечку, сунул накапанный сургучом осколок и самый сургуч себе за пазуху, под тонкую рубашку с прошивками и, видно, сильно обжегся, потому что быстро присел на корточки и раскрыл рот, как окунь...
И на этот раз тревога была фальшивая; опять повертели только дверною ручкой, но дверь не отворилась, и шаги удалились.
Наконец, превосходительство замаскировал все изъяны, сел в кресло, закурил сигару, раскрыл книгу и снова сделался тем важным, величественным превосходительством, каким знали его все его знакомые.
Когда в третий раз раздался под дверью голосок, спрашивающий: «Ты здесь, Жорж?» – он ответил: «Здесь, мой друг»,– и сам распахнул двери.
Вошли глаза-незабудки.
Ты, верно, был в саду?
Н-н-д-да... Чудесная погода!
О, чудесная!.. Ты долго гулял?
Не очень... Мы сбирались с тобой читать, ты помнишь?
Да, помню!
Не хочешь ли читать в беседке у пруда? Там свежо, прохладно...
Нет, я не хочу в беседке. Здесь лучше.
Здесь как будто душно?..
Я не нахожу, чтоб здесь было душно. Здесь,– она подняла вверх острый носик,– как будто пахнет сургучом!
Кхи-хи-кхи-хи...
Что это, у тебя кашель?
Нет... так...
Да, пахнет сургучом! Ты не слышишь?
Нет...
Она стояла, и превосходительство стоял, она прямо смотрела на превосходительство, но превосходительство как-то скользило по ее лицу глазами, останавливая их на каких-нибудь крошечных предметах, которые требовали особенно пристального вглядыванья, что избавляло его от необходимости встречаться с ее зоркими взглядами.
Ах, на плече у тебя какая-то мошка!
Где мошка? Никакой мошки нет!
А мне показалась мошка... Так будем читать?
Будем. Не пойти ли в самом деле в беседку?
И по губкам ее скользнула такая улыбка, что Барбоске показалось, будто выставилось острое жальце из-за этих розовых губок.
Прекрасно! Прекрасно! – воскликнул превосходительство.– Вот книга... Я готов...
Ты полагаешь, в беседке хорошр будет, а?
Прекрасно!.. Прохладно так, свежо...
А! Ты думаешь?.. Прохладно и свежо, да?
Да, да... Пойдем... я готов... вот книга...
И превосходительство уже двинулся к двери:
А мне здесь, у тебя в кабинете, больше нравится!
Здесь?..
Да, здесь!
Ну, как хочешь...
Жаль только, что сургучом пахнет!
Садись вот тут... Тут тебе будет удобнее...
Нет, я вот здесь сяду!
Но здесь тебе будет неудобно... солнце прямо в лицо...
Разве нельзя подвинуть кресло?
Конечно, можно... очень легко...
Но, собственно говоря, подвинуть его было вовсе не легко превосходительству, потому что кресло это маскировало собою свежепроцарапанное Барбоской местечко на ковре.
Что ж ты не двигаешь? Я жду!
Превосходительство завертелся, как фокусник, довольно искусно уронил носовой платок, зацепил его носком сапога и, отодвигая кресло, поволок платок на процарапанный букет.
Садись, садись... – говорил он, – вот книга... я слушаю...
Ты платок уронил!
И она сделала вид, будто хочет наклониться и поднять платок.
Не беспокойся!
Превосходительство так бросился предупредить ее, что споткнулся и чуть не упал, схватил платок, с искусством акробата очутился в третьей позиции, как раз на процарапанном букете, и начал сморкаться.
Ну, я буду читать; что ж ты не садишься?
Я сейчас... сейчас... Как жарко!
Зачем же ты стоишь на солнце! Иди сюда, в тень!
Иду... Ты читай, я вот только сигару закурю...
Но спички были далеко, и, чтобы достать их, необходимо было сдвинуться с рокового местечка!
Что ж ты?
Не обращай на меня вниманья... читай... Вот только сигару приведу в порядок... раскрутилась..,
И он начал раскручивать сигару, делая вид, что ее скручивает.
Так я подожду читать.
Я отлично слушаю...
Нет, уж я подожду...
Кхи-хи-хи! Кхи-хи-хи!
Что это? Опять припадок кашля?
Нет...
Вероятно, она нашла, что он достаточно уже попекся и на солнце, и на угольках, которые она под него подкла– дывала, и, откинувшись на кресле, начала читать книгу.
Превосходительство, не отнимая ног от продранного букета на ковре и не изменяя третьей позиции, вытянулся в струну, наклонился к ближнему креслу, порывисто дернул его, проворно надвинул на роковой изъян, сел и начал отирать лоб платком, тревожно поглядывая на чтицу.
Но она, по-видимому, совершенно углубилась в чтение и не обратила никакого внимания на его эволюции.
Но только что превосходительство, вздохнув свободно, уместился в кресле и пустил первую струю сигарного дыма, чтение прервалось...
Спусти оконную занавесь! Не эту, а вон ту!
То есть, ту самую, на которой остались следы Барбос– киных лап!
Но ведь душно будет!
Нисколько: окна открыты! Спусти же! Что ж ты пляшешь на месте? Я удивляюсь, почему ты не решаешься спустить эту занавесь!
Душно... Впрочем, как тебе угодно... Я спущу...
Он опускает, комкая в средину складок исцарапанную материю, снова усаживается в кресле, но уже боком, чтобы лучше маскировать испорченную занавесь.
Чтение продолжается.
На лице превосходительства ясными чертами начерты– вается:
Слава богу! Не заметила ничего!
Он даже решается вытянуть ноги и прижмуривает глаза, как это делают животные, когда чувствуют себя хорошо.
Который час? Что это, твои мотыльки, кажется, стоят?
И она приподнимается с кресла, и устремляет свои сверкающие незабудки на мраморных мотыльков, и тянется к этажерке...
Идут! Идут! – вскрикивает превосходительство,
вскакивая, словно к нему приложили раскаленные щипцы.– Слышишь, тикают? Слышишь: тик-тик, тик-тик!..
Я слышу тик-тик, но меня удивляет, что это за нитка обмотана вокруг мотыльков!
Превосходительство остается на месте ни жив, ни мертв; он не делает никаких попыток вертеться или бежать, как зверь, не впервой попавшийся в капкан и знающий, что прыжками и скачками только изувечишь себя, но пользы себе не принесешь.
Что это за нитка, а?
Незабудки гневно впиваются в превосходительство; белая ручка схватывает часики и довольно порывисто подсовывает ему под нос перевязанного мраморного мотылька.
Превосходительство молчит, моргает и неистово затягивается сигарным дымом.
Белые ручки проворно разрывают нитку, мраморные мотыльки рассыпаются...
Ха-ха-ха! А это что? А это что? А это? А это?
И белые ручки отрывают приклеенные сургучом головки и ножки, вытаскивают из-под этажерки перчатки в комочках, трясут оконною занавесью, сдергивают кресла с процарапанного ковра...
Превосходительство все не дригается с места, и сигара мелькает у него из-за баков, точно горящая свечка.
А! Ты хочешь меня дурачить! Ты хочешь надо мной издеваться... Ха-ха-ха! О-о-о!..
Она шатается, валится, что выводит превосходительство из неподвижного состояния.
Дина! Дина! – шепчет он, поддерживая ее и усаживая на диван.– Прости меня... Хочешь, этой собаки не будет в доме... Я ее велю отправить, уничтожить... Прости меня!..
Превосходительство становится на колени...
Барбоска трет себе лапами глаза.
Это невероятно, но это так!
Превосходительство всхлипывает, маленькие слезки текут по его обширным щекам и исчезают в густых баках.
Дина! Дина! Прости!.. Господи, ей дурно!
Превосходительство вспрыгивает и в смятеньи кидается
из кабинета.
Незлобивое, чувствительное сердце Барбоски проникается жалостью. Он вскакивает и подбегает к Дине, с состраданьем глядит на свесившиеся белые ручки, на полуоткрытые губки, на сомкнутые вежды...
Но кто опишет его изумленье, когда он вдруг видит, что только что являвшая все признаки безжизненности ручка приподнимается очень свободно, вытаскивает из кармана зеркальце, раскрывшиеся без всякого усилия глаза начинают созерцать отражающееся изображение в этом зеркале, а губки этому изображению улыбаются!
Барбоска подался назад.
Имея явные, несомненные доказательства ее вражды к собачьему роду, он, естественно, мог ожидать только пинка, но вышло совершенно наоборот: она протянула ручку и потрепала его по шее, словно хотела сказать:
Я тебе обязана большим удовольствием и знаю, что ты еще много отрадных часов мне доставишь!
Какая вы чудна’я дама! – невольно взвизгнул Барбоска.
Смятенный превосходительство вбежал с каким-то флаконом.
О чудо! Вежды опять сомкнуты, как будто и не открывались, ручки повисли, как будто и не двигались, губки полуоткрыты, как будто не шевелились!
Видя, как дрожат руки у превосходительства, Барбоска не мог остаться равнодушным к его страданьям и, желая ободрить его, пролаял:
Она жива – жива – жива! Она сейчас глядела во все глаза и смеялась....
Но превосходительство его не понял, схватил за шиворот и выкинул за окно...
Барбоска упал в кусты жасмина и наткнулся боком на какой-то острый гвоздь.
Он громко взвизгнул от боли, а затем от изумления, увидев, что за гвоздь он принял плечо той, которая сидела на корточках, притаившись под ветками,– плечо двуногой Тобишки в чепце с лиловыми бантиками! Она схватила Барбоску, зажала ему пасть своею холодною, костлявою рукой, приговаривая шепотом: «Tout beau! Tout beau!
Couche! Couche! Не мешай, собачка, не мешай». Она подслушивала. Сухая ее шея была вытянута на целый аршин вперед, к кабинетному окну, глаза блестели, редкие, шершавые брови спутались, жидкие волосы взъерошились...
Нет, никогда мордочка моськи Тобишки не искажалась таким злобным наслажденьем! Четвероногая Тобишка могла жестоко укусить, могла растерзать на части, но ее пасть никогда не осквернялась такою коварною, предательскою улыбкой!
С лаем негодования Барбоска вырвался из ее костлявых рук и понесся по первой попавшейся садовой дорожке.
VIII
Вероятно, Дина смиловалась и не пожелала изгнания Барбоски. Ее прихотливая доброта пошла еще дальше. Когда Барбоска возвратился из сада к окну и впрыгнул в кабинет, превосходительство схватил его тотчас за шиворот, привлек к процарапанному букету и занес над ним роковой хлыстик, Дина вскрикнула: «Не бей его!» – и этим восклицанием избавила беднягу от истязания.
Барбоска тихонько забрался в уголок и там улегся.
По долгим размышлениям он порешил, что ему надо, до поры, до времени, зубы, когти, порывистость и лай запереть, как говорится, на одиннадцать замков, а запастись хладнокровием и терпением.
Единственное средство отыскать цыпочку,– думал он, вытянувшись в уголке и положив голову на передние лапы,– это проникнуть в комнаты направо, куда побежала девочка-мотылек... Когда они увидят, что я смирный, не царапаю ничего, ничего не грызу и не валяю, они пустят меня!
Недолгая, но горькая опытность, правда, доказывала ему не раз, что безупречное поведение не всегда вознаграждается, как бы следовало по закону справедливости, и он, быть может, ударился бы в софизмы, а софизмы привели бы его к протесту, лаю и другим, свойственным щенку, бесчинствам, да при повороте на этот путь борьбы являлось виденье поднятого хлыста и значительно способствовало укрощенью забиячества.
Дина лежала на диване, а превосходительство сидел в кресле и читал вслух.
Чтенье происходило на неизвестном Барбоске языке и, следовательно, очень мало представляло ему занимательности.
Сначала его несколько развлекали наблюдения, производимые им над Диною и превосходительством.
Головка Дины, откинутая на малиновую подушку дивана, была красива, как самая изящная куколка, прозрачная ручка, свесившаяся с дивана, не в состоянии, казалось, раздавить мошки; напротив того, крупный профиль превосходительства, его нос, который с успехом мог перекинуться мостом через пруд, в котором хозяева Тришкины ловили в пост карасей для отца Амвросия, его волнистые, густые, роскошные баки, из которых бы можно набить несколько отличных подушек, его грудь колесом, обширная, гладкая, блестящая площадь, простиравшаяся от чела почти до затылка,– все имело в себе нечто монументальное, грандиозное, сокрушительное... Но стоило вылететь из розовых губок Дины недовольному восклицанию: «Ах, как ты ужасно читаешьI Я не могу разобрать, что говорит барон, а что графиня!» – и вся монументальность, грандиозность, сокрушительность пропадали, и все превосходительство превращалось в глазах Барбоски в один громадный, виляющий хвост...
Никогда я не воображал, – думал Барбоска, невольно улыбаясь,– что так справедлива пословица, которую всегда говорила старая собака Бемза: мала блоха, а меделяном вертит!
Однако эти забавные наблюдения скоро наскучили, печаль пуще прежнего подступила к сердцу, пуще прежнего заботы отяготили голову, и ему необходима была вся сила воли, чтобы удержать протягивающиеся по ковру лапы и вобрать когти, впускающиеся в яркий бархатный букет ковра...
Скрипнула тихонько дверь, и из-за нее выглянули кружевной чепчик с лиловыми ленточками и сладкие глаза двуногой Тобишки.
Можно? Не помешала я?
Что тебе надобно?
Ах, Дина, если бы я знала, что тебе так мой приход неприятен, я бы не вошла... Я очень хорошо понимаю, что насильно мил не будешь и что за самые чистые, глубокие, бескорыстные чувства часто платят одною холодностью, одним бессердечием!
Я хоть это и не так хорошо понимаю, но помню,– возражает резка Дина,– потому что ты каждый день повторяешь одно и то же...
Превосходительство прибегает к носовому платку, как к спасательному снаряду, который избавляет его от необходимости, хотя бы взглядом или улыбкою, вмешиваться в завязывающуюся перепалку.
Я знаю, Дина, что я тебе надоела! – поет Тобишка, и постные глаза ее увлажаются.– Я бы с радостью, и с какою радостью! уехала отсюда... если бы могла!..
То есть, ты намекаешь на то, что мы тебе должны? Да я готова продать последнюю рубашку, чтобы только ты не колола меня этим долгом! Я...
Довольно оскорблений, Дина! Жорж, я пришла взять с собою твою собаку погулять; можно?
Разумеется, – отвечает превосходительство, но таким тоном, что это утвердительное слово звучит словно самое беспомощное: «Ах, что вы со мной делаете! Зачем вы меня спрашиваете, когда я могу и за да, и за нет попасть в тиски!»
Фингал! Фингал! Ici милый! Ici, дорогой!..
Я не хочу с вами идти, лицемерная старая тварь! – визжит Барбоска.
Но костлявая рука вытягивает его за ошейник из-под кресла, цепляет на шелковую ленту и влечет за собою, со вздохом, нараспев бросая Дине, провожающей ее сверкающими взорами, жалобное замечанье:
Ах, собаки благороднее и добрее людей!
Барбоска упирается и, в ответ на слащавые увещанья,
лает о своем презреньи к двуличию...
Но вдруг он замечает, что старая тварь тащит его не к саду, а в противоположную сторону, и это совершенно изменяет его образ действий...
Может, она тащит туда, где цыпочка?—мелькает у него мысль.– О, поспешу, погляжу!..
И Барбоска рвется вперед, подбивая Тобишку под поджарые ножки и совершенно упуская из виду, что за минуту пред тем гнушался сообществом старой лицемерки.
Что делать! Щенок слаб, и, когда дело коснется его личных интересов, он, как и прочая тварь господня, или необдуманно кидается, куда его тянет, не заботясь ни о последовательности, ни о логике, или же вступает в сделки со своею совестью...






