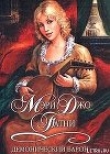Текст книги "Война конца света"
Автор книги: Марио Варгас Льоса
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 45 страниц)
Он напряженно вслушивается, ожидая условленного сигнала, который будет означать, что Макамбира подобрался к самому Чудищу. Но все тихо, и кажется, что свиста не будет никогда. Но вот он раздается – протяжный, переливчатый, внезапный, хотя и долгожданный, сразу заглушивший все остальные звуки, – и Жоан со своими людьми дает залп по часовым. Сразу же все вокруг оживает, гремит выстрелами. Вскочив, солдаты затаптывают костер, открывают ответный огонь, но бьют вслепую, наугад, не видя нападающих. Пули летят в другую сторону.
Жоан и его воины, ринувшись вперед, стреляют и мечут петарды в окутывающую лагерь тьму, в которой слышатся топот, крики, обрывки команд. Опустошив магазин своего карабина, негр останавливается, напрягает слух. Наверху, на Монте-Марио, тоже завязалась перестрелка: должно быть, Макамбира напал на орудийную прислугу. Как бы там ни было, соваться туда нечего: патроны кончились. Он свистит, приказывая отходить.
На середине склона их догоняет мальчуган-проводник. Жоан кладет руку на его всклокоченную голову.
– Довел до самого Чудища?
– До самого.
Сзади идет такая пальба, точно в бой ввязались все солдаты, сколько их ни есть тут на Фавеле. Мальчик молчит, и Жоан Большой снова, в который уж раз, думает, какие все-таки диковинные люди живут в сертанах: клещами слова не вытянешь.
– Ну, а что с Макамбира? – спрашивает он, не выдержав.
– Убили, – спокойно отвечает мальчик.
– Всех?
– Вроде бы всех.
Они уже на ничейной земле. До окопов совсем недалеко.
Карлик, увязавшийся за отрядом Педрана, нашел подслепого на каком-то пригорке – скорчившись, тот сидел и плакал. Карлик взял его за руку, и они пошли в толпе жагунсо, которые торопились в Бело-Монте: солдаты смели заслоны на Трабубу и теперь, ясное дело, пойдут на штурм. Когда рассвело, вылезли из траншеи и здесь, возле козьих загонов, посреди людского моря, встретили Журему. Она шла с сестрами Виланова, подгоняя осла, нагруженного котлами и мисками. Растерявшись от радости, все трое крепко обнялись, и Карлик почувствовал, как губы Журемы прикоснулись к его щеке. Улегшись в арсенале на полу, за бочками и ящиками, под грохот ни на минуту не прекращавшегося обстрела, Карлик сказал в ту ночь, что поцеловали его, сколько ему помнится, впервые в жизни.
Который день ревут над городом пушки, трещат винтовочные выстрелы, звонко лопается шрапнель, застилая небо черными комочками дыма, расковыривая кладку колоколен Храма? Третий, четвертый, пятый? Они бродили по арсеналу, глядели, как то днем, то ночью появляются и исчезают братья Виланова и остальные, слушали их споры и ничего не понимали. Однажды вечером Карлик, пересыпавший порох в рожки для кремневых ружей, услышал, как кто-то сказал, показав на взрывчатку: «Моли бога, Антонио, чтобы стены устояли, хватит одной пули-полгорода разнесет». Карлик не стал рассказывать об этом Журеме и подслепому, зачем еще больше пугать беднягу? Столько было пережито вместе, что он сроднился с ними по-настоящему: как ни любил он циркачей из труппы Цыгана, с такой нежностью не относился ни к кому на свете.
Он уже дважды во время обстрела вылезал из арсенала в поисках чего-нибудь съедобного, садился у стен, выпрашивая подаяния, слеп от пыли, глохнул от канонады. На улице Матери-Церкви у него на глазах убило маленькую девочку. Она пыталась поймать трепыхавшую крыльями курицу, но, пробежав несколько шагов, вдруг упала ничком, словно кто-то с силой дернул ее за волосы. Пуля попала ей в живот, убила на месте. Карлик на руках внес девочку в тот дом, откуда она выскочила, и, никого не найдя там, положил в гамак. Курицу он не поймал. Ежеминутно вокруг гибли люди, всех троих снедала тревога, но, подкрепившись мясом, которое раздобыл Жоан Апостол, Карлик, Журема и подслепый приободрились.
Однажды ночью, когда стихла стрельба и на площади оборвался гул голосов, певших литании, а они, лежа на полу в арсенале, тихо разговаривали, в дверях бесшумно вырос человек с глиняным фонариком в руке. Карлик узнал Меченого по шраму, по стальным маленьким глазкам. За спиной у него висел карабин, у пояса – мачете и нож, на груди перекрещивались патронташи.
– Все честь честью, – пробормотал он. – Хочу, чтобы ты вышла за меня замуж.
Карлик услышал, как застонал подслепый. Ему и самому показалось невероятным, что этот угрюмый, замкнутый человек, от которого так и веяло холодом, решился произнести эти слова. Изуродованное шрамом лицо было как всегда непроницаемо, но Карлик угадывал тщательно скрываемое волнение. Не слышно было ни канонады, ни собачьего лая, ни молитв; только бился о стенку шмель. Сердце у Карлика колотилось, но не от страха, а от какого-то нежного чувства к этому человеку, который неотрывно и выжидательно смотрел на Журему, фонарик освещал рубец на его лице. Рядом часто задышал подслепый. Журема молчала. Меченый, отчетливо произнося каждое слово, заговорил. Он не женился прежде, как велит церковь, отец небесный и Наставник. Немигающие глаза были устремлены прямо на Журему, и Карлик подумал, что глупо, пожалуй, сочувствовать тому, кто может внушить такой страх. Но в эту минуту Меченый опять вдруг показался ему жалким и беззащитным. Женщины, конечно, бывали у него, но сами знаете, какого рода, – а детьми так и не обзавелся, и семьи у него нет. Нельзя было. Или дерешься, или догоняешь, или сам бежишь. И потому, когда Наставник сказал, что земля, от которой день за днем требуют все одного и того же, устает, просит роздыху, слова эти особенно запали ему в душу. И Бело-Монте стал для него тем, что для земли-роздых. В жизни у него до сих пор любви не было, а теперь вот… Карлик заметил, что он проглотил слюну, ему показалось – жены братьев Виланова проснулись и, лежа во тьме, тоже слушают речи Меченого. Его томила эта забота, продолжал тот, ночи не спал – думал: неужто сердце так и засохнет, любви не узнает? (Тут он запнулся, и Карлик подумал: «Нас с подслепым для него вроде и не существует».) Выходит, нет: увидел Журему тогда в каатинге и понял, что нет. Что-то странное творилось со шрамом у него на лице: язычок пламени метался из стороны в сторону, и играющие блики делали его еще страшней. «Рука дрожит», – удивленно сообразил Карлик. В тот день сердце все само сказало. Увидел Журему и понял, что сердце еще живо, не высохло. Куда ни пойдет, всюду слышится ему ее голос, а лицо и вся она – вот здесь и здесь. Он прикоснулся пальцами ко лбу, к груди-взметнулось и снова успокоилось пламя. Потом Меченый надолго замолчал, ожидая ответа, слышней стало, как с сердитым жужжанием возится в углу шмель. Журема тоже молчала. Карлик покосился на нее: вся сжалась, напружилась, приготовилась к отпору, и глаз не отводит, смотрит на кабокло серьезно.
– Сейчас пожениться мы не можем. Сейчас у всех другая забота, – словно извиняясь, вымолвил Меченый. – Потом, когда псов прогоним.
Карлик снова услышал стон подслепого. Но Меченый и на этот раз даже не взглянул на того, кто сидел рядом с Журемой. Но вот о чем он думал день и ночь, пока следил за безбожниками, пока стрелял в них: думал, и сердце радовалось… Он опять замолчал, точно стыдясь, а потом выдавил: «Может, Журема принесет ему на Фазенду-Велью провизии и воды? Другим-то приносят, завидно смотреть, вот бы и ему так. Принесет?»
– Да, да, конечно, принесет, – услышал Карлик захлебывающийся голос подслепого. – Непременно принесет!
И опять Меченый не взглянул на говорившего.
– А ты здесь с какого боку? – спросил он, и каждое слово было как удар ножа. – Ты кто ей-муж?
– Нет, – очень спокойно и мягко произнесла Журема. – Он мне… вроде как сын.
Ночь за стеной арсенала снова наполнилась треском выстрелов. Залп, потом другой, заложило уши. Послышались крики, шаги бегущих людей, грохнул взрыв.
– Я рад, что пришел и сказал тебе все, – произнес кабокло. – Мне надо идти. Благословен будь Иисус Христос!
Мгновение спустя в арсенале опять было темно, и жужжание шмеля заглушили частые выстрелы-они гремели и вдали, и совсем рядом, они сливались воедино. Братья Виланова почти круглые сутки проводили в окопах и появлялись тут, лишь когда надо было держать совет с Жоаном Апостолом; жены их ухаживали за ранеными в домах спасения, носили еду на позиции. Карлик, Журема и подслепый были единственными обитателями арсенала, куда сложили отбитое Жоаном Апостолом оружие и взрывчатку. Вход защищал теперь частокол, укрепленный мешками с песком и камнями.
– Почему ты ему ничего не ответила? – горячился подслепый. – Ты же видела, чего ему стоило произносить эти слова, он прямо насиловал себя. Почему ты не согласилась?! Он в таком состоянии, что его любовь мгновенно сменится ненавистью, и тогда он может убить тебя, а заодно и нас.
Не договорив, он стал чихать-раз, другой, десятый, а когда приступ кончился, смолкли и выстрелы, и снова загудел у них над головами бессонный шмель.
– Не хочу быть женой Меченого, – ответила Журема так, словно говорила сама с собой. – Если принудит– зарежусь. В Калумби одна пропорола себя шипом шике-шике. Я никогда за него не выйду.
Подслепый снова стал чихать без остановки, а Карлику показалось, что его застали врасплох; он не думал, как станет жить, если Журема умрет.
– Бежать надо, бежать при первой возможности, – застонал подслепый. – Бежать как можно скорее, иначе уже не выберемся, и нас ждет ужасный конец.
– А Меченый сказал – и так уверенно, – что солдат прогонят, – пробормотал Карлик. – Меченый лучше знает: ему там, на войне, виднее, как дела идут.
Обычно подслепый тут же вскидывался: «И ты с ума сошел, как все здешние? И ты думаешь, что мятежники могут победить регулярную армию Бразилии? И ты ждешь, что появится король Себастьян, придет на подмогу?» Но на этот раз он промолчал. А Карлик не был так уж уверен, что солдаты непобедимы: в Канудос не вошли? Не вошли. Жоан Апостол отнял у них оружие и скотину? Отнял. Люди говорят, на Фавеле их полегло тысячи, в них стреляют со всех сторон, а им жрать нечего, и патроны кончаются.
Однако Карлик, который по давней привычке к бродяжничеству не мог долго сидеть в четырех стенах и то и дело вылезал на улицу, хоть там и свистели пули, видел, что Канудос совсем не похож на город победителей. Прямо на улицах валялись убитые и раненые – пока продолжался обстрел, их нельзя было отнести в дома спасения, разместившиеся теперь в одном месте, на улице Святой Инессы, возле Мокамбо. Если только не надо было помочь санитарам, Карлик старался там не появляться. Каждый день на мостовой вырастали груды трупов – хоронить можно было только ночью: кладбище находилось на линии огня, – и стояло ужасающее зловоние; плакали, стонали и жаловались раненые; старики, калеки и убогие отгоняли стервятников и бродячих собак от трупов, облепленных роями мух. Похороны устраивались после общей молитвы и наставлений– каждый вечер; в одно и то же время колокол Храма извещал о выходе Наставника. Теперь он произносил свою проповедь в полной темноте-не было уже, как в мирное время, разбрасывающих искры факелов. Слушать наставления ходили с Карликом и Журема, и подслепый, но потом они возвращались в арсенал, Карлик же отправлялся за похоронной процессией на кладбище. Он восхищался тем, что родственники покойного всеми правдами и неправдами умудрялись добывать кусок дерева, который клали в могилу. Гробы делать было некому – все плотники и гробовщики воевали, – и потому усопших заворачивали в гамаки, иной раз по двое, по трое. Туда же всовывали какую-нибудь дощечку или ветку – деревяшку, – чтобы отец небесный видел, что они-то хотели похоронить новопреставленного как положено, в гробу, и не их вина, если не смогли.
Вернувшись однажды ночью в арсенал, Карлик застал там падре Жоакина. С тех самых пор, как они попали в Канудос, никому из них не удалось повидаться с ним, поговорить с глазу на глаз. Он появлялся на колокольне Храма по правую руку от Наставника и читал молитву, которую хором подхватывала стоявшая внизу толпа; плотно окруженный Католической стражей, принимал участие в процессиях; отпевал покойников, произнося поминание по-латыни. Иногда он куда-то исчезал – говорили, что во время этих отлучек он рыщет по всему краю, отыскивая и доставляя в осажденный город все необходимое. Теперь, когда снова началась война, его чаще можно было встретить на улицах Канудоса, и особенно часто-на улице Святой Инессы, в домах спасения, где он причащал и соборовал умирающих: там он несколько раз встречал Карлика, но никогда не показывал, что они знакомы. Однако сейчас падре Жоакин протянул ему руку, ласково с ним поздоровался. Он сидел на низенькой скамеечке, а Журема и подслепый-на полу, поджав под себя ноги.
– Да, дочь моя, все трудно, все-даже то, проще чего, казалось бы, и на свете нет, – печально проговорил священник, причмокнув растрескавшимися губами. – Я– то думал, что принесу тебе счастье, что хоть сюда явлюсь с благой вестью. – Он помолчал, провел кончиком языка по губам. – Я ведь прихожу к людям только со святыми дарами, в последний раз закрываю им глаза и ничего, кроме мук и страданий, не вижу.
Карлик подумал, что за эти месяцы он превратился в старика: совсем оплешивел – только за ушами рос какой-то седой пух, не закрывавший загорелую веснушчатую лысину, – исхудал до последней крайности: в вырезе истертой, когда-то синей сутаны виднелись выпирающие ключицы; пожелтевшая, покрытая колючей щетиной кожа на лице свисала дряблыми складками. Видно было, что падре Жоакин сильно постарел, что он уже много дней не ел досыта и смертельно устал.
– Я не выйду за него, отец мой, – сказала Журема. – А захочет принудить, заколюсь.
Она говорила спокойно, с той же кроткой решимостью, что и вчера ночью, и Карлик увидел, что падре Жоакин не удивился-значит, эти ее слова уже звучали сегодня.
– Он не хочет тебя принуждать, – пробормотал он. – Ему и в голову не приходит, что ты можешь не согласиться. Он, как и все в Канудосе, знает, что здесь любая почтет за счастье пойти с Меченым под венец. Тебе ведь не надо рассказывать, кто такой Меченый, правда? Ты, конечно, слышала, что про него говорят?
Он сокрушенно поник головой, уставившись в земляной пол арсенала. Маленькая сороконожка ползла между его сандалиями, из которых высовывались худые желтоватые пальцы с черными ногтями. Падре Жоакин не наступил на нее, не раздавил, и сороконожка скрылась за ружейной пирамидой.
– Заметь, что все это-чистая правда, даже то, во что невозможно поверить, – заговорил он все так же удрученно. – Все эти насилия, убийства, грабежи, налеты, все эти бессмысленные жестокости, когда он отрезал своим жертвам уши и нос. Вся эта кровавая безумная жизнь. И вот он здесь, так же, как Жоан Апостол, как Трещотка и Педран. Наставник явил чудо, превратил волков в овец и загнал их в корраль. И вот за то, что он волков превращает в овец, за то, что он хочет изменить жизнь людей, которые не знали ничего, кроме страха, злобы, голода, крови и разбоя, за то, что он желает утишить царящее в наших краях зверство, на него шлют одно войско за другим и несут ему гибель. Что же это творится у нас в Бразилии, во всем мире, если они решились на такое?! Ведь это делается словно бы для того, чтобы подтвердить его правоту и впрямь уверить всех в том, что страной правит дьявол, что Республика и есть воплощение Антихриста!
Он говорил не торопясь, не повышая голоса, он не гневался и не горевал. Он тосковал.
– Я ведь не потому, что блажь такая нашла, я ничего против него не имею, – услышал Карлик недрогнувший голос Журемы. – Будь на его месте другой, все равно бы не согласилась. Я больше не хочу выходить замуж, отец мой.
– Ну, хорошо, это я понял, – вздохнул падре Жоакин. – Будь по-твоему. Закалываться тебе не придется. Венчаю в Бело-Монте я один, гражданского брака у нас нет. – Подобие улыбки появилось у него на губах, и какой-то плутовской огонек вдруг вспыхнул во взгляде. – Но нельзя же так сразу взять и оглоушить человека: не пойду, мол, за тебя. Что хорошего? Такие люди, как Меченый, чувствительны и ранимы, просто беда с ними. Я всегда поражаюсь, до чего же ревниво берегут они свою честь. Превыше чести у них нет ничего, это их единственное богатство. Ну, для начала скажем ему, что ты совсем недавно овдовела и еще не можешь вступить в новый брак-надо подождать. Но вот что надо будет сделать тебе непременно-это очень важно для него: носи ему еду на Фазенду-Велью. Он мне говорил об этом. Меченому необходимо знать, что кто-то о нем печется. Отнеси. Ничего. Тебя не убудет, а ему приятно. Ну, а потом постепенно постараюсь его отговорить.
Утро было тихое, но сейчас где-то очень далеко стали время от времени постреливать.
– Ты разбудила в нем страсть, – сказал падре Жоакин. – Настоящую страсть. Вчера ночью он пришел в Святилище, чтобы попросить у Наставника позволения жениться на тебе, и сказал, что и вас обоих тоже к себе возьмет, раз вы-ее семья…
Он порывисто поднялся. Тело подслепого сотрясалось от очередного приступа, а Карлик рассмеялся, обрадовавшись тому, что Меченый его усыновит и он никогда больше не будет голодать.
– Все равно не выйду за него, никогда не выйду, – повторила Журема, а потом добавила, потупившись: – Но еду отнесу, если вы, падре, говорите, что так надо.
Падре Жоакин кивнул и повернулся уже к двери, как вдруг подслепый вскочил на ноги, схватил его за руку. Карлик увидел, что он не в себе, и догадался, о чем пойдет речь.
– Вы один можете мне помочь, – зашептал он, озираясь по сторонам. – Ради бога, которому вы служите! Помогите мне, падре! Я не имею никакого отношения к тому, что тут происходит, я по нелепой случайности попал в Канудос. Ведь вы же знаете, что я не солдат и не шпион и вообще никто. Я умоляю вас, помогите мне!
Священник смотрел на него с состраданием.
– Хотите выбраться отсюда? – тихо спросил он.
– Да! Да! – закивал, залепетал подслепый. – Мне запретили… Это несправедливо…
– Надо было исхитриться раньше, – шепнул падре Жоакин. – Пока еще можно было, пока солдаты не обложили город со всех сторон.
– Разве вы не видите, что со мной делается? – простонал подслепый, показывая на свои красные, слезящиеся, выпученные глаза. – Я ничего не вижу без очков. Разве я могу в одиночку плутать по сертанам?! – Он сорвался на визг:-Я не хочу подохнуть тут, как в мышеловке!
Падре Жоакин заморгал, а Карлик зябко передернул плечами, как всякий раз, когда подслепый предрекал смерть себе и им всем.
– И я не хочу, – поморщившись, отчетливо проговорил священник. – И мне эта война ни к чему, но вот… – Он мотнул головой, точно прогоняя чей-то назойливый образ. – Хотел бы вам помочь, да не могу. Из Канудоса выходят только боевые отряды. А вам пути нет. – Он горестно развел руками. – Если вы верующий, поручите себя воле божьей. Один бог в силах спасти нас. Ну, а если не веруете… Тогда, друг мой, боюсь, никто вам не поможет.
Шаркая сандалиями, сгорбленный и печальный, он вышел за дверь. Карлик, Журема и подслепый не успели обсудить, что означал его приход, потому что в арсенале появились братья Виланова и еще несколько человек. Из их разговора Карлик заключил, что вдоль берега Вассы-Баррис роют новую линию окопов, к востоку от Фазенды-Вельи, и ведут ее к Таболериньо: какая-то часть республиканцев все-таки выбралась с Фавелы и в обход движется на Камбайо. Потом жагунсо ушли, прихватив с собой ружья, а Карлик и Журема принялись утешать подслепого-после разговора с падре Жоакином слезы текли у него по щекам, зубы стучали.
В тот же день, ближе к вечеру, Журема понесла Меченому еду, а Карлик вызвался ее сопровождать. Она позвала с собой и подслепого, но тот отказался, боясь Меченого и долгого пути через весь Канудос. Еду для жагунсо готовили на улице Святого Киприана – там разделывали туши коров, добытых Жоаном Апостолом, и Катарина, его истаявшая, как тень, жена, вместе с другими женщинами раздавала вытянувшимся в длинную очередь людям куски мяса, фаринью и баклажки с водой, которую сорванцы носили из водоема на улице Святого Петра. Журема и Карлик получили порции, причитавшиеся Меченому и его товарищам, и вместе с другими отправились в окопы. Надо было миновать улицу Святого Криспина, а потом, пригибаясь или вовсе на карачках, проскочить по овражистым берегам Вассы-Баррис, хоронясь от пуль за холмиками и пригорками. От реки идти всем вместе было уже опасно, женщины пробегали открытые места поодиночке, петляя, самые благоразумные припали к земле и поползли. Пройти надо было метров триста, и Карлик, стараясь не отставать от Журемы, видел справа от себя колокольни Храма, густо облепленные стрелками, слева– отроги Фавелы, с которых, казалось ему, тысячи ружей целят прямо в него. Весь в поту он добрался до гребня окопа, и чьи-то руки стянули его вниз. Изуродованное лицо Меченого склонилось над ним.
Кабокло не удивился, увидев их. Он поднял Журему, как перышко, помог ей спуститься в окоп и, не улыбнувшись, приветствовал ее поклоном, словно она появлялась тут ежедневно. Потом взял корзину и жестом приказал посторониться – они не давали пройти другим. Жагунсо ели, присев на корточки, переговаривались с женщинами, смотрели сквозь щели между бревнами, выглядывали из-за наваленных кучами ветвей. Наконец все кое-как расположились в изогнутой наподобие лука траншее, каждый приткнулся куда мог, и Меченый сел в углу, поманив к себе Журему. Карлик не знал, можно ли ему подойти, но Меченый, показав на корзину, подозвал его. Карлик пристроился рядом, стал есть и пить вместе с ними.
Довольно долго кабокло не произносил ни слова. Он сосредоточенно жевал, не глядя на Журему и Карлика, а она тоже старалась не встречаться с ним взглядом. Глупо отказываться от такого мужа, подумал Карлик, великое дело-собой нехорош, с лица воду не пить. Время от времени он вскидывал на него глаза. Плохо верилось, что этот человек с каменным лицом, усердно двигавший челюстями – карабин он прислонил к стенке, но не отстегнул ни мачете, ни ножа, не снял патронташей, – тот самый, кто вчера дрожащим от отчаяния голосом говорил о своей любви. Стрельбы не было, только изредка посвистывали шальные пули – Карлик уже привык к ним и не обращал на них внимания. А вот к орудийным залпам он приучить себя не мог – ни к грохоту разрыва, ни к туче пыли, ни к воронкам, ни к плачу испуганных детей, ни к окровавленным клочьям человеческого мяса, взлетавшим в воздух, – и первым кидался на землю, распластывался, зажмурившись, обливаясь холодным потом, цепляясь за Журему и за подслепого, если они были рядом, шепотом твердя молитву.
Молчание становилось тягостным, и Карлик, не выдержав, робко спросил, правда ли, что Жоакин Макамбира с сыновьями все-таки успел перед смертью взорвать Чудище? Нет, отвечал Меченый. Но страшная пушка через несколько дней сама взлетела на воздух и, кажется, забрала с собою на тот свет трех-четырех псов из числа орудийной прислуги. Должно быть, Отец небесный вознаградил Макамбиру за мученическую гибель. Меченый рассказывал это, по-прежнему избегая глядеть на Журему, а та словно и не слышала его. Обращаясь к одному Карлику, он добавил еще, что дела у проклятых протестантов идут все хуже, что они мрут с голода и от болезней, а урон, которые наносят им жагунсо, приводит их в отчаянье. По ночам даже тут слышно, как они плачут и воют. «Так, значит, скоро уйдут?» – осмелился спросить Карлик.
Меченый с сомнением пожал плечами.
– Главные дела творятся вон там, – пробурчал он, мотнув головой в сторону юга. – В Кеймадасе, в Монте-Санто. Туда все время прибывают новые полки, новые ружья, пушки, туда гонят гурты скота и везут хлеб. Уже вышел другой обоз – там и патроны, и провиант. А у нас все на исходе.
Шрам на его желто-пепельном лице слегка задергался.
– Этот обоз я пойду отбивать, – сказал он, повернувшись к Журеме, и Карлик словно очутился за тысячи лиг от них обоих. – Жалко только, что идти мне надо прямо сейчас.
Журема выдержала его взгляд с прежним, покорно-безучастным выражением лица и ничего не ответила.
– Не знаю, сколько буду в отлучке. Мы нападем на них возле Жуэте. Дня три-четыре, пожалуй.
Губы Журемы приоткрылись, но она так ничего и не сказала. За все то время, что они сидели в траншее, она не вымолвила ни слова.
Вокруг началась какая-то суета. Карлик услышал шум, увидел бегущих к ним жагунсо. Меченый приподнялся, взял свой карабин. Несколько человек, натыкаясь на сидевших в окопе, окружили кабокло и молча глядели на него, не решаясь заговорить. Наконец один из них – с большим родимым пятном на шее – отважился:
– Трещотку убило. Пуля попала ему в ухо, когда он ел. – Жагунсо сплюнул и, не поднимая глаз, хмуро добавил: – Кто теперь будет приносить тебе удачу, Меченый?
«Гниют заживо», – говорит Теотонио Леал Кавальканти и даже не замечает, что произносит эти слова вслух. Но можно не бояться, никто его не услышит: полевой госпиталь Первой колонны разбит в узкой расщелине между склонами Фавелы и Монте-Марио и надежно укрыт от пуль мятежников, но сводом нависающие уступы гор усиливают и многократно повторяют грохот канонады. Мучение для раненых-им приходится кричать, если что-нибудь нужно. Нет, никто не услышит его.
Эта мысль не дает Теотонио покоя. К тому времени, когда он, кипя праведным гневом за попрание республиканских идеалов, добровольцем приехал в Канудос защищать родину, ему, студенту последнего курса медицинского факультета в Сан-Пауло, уже много раз приходилось видеть и раны, и агонию, и смерть, но разве можно сравнить университетскую анатомичку, факультетскую клинику и больницы, где он стажировался по хирургии, с этим адом, с этой мышеловкой у отрогов Фавелы? Больше всего юного врача поражало, как стремительно проникает в раны инфекция – в считанные часы заводятся там черви, и тотчас пораженные ткани начинают выделять зловонный гной.
«Тебе это пойдет на пользу, – сказал ему отец, провожая Теотонио на вокзале в Сан-Пауло. – Приобретешь опыт военно-полевой хирургии». Как бы не так: плотницкий навык приобрел он здесь, а не хирургический опыт, хотя нельзя сказать, что эти три недели пропали впустую. Он успел понять, что раненые в большинстве случаев гибнут от сепсиса и газовой гангрены и что шанс выжить есть у тех, кто получил огнестрельную или колотую рану в конечность, легко поддающуюся ампутации. При своевременном вмешательстве и последующем прижигании дело быстро идет на лад. Хлороформа хватило только на три первых дня – только три дня можно было облегчать муки оперируемых: Теотонио, смочив вату этой одуряюще пахнущей жидкостью, держал тампон у носа раненого, покуда старший хирург капитан Гама, пыхтя и отдуваясь, орудовал мелкозубой пилой. Когда весь запас хлороформа вышел, пациентам стали давать по стакану водки, а теперь, когда и водки нет, оперируют вовсе без анестезии: ждут, пока раненый от боли потеряет сознание, чтобы хирурга не отвлекали его крики. Сейчас Теотонио уже сам ампутирует ступни и кисти, голени и фаланги, а двое санитаров всей тяжестью наваливаются на раненого, удерживая его на столе; сейчас он уже сам после операции прижигает культю, насыпав на нее немного пороху или смазав ее каким-нибудь горячим жиром. Так делал, так учил его капитан Алфредо Гама до своей идиотской гибели.
Иначе не скажешь. Капитану Гаме следовало бы знать, что артиллеристов тут в избытке, а вот врачей не хватает, в особенности таких врачей, как Он – практик, поднаторевший в своем деле в парагвайской сельве, куда отправился, будучи еще студентом, добровольно, подобно тому, как приехал в Канудос Теотонио. Но там, в Парагвае, доктором Гамой, на его беду, как он сам признавался, «овладела страсть к артиллерии». Неделю назад она его и сгубила, а на плечи юного студента легли изнурительные и неизбывные заботы о двух сотнях раненых, больных, умирающих, все они в страшной тесноте и скученности, полуголые-не хватает даже одеял – разлагались заживо, изъеденные червями. К Первой колонне прикомандировано десять врачей, в ведении капитана и Теотонио находилось северное крыло госпиталя.
Страсть часто отвлекала старшего хирурга от забот о раненых: он мог все бросить, все забыть и отправиться на вершину Монте-Марио, куда на руках втащили орудия Первой колонны. Артиллеристы позволяли ему стрелять из пушек Круппа, а иногда-даже дернуть за спусковой шнур Чудища. Теотонио вспоминает пророчества капитана: «Колокольни Канудоса падут от руки хирурга!» Он возвращался в госпиталь как на крыльях, исполненный новых сил. Этот толстый, полнокровный, бесстрашный и веселый человек взял Теотонио под свое крылышко, как только тот явился представиться начальству, и так пленил его своей неуемной энергией, сочными анекдотами, умением радоваться жизни, рассказами о бесконечных приключениях, что юный студент всерьез подумывал, получив диплом, остаться, по примеру своего кумира, на военной службе.
Полк стоял в Салвадоре недолго, но капитан успел показать Теотонио медицинский факультет Баии, а потом, усевшись напротив величественного желтого здания с синими стрельчатыми окнами, они пили сладковатую водку. Над ними шелестели листвой кокосовые пальмы, площадь была выложена черно-белыми плитами, вокруг толпились мелочные торговцы, и негритянки продавали деликатесы баиянской кухни. Они пили до рассвета, а утром в полном блаженстве проснулись в публичном доме. Перед тем как сесть в поезд, отправлявшийся в Кеймадас, капитан заставил своего питомца принять рвотное, чтобы, как он выразился, «не подцепить африканский сифилис».
Теотонио, напоив настойкой хины мечущегося в лихорадке больного, вытирает пот со лба. Рядом лежит солдат с развороченным пулей локтем, а с другого бока – раненный в живот: сфинктер не действует, и кал выходит через брюшную полость. Запах экскрементов перемешивается с запахом паленого – поодаль сжигают трупы умерших. Кроме хинина и карболки, в госпитальной аптеке нет ничего. Йод кончился тогда же, когда и хлороформ, и врачам приходилось применять как антисептики каломель и висмут. Теперь и их не стало. Теотонио Леал Кавальканти промывает раны раствором карболки. Он сидит на корточках, прямо руками зачерпывая жидкость из тазика. Остальным он дает по полстакана воды с хинином. Опасаясь болотной лихорадки, хинином запаслись изрядно. «Обожглись на Парагвае, дуют на Канудос», – говаривал по этому поводу капитан Гама. Там лихорадка косила солдат, но здесь, где страшная сушь, где комары водятся только у редких водоемов, ее и в помине нет. Теотонио знает, что от хинина никакого проку, но он по крайней мере создает у раненых впечатление, что их лечат. Как раз в тот день, когда произошло несчастье, капитан Гама распорядился выдавать хинин-за неимением ничего другого.