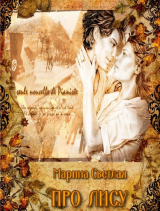
Текст книги "Про Лису (Сборник) (СИ)"
Автор книги: Марина Светлая
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
Изумруд для Лисы
– Солнце, – лениво изрек Пианист, глядя в окно их маленькой кухни через светлые занавески с занятными бабочками. В этом незамысловатом слове именно теперь было немало значения. Первое ясное утро за три недели хмурого неба, выплескивающего свои слезы то громким плачем, то едва слышными всхлипами.
Он сунул руки в карманы и смотрел, чуть щурясь, как по улице на велосипеде, быстро вращая педали, мчит почтальон. Губы Пианиста едва заметно улыбались. Потом он резко отвернулся от окна, откинул со лба влажную черную челку и подмигнул Лисе.
– Солнце, – подтвердила она и допила лимонад. Он был кислым до невозможности, но она этого совсем не замечала. – Теперь станет душно.
– Это лучше, чем если бы у нас выросли плавники.
– Ты просто не любишь дождь, – Лиса поднялась, услышав, как звякнула крышка почтового ящика.
Пианист проследил за ней взглядом. И помолчал. Он действительно не любил дождь. Тот бил по подоконнику, отдаваясь в висках. Его можно было заглушить только музыкой. Иначе он возвращался туда, куда возвращаться не хотел. В жидкую грязь по колено. В струи воды по прилипшей к телу одежде. К невыносимому холоду, который казался хуже адова пламени. И тогда он снова чувствовал тяжесть тела того, кого тащил на себе столько шагов, что не счесть. И не слышал больше запаха крови – о, он ненавидел запах крови – его тоже смыло дождем. И ощущал холод внутри, отбрасывая странные вопросы о том, почему не касается больше прерывистое дыхание его шеи. Потом раздавался голос Лионца. Этот голос Пианист слышал раз за разом. «Он умер». И по мерзлой земле скользили пальцы. Под ногти забивались мелкие камни. Физическое было прежде всего. Инстинкты были сильнее мыслей. Раз за разом он видел это в своих кошмарах. Почему это? Ведь было худшее. Гораздо худшее. Но приходило это.
– Домой на обед я не успею, – проговорил Пианист, зная, что ей это и так известно.
Она чуть пожала плечами в ответ.
– И на завтрак опоздаешь. Я помню. Но тебе ведь это нравится?
– Моя жизнь мне нравится, – усмехнулся он.
Она кивнула и вышла из кухни.
На много часов Лиса оставалась одна. Она не любила, когда он задерживался у Бернабе. Часто просыпалась, прислушиваясь к ночным шорохам, смотрела на часы, курила, пыталась снова заснуть, чтобы проснуться меньше, чем через час. Теперь же этот старый дурак затеял танцевальную ночь, утверждая, что такова местная традиция. И по странному стечению обстоятельств в Ренн приезжал Изумруд.
За время войны они виделись лишь однажды. Бесконечно давно в Париже, занятом немцами, когда она получила разрешение выступать в лагерях и военных частях. Но с тех пор они часто писали друг другу. Их неосуществившийся брак перерос в теплую дружбу. Она оставалась в ее жизни, когда ушел Пианист. И порой Лиса верила, что его письма и возможность на них отвечать стали надежной поддержкой, когда ее мир неумолимо катился в пропасть, из которой не выбраться.
Она механически перебирала в шкафу вещи, с улыбкой вспоминая короткое письмо Изумруда в ответ на ее сообщение о смене адреса. Даже не письмо, записка. О том, что он приедет.
Любимая юбка была с сожалением отброшена в кресло. Она еще сходилась на поясе, но дышать в ней было уже невозможно. А Изумруда хотелось покорить. Она и сама не знала зачем. Но желание нравиться всем окружающим и видеть это в их глазах было необходимо ей, как воздух, если не сильнее.
Сидя в нижней сорочке перед зеркалом, тщательно расправляя накрашенные тушью ресницы, Лиса услышала, как негромко хлопнула за Пианистом дверь. Она откинулась на спинку стула и придирчиво осмотрела себя. Молодая женщина напротив не могла оставить равнодушным того, кто будет на нее смотреть, вне зависимости от ширины ее талии.
Это чувство добавило ей уверенности, когда она стучала в дверь номера небольшой гостиницы, в которой остановился Изумруд. И это же чувство было полностью оправданным – во взгляде бывшего любовника отразилось откровенное восхищение.
– Наконец-то! – было первым, что он сказал.
– Да-да, я опоздала, – отозвалась она, подставляя щеку для поцелуя.
Он быстро коснулся губами теплой кожи лица и отстранился. Еще несколько мгновений рассматривал ее, а потом изрек:
– Хорошеешь. Когда только остановишься?
– Стоит ли? – удивилась Лиса.
– Если ты хочешь, чтобы шлейф твоих поклонников разросся от горизонта до горизонта, то, конечно, не стоит. Будем здесь или пойдем куда-нибудь?
– Давай прогуляемся. Потом можно где-нибудь пообедать. Здесь попадаются очень милые места, – она помолчала и задумчиво добавила. – А мне казалось, тебя не особенно смущало количество моих поклонников.
– Ты певица. Это нормально.
Он подмигнул ей и, взяв с тумбочки ключ от номера, вышел из комнаты.
Изумруд был старше Лисы почти на пятнадцать лет, но теперь, как и тогда, выглядел моложе своего возраста. Он был худ. Легкая седина не бросалась в глаза – пепельный оттенок его волос скрадывал серебро. Лицо никогда не было красивым. Среди мелких черт выделялся рот. Большой, мясистый, энергичный. Он был предметом шуток самого Изумруда – он утверждал, что когда смеется, то уголки его губ почти касаются ушей. Но этот самый рот он носил с королевским достоинством. Впрочем, в его жилах текло немного монаршей крови.
Он подставил ей локоть, улыбнулся и тут же сообщил:
– Я вчера ужинал в чудном ресторанчике у реки. И на набережной хорошо.
– А ты уже успел освоиться, – она взяла его под руку и на мгновение почувствовала себя королевой, отправляющейся на прогулку. – Я думала ты проездом…
– Если помнишь, я всегда быстро осваиваюсь. Это не всегда играет мне на руку. Но позволяет выглядеть уверенным.
– Я помню, что у тебя всегда есть основания для уверенности.
Они неспешно шли к набережной Шатобриан по городу, который жужжал ульем. Ни минуты не умирая, он возрождался. Теперь, спустя год после окончания войны, оставалось смотреть, как в домах появляются люди. Как вокруг шумят и суетятся строители. И витрины. Были витрины. Снова были витрины, не оклеенные, как прежде, замысловатыми узорами, будто назло, будто доказывая, что жизнь продолжается. Теперь они были чистыми. И жизнь действительно продолжалась. Южные районы, сметенные в бомбежках, начинали расти заново. Все возвращалось. Даже то, что навеки казалось утраченным.
Вопреки ожиданиям Лисы душно не было. Ветер от воды касался их лиц и одежды, чуть трепля ее. Но дождя, похоже, уже не надуло бы. Дожди тоже закончились.
– Тебе здесь нравится? – негромко спросил Изумруд, когда они остановились у края реки Вилен.
Лиса долго смотрела на воду, неспешно плескавшуюся в своих бетонных одеждах, потом подняла глаза на спутника.
– Нравится. И не вздумай смеяться! – деланно возмутилась она.
– К чему смеяться, если не с чего? – удивился Изумруд. – Здесь все другое. Париж сейчас тоже другой. Не буду лукавить, иногда я скучаю по нашему с тобой Парижу.
Лиса не отводила от него своего взгляда. Медленно рассматривала его лицо, светлые ясные глаза, высокий лоб. Чужой человек. Он знал о ней многое и в то же время не знал ничего.
– А я не вспоминаю… Война почти все перечеркнула. Потом я научилась жить только настоящим. А недавно… – она заставила его снова неспешно двинуться вдоль реки. – Теперь я знаю, что будет дальше.
– На тебя не похоже. Ты собиралась за меня замуж, а потом вернула кольцо. Ты должна была стать большой певицей, но бросила все на полпути. Ты ехала в Брест и осела здесь. Наверное, за это я тебя и люблю – никогда не представляешь, что ты еще натворишь. Мне казалось, ты сама не представляешь.
– Все это лишь потому, что есть он, – голос ее стал нежным. – Кроме того, что я бросила пение. Но рано или поздно я бы все равно ушла со сцены. Так даже лучше.
– Ты ли это? – Изумруд негромко смеялся, но на нее не смотрел. Смотрел прямо перед собой. Какой-то мальчишка бежал по улице с самодельным воздушным змеем. Змей упорно не желал взлететь, но мальчик был упрям. Тоже подтверждение жизни.
– Ты мне не веришь, – кокетливо проговорила Лиса и тоже взглянула на мальчишку.
– Я просто помню тебя, – он чуть сжал ее ладонь на своем локте свободной рукой.
– Спасибо тебе, – она быстро прижалась губами к его щеке.
Он дернулся и преступил запретное – повернул лицо так, что поцелуй ее скользнул совсем близко от его рта.
– Семь лет, оказывается, мало, – отчеканил Изумруд.
Лиса вздохнула.
– Семь лет – это бесконечно много потерянного времени.
– Не мы виноваты в том, что теряем время.
– Разве?
– А разве нет? Иногда время из нас вырывают. И ничего не остается. Помнишь, как ты вернула мне кольцо? Я тогда винил его. Сейчас понимаю, что это вы теряли время из-за меня.
– Нет, – она отрицательно мотнула головой, и локоны ее волос колыхнулись на плечах. – В этом виноваты лишь мы сами. И перед тобой я виновата. Мне не стоило позволять, чтобы все зашло так далеко.
– Нам было чертовски весело, – засмеялся Изумруд. – Не думай об этом. Моя последняя вспышка молодости пришлась на твой период. Теперь я умею только ворчать и вспоминать. Лучше скажи, чем ты теперь занята – с твоей-то энергией.
– Не смей утверждать, что ты старый, – совершенно серьезно возразила Лиса. – Ты всегда удивительно умел не ворчать, даже когда были причины. Впрочем, теперь ты бы точно ворчал: я совершенно ничем не занята. И нахожу в том удовольствие – просто быть вместе с ним.
– Было бы честнее сказать, что я страшно ему завидую, – его крупный рот изогнулся в усмешке, искажая черты, как если бы нарисовать картину на куске резины, а после начать ее растягивать. – Но я не скажу. Он болван.
– В тебе говорит ревность, – фыркнула Лиса и обиженно протянула: – Он ничуть не болван.
– Ну, если я для тебя не старый, то и он для тебя не болван. Всех нас ты видишь в каком-то своем, особенном свете.
– Наверное, я заслужила… чтобы вот так…
Она снова стала смотреть на воду и деловитых уток. Те увлеченно показывали желтым пушистым комочкам, как надо плавать, увлекая их по мосткам за собой в реку.
– Прости, буду занудой. Мы всегда заслуживаем того, что имеем. И мы исходим из того, что имеем. Что сейчас есть у тебя, дорогая?
– Он.
– И этого тебе довольно, чтобы быть счастливой, – он не спрашивал, а утверждал.
– Очень счастливой, – уточнила Лиса.
– Счастливее, чем в нашем Париже?
– Это другое. Сейчас все по-другому… С ним всегда все по-другому. Почему ты назвал его болваном? – неожиданно спросила она.
– Он позволял тебе слишком много, когда в действительности ты принадлежала ему.
– Ты тоже позволял мне многое.
– Я знал, что ты не моя. Просто со мной.
– Какая чепуха, – усмехнулась Лиса. – Конечно же, он знает обо мне все.
Ей легко оказалось произнести это вслух. Но пока они продолжали гулять по набережной, и после в ресторане, куда Изумруд привел ее обедать, убежденность Лисы ослабевала. Знает ли Пианист о том, что она счастлива рядом с ним? Что может жить без чего угодно, но только не без него. Что ехала в Брест от парижских улиц и кафе, где ей каждый день мерещился он. Что по ночам она часто слышит его беззвучный сердитый голос в шталаге.
Она кивала рассказам Изумруда, отвечала на его вопросы, спрашивала сама. А когда принесли кофе, вдруг поняла, что не сказала Пианисту даже самого важного. И этого он не может знать. Сейчас еще не может.
Лиса с трудом проглотила горячий горький напиток и спросила:
– Как долго ты пробудешь в Ренне?
– Уже устала от меня? – усмехнулся Изумруд.
– Нет, но сегодня мне пора.
Улыбка стерлась с его лица. Он внимательно смотрел куда-то мимо нее, будто бы задавался невысказанными вопросами, что мучили его многие годы. А потом ответил:
– Поезд в шесть. Сделаешь мне одолжение?
– Если это в моих силах.
– Ничего сложного. Проводишь меня? Помнишь, тогда, в сорок первом, кажется… я провожал тебя на твои гастроли по лагерям? Сегодня проводи меня ты.
– Я провожу тебя, – ответила Лиса. – Я рада, что ты приехал, и мы встретились.
Он с облегчением вздохнул, будто, и правда, боялся, что она откажет. И улыбнулся ровно так, как в собственных шутках, почти касаясь уголками рта ушей.
Последний час они еще бродили по набережным, которые перетекали из одной в другую. Смотрели, как река скрывается в каналах. Почти уже не замечали разрушенных домов. Те казались призраками, будто их не существовало в реальности. Их реальностью был неспешный разговор и звуки голосов друг друга и людей вокруг. Звуки течения времени и воды.
Потом они отправились в гостиницу. Он забрал там свои вещи.
Такси до вокзала. На перроне порывисто обнял ее, зная, что она сопротивляться не будет. Тепло и гладкость кожи под пальцами. Запах духов – теперь других, чем все в том же сорок первом на другом перроне. Напоследок позволил себе спросить:
– А если бы он не случился, у меня могла быть надежда забрать тебя с собой?
Паровоз неожиданно свистнул. Лиса вздрогнула в его руках и отстранилась.
– Нет, – ответила уверенно. – Кроме него, больше никого не могло быть.
– Люблю твою честность тоже, – хмыкнул Изумруд. – Я буду и дальше тебе писать, можно?
– Да, пожалуйста. Наша дружба мне дорога. Но если однажды она станет тебя утомлять, я пойму.
– Лишь бы тебя не стала утомлять моя любовь. Но я обещаю – больше ни слова.
Потом он стоял в вагоне, а Лиса махала рукой, пока поезд не скрылся в вечерней дымке. Она помедлила еще немного. До заведения Бернабе было всего несколько кварталов. Она спешно шагала по улице, обгоняя прогуливающиеся парочки. Пыталась унять подступающую тревогу и не знала, от того ли это, что на террасе будет звучать музыка, или же от того, как много она должна сказать Пианисту.
Чтобы не передумать, порывисто распахнула дверь кафе. Людей еще было немного, под самой сценой нашелся свободный столик. И Лиса решительно прошла прямо к нему, не спуская глаз с Пианиста. Он не видел ее. Не замечал. Его пальцы любовно касались клавиш, и сейчас он играл что-то неспешное и вдумчивое. Совсем незнакомое. Или ей не знакомое.
До ночи еще можно было успеть выдохнуть. Бретонские танцы коф-а-коф начнутся позднее. Можно было молчать. И дать говорить музыке. Ребята из его оркестра только подыгрывали. Часто музыка рождалась прямо здесь, на этой маленькой сцене. Они привыкли. Они научились. Они думали, что он ведет их, хотя в действительности это они вели его.
Бернабе никогда не слушал этих смен настроений. Теперь же он и вовсе был занят. Ночь обещала быть жаркой. И впредь он хотел проводить подобные ночи почаще. «Ведь мы – бретонцы!» – с особой значимостью говорил он.
Лису Бернабе увидел сразу, едва она вошла. И тут же радостно направился к ее столику.
– И вы пришли! – воскликнул хозяин заведения. – Теперь уж точно будет весело! Подыграете нам, прошу вас? Голоса нет, а петь надо.
– Нет, месье, – твердо сказала Лиса. – Я ненадолго. Петь вам придется без меня.
– Как жаль, как жаль! – забормотал Бернабе. – Самое время петь. Нет войны. Только петь и танцевать. Тогда мы, конечно, тоже пели и танцевали – назло им. Теперь от чистого сердца. Потому что мы – это мы.
«Глупый зануда!» – подумала она и снова посмотрела на сцену, прислушиваясь к звукам, рождавшимся под пальцами Пианиста. Виски сдавила тупая боль, а к горлу подступила тошнота. Но она продолжала сидеть, не двигаясь с места. Он мучил ее этими звуками. Мучил тем, что не глядел в зал, оставаясь на сцене, будто бы за стеной. Это длилось долго. Бесконечно, пока вокруг собирались люди. Пока кто-то о чем-то болтал совсем возле нее. Можно было искать спасения в голосах, лишь бы только не слышать музыку. Но музыка жила, как живут разбитые дома и обрубки когда-то сгоревших деревьев.
А потом Пианист резко дернулся. Мелодия замерла. И он отстранился от рояля. Повернул голову, будто бы точно знал. И поймал ее взгляд. Она сильно терла пальцами висок, но когда музыка стихла, убрала руку. На губах появилось слабое подобие улыбки, и Лиса кивнула ему. Он сглотнул. Быстро заскользил глазами по ее лицу. Секундная передышка. А потом встал из-за рояля и ушел куда-то в глубину сцены, скрывшись за дверью. За ним же последовали остальные музыканты.
– Сейчас начнется самое интересное, – заявил Бернабе, все еще маячивший поблизости. – Ох, что же он творит, когда играет. Волынки у нас все еще нет. Может быть, в следующем году обзаведемся.
– И что, по-вашему, самое интересное? – устало спросила Лиса.
– Бретонский коф-а-коф! Если не умеете, мы вас враз научим, мадам.
– Благодарю вас, – голос ее звучал совсем глухо среди других звуков, которыми было наполнено кафе.
Она достала из сумки сигареты и зажигалку. Но прикурить не получалось – дрожали руки.
Музыканты вернулись. Пианист шел последним. Шел и смотрел на нее. На ее пальцы. Не улыбался. Казался напряженным.
Потом была музыка. Снова – всегда – была музыка. Пианист говорил, что не отделяет ее от Лисы. И вместе с тем, больше они не были единым целым. Лиса была свободна. Превыше всего на свете Пианист уважал ее право на свободу. Но она ведь сама пришла. Сюда, к нему.
Все вокруг ожило, задвигалось. Люди танцевали. Звуки задорной мелодии звучали резко, перемежаясь с секундной тишиной, когда танцующие еще не успевали выкрикнуть слова песенки. Они не пели – вскрикивали. Действо, похожее на ритуал.
К ее столу подошла девушка с подносом в руках. И перед Лисой оказалось четыре предмета. Всего четыре. Бутылка шушены. Стакан. Скрученная кольцом проволока от крышки бутылки. И свернутая в два раза салфетка.
– Наш музыкант просил отнести это вам, – прощебетала работница кафе, притоптывая в такт музыке.
Лиса развернула салфетку, и перед глазами замелькали ноты, криво написанные карандашом.
Un regard, un sourire et c'est tout
Et depuis je ne pense qu'à vous.
Глупая песенка, которая очень давно была в их репертуаре. Совсем не их песня, ставшая для них самой главной. Если она о чем и жалела в жизни, так это о том, что потеряла тогда ту, первую салфетку в череде поездов, автомобилей и лагерей. Лиса аккуратно сложила клочок мягкой бумаги, будто самое ценное, медленно убрала ее в сумочку и, повертев в руках самодельное нелепое кольцо, надела его на безымянный палец. И в это мгновение рояль неловко всхлипнул и замолчал.
Шестая новелла про Лису
– Просто? Ты считаешь, это просто? Просто споткнулась, просто позвонила в два часа ночи, просто воспользовалась твоим платком. Если подумать, с ней ты проводишь больше времени, чем со мной. Ничего нет удивительного, что с ней просто.
Лиса зло отбросила от себя его рубашку, на воротнике которой ярко выделялось розовое пятно помады.
– Кто тебе мешает приходить на репетиции? – приподняв бровь, сдержанно поинтересовался Пианист. – Забот у тебя сейчас не много. Зато много свободного времени. В том числе на эти дурацкие фантазии.
– У меня фантазии. Вот как ты это называешь! А у тебя на все есть оправдание. К чему ты себя ими обременяешь? Ты когда-то прекрасно жил без всех этих сложностей. И без оправданий! И без дурацких фантазий!
– И без тебя? Ты это хотела сказать?
– Мне надо было доехать до Бреста. И все было бы по-другому. Но я послушала тебя, поверила. Я думала… – Она схватила сигарету, прикурила, глубоко затянулась. На глаза навернулась слеза, Лиса смахнула ее и сердито бросила: – Чертов дым! И как ты себе представляешь, что будет дальше? Я, дети и эта твоя виолончелистка?
Пианист мрачно подошел к ней, сунул руки в карманы брюк и посмотрел в окно, за которым будто в замедленной съемке падал крупными хлопьями снег.
– Как было, так и будет. Ты и дети дома. Виолончелистка в оркестре. Вы друг к другу никакого отношения не имеете. И если бы ты меньше присматривалась к моим воротникам и платкам, всякая чушь тебе в голову не лезла. А так, прости, это моя жизнь. Вокруг меня люди – везде люди. На сцене, в оркестровой яме, на улицах, в домах. Люди! А не тени с воспоминаниями. Может быть, ты забыла, что это такое, но я от этого отказаться не могу.
Лиса приоткрыла рот от удивления и на мгновение растерялась. Она смотрела на него, на снег за окном, на кончик сигареты, медленно тлеющей в ее тонких пальцах.
– Действительно, к чему отказываться, если можно устроиться так удобно, – негромко проговорила она и зло выдохнула: – Но тогда обеспечь ее своими запасными рубашками. Или пусть она платит за прачечную!
Пианист хохотнул и шумно зааплодировал:
– Отличная мысль! Обязательно воспользуюсь ею, если всерьез решу завести любовницу!
– Следующую, – проворчала Лиса.
– Господи! – рявкнул он и подошел к ней ближе. – Ну что с тобой, а?
– Я не буду все это молча терпеть!
– Но я же терпел. Хотя основания не молчать у меня были весомее. Из нас двоих по лагерям таскалась ты.
Она удобно устроилась в кресле и закинула ногу на ногу.
– Да! – довольно кивнула. – И ты же не думаешь, что были только шталаги?
Несколько секунд он смотрел на нее и молчал. Нет, он не думал, что были только шталаги. Он знал, что было еще… что-то еще. И немало. Потому что у него самого мало не было. Шесть лет безумия. Они никогда не касались этого, это было под запретом. Это вырвалось в жалкой попытке оправдать то, что не нуждалось в оправданиях. Стареет. Еще год назад не прорвалось бы. Но если тогда, в самом начале он боялся, что ей невыносима жизнь с ним, то сейчас не знал, стало ли хоть немного лучше с тех пор. Потому что именно жизнь – рождение детей, этот дом, снег за окном и его концерты – жизнь все отодвинула назад. Но оно осталось в каждом из них, как тлеющий кончик ее сигареты. Нужна была короткая вспышка, чтобы полетели искры.
– У меня концерт, приду поздно, – хмуро сказал Пианист, продолжая смотреть ей в глаза. – Но я прошу тебя… Давай хотя бы в Рождество обойдемся без скандалов.
– Хорошо, дорогой, – легко кивнула Лиса, – скандала не будет.
– Почему-то мне совершенно не нравится твой тон, – пробормотал он и вышел из комнаты, не оглядываясь. Злость кипела в нем и искала выхода. Но уж лучше на сцене, чем здесь.
Все так же легко Лиса поднялась из кресла и направилась в детскую, по дороге сунув в мусорное ведро злосчастную рубашку с помадой самого отвратительного цвета. Две черноволосых головы, на одной из которых были завязаны банты в косах, увлеченно склонились над игрушечной железной дорогой. Она была куплена несколько дней назад и еще не разобрана до основания.
Лиса опустилась на пол рядом с детьми, кивала невпопад на их замечания, смотрела на рельсы, которые будто уносили ее на километры времени назад, когда еще можно было что-то изменить, и думала о совсем другом Рождестве. Много лет назад… Тогда Париж был чужим, а Пианист ее ненавидел.
Нет, она не могла знать наверняка о его ненависти. Но она довольно знала о нем, чтобы понимать. Ненависть рождается в нас самих. Подчас не из внешнего, а из внутреннего. Там, где есть место любви, неизменно рука об руку с нею будет идти ненависть. Потому что другого не дано. Есть только два настоящих чувства. Все прочие чувства рядом с ними меркнут, становятся ненужными и неважными.
Пианиста Лиса любила.
Мужчину из того Рождества – ненавидела.
Это было в небольшой гостиной, освещаемой свечами и огнем в камине. За круглым столом с закусками и шампанским сидела Лиса в атласном платье изумрудного цвета с глубоким декольте, в котором мирно покоился золотой медальон, отблескивавший при каждом ее вздохе.
– Я больше никуда не поеду, – сказала она устало Мужчине, расположившемуся напротив, и щелкнула зажигалкой.
Он коротко усмехнулся. Отправил в рот кусок телятины и запил его вином. Потом поднял на нее глаза и, продолжая жевать, ответил:
– С чего вдруг?
– Надоело. Устала. Да какая разница… не хочу.
– И что это значит?
У него был ужасный, отвратительный акцент. Он часто сбивался и переходил на немецкий, отчего временами ей приходилось изрядно напрягаться, чтобы понять его. Он был не очень молод, но подтянут. И неутомим в постели. Его аппетитам мог позавидовать и молодой мужчина. К счастью, кроме Лисы, он имел довольно широкие интересы. Но у нее он жил. Вот уже больше года он занимал второй этаж ее дома. А это, как ни крути, уже прочные отношения.
– Птичке надоело порхать? – уточнил он.
– Беспокоюсь о тебе, – кривая улыбка, помноженная на танцующие тени и отблески свечей, до неузнаваемости исказила ее черты, делая ее другой женщиной.
– Твои забавы меня не тревожат.
– А твое собственное здоровье?
Мужчина медленно улыбнулся. Не спеша отер губы салфеткой и бросил ее в тарелку. Медленно встал. Подошел к Лисе. Склонился к ее плечу и прошептал:
– Оно у меня отменное.
И поцеловал голую кожу на ее ключице.
– Прекрати! – она отстранилась. – Тебе стоило согласиться, чтобы жена приехала на Рождество.
– Еще только ее здесь не хватало, – хохотнул он и настойчиво провел ладонью по ее шее к щеке. – Или твое нежелание ездить с гастролями означает, что и наши с тобой отношения ты намерена завершить?
– Надеюсь, ты не станешь говорить, что это сильно ранит тебя?
– Отнюдь. Женщины изменчивы. Вечером они могут быть не в духе, а к утру проходит.
– Так, может, проведешь эту ночь с той, у которой настроение больше соответствует празднику?
– Я намерен провести ее с тобой. Нравится тебе это или нет. Есть некоторая прелесть в том, что ты не можешь ничего сделать, чтобы это было не так, без последствий для твоей драгоценной жизни.
Лиса подняла на него тяжелый взгляд.
– Я просто не стану ничего делать.
– И не надо. Так полежишь. Во всяком случае, попробуешь, – коротко рассмеялся он, но и его взгляд потяжелел. Его лицо имело странные черты. Они не были ни красивыми, ни запоминающимися. Даже скорее блеклыми и спокойными. Они не подходили его характеру. Они казались чертами совсем другого человека. Одновременно с этим его глаза всегда выдавали его с головой. Вот и теперь. Она могла бы знать наперед, что он сделает. Впрочем, она и так знала. Он мягко прошелся ладонью по ее затылку. Но там же, на затылке ладонь потяжелела тоже, как и взгляд. Его пальцы зарылись в ее волосы, освобождая их от шпилек. И не успела она и охнуть, как резко рванул на себя тяжелые локоны.
– Идем в спальню, – проговорила Лиса, поддаваясь его рукам.
Но его руки уже жили ею. И едва ли он слышал то, что она сказала.
Был жалобный звон посуды, сметенной на другую сторону стола вместе со скатертью. И глаза его на невыразительном лице, приближенном к ее лицу. Он дернул ее со стула и усадил на стол. Его пальцы вцепились в рукава ее платья и потянули вниз, освобождая тело. Несколько секунд он смотрел на белоснежную кожу ее шеи, ключиц, груди. Его грудная клетка медленно и тяжело поднималась и опускалась. И дыхание, вырывавшееся из носа, было шумным. Потом он смежил веки и резко склонился к ней. И рот его, жесткий, жестокий, причиняющий боль, живо забегал по ее телу, оставляя грубые горящие следы. И даже если бы она хотела отрешиться от этого, уйти в равнодушный морок, как это случалось часто, сейчас не могла бы – он заполнил собой все, что у нее было.
Впрочем, он и другие такие же и были всей ее жизнью. Она слишком долго не думала, сколько потеряла, считая, что все уладится само собой. До того душного летнего дня, когда на очередном концерте в очередном шталаге она увидела Пианиста. И когда глаза его полыхали яростью, останавливаясь на ней. Ей казалось, она слышит его мысли, а не его слова. Разве можно не знать, что он думает о женщине, танцующей для немецких офицеров и улыбающейся немецкому Генералу? Разве есть таким, как она, другое название?
Месяцы, в которые она ждала документы, Лиса провела как в тумане. И торопила каждый день, мечтая, что однажды оправдается перед ним. Только бы он знал, почему она это делает. Только бы не думал того, что выглядело неоспоримым. Она представляла себе их новую встречу раз за разом в самолете и после в автомобиле, когда ехала по уже знакомой дороге, занесенной снегом – зима в этом году началась рано… Как жаль, что она началась так рано, когда для всего прочего стало поздно!
Мужчина рядом с ней удовлетворенно засопел, и Лиса, освободившись от тяжести его тела, вышла из комнаты.
У двери черного хода на кухне раздался тихий шорох. Она всегда ждала этого шороха и не запиралась. Каждый раз знала, что он будет – едва слышный скрип и шаги. Потом пришедший ждал бы ее столько, сколько будет нужно. А на рассвете ушел бы, если бы не дождался. В домах с черными ходами и отдаленной от всех прочих помещений кухней удобно заниматься тем, чем она занималась. Как и удобен ее постоялец. Все сложилось настолько удачно, что хоть вой.
Мальчик выглядел встревоженным. Черноволосый, подвижный, в легкой не по погоде куртке. Он был бледнее обычного, и взгляд его пылал жаром. Он едва сдерживал кашель, поминутно прижимая кулак ко рту, но глядел злым волчонком. В ее ладонь он сунул маленькую фотокарточку.
– Руан, 365/Z. Анри Дюбуа. Кхх… Он бывший официант. 26 января туда приедет чин. Кххх-кхх… Вероятнее всего, его определят обслуживать гостей. Вам нужно будет его вывезти вместо вашего аккомпаниатора. Это устроят. Все будет выглядеть так, будто бы он вас похитил. Когда обо всем станет известно, он будет в безопасности, а вам нужно будет только поддерживать видимость того, что он угрожал вам. Кхх-хх…
Лиса хмуро кивнула, вглядываясь в лицо на размытом фото. Строгое и худое, как у многих.
– Что-нибудь еще? – спросила она, пряча фотокарточку.
– Кхх… Подробные инструкции будут позднее. Сейчас, прежде всего, нужно устроить вашу поездку. Этим займитесь незамедлительно. 26 января вы должны будете петь там. Это главное.
– Я поняла, – Лиса заставила себя говорить спокойно. – Я постараюсь.
Мальчик кивнул, улыбнулся. И выдохнул из грудной клетки сдавленный хрип, отчего его лицо из злого сделалось растерянным и грустным.
– Бога ради, у вас не найдется чего-нибудь согревающего? – едва слышно всхлипнул он.
– Коньяк, – хохотнула она. – Будешь?
– Если только добавить его в чай.
Она недолго двигалась по кухне, пока готовила чай, плеснула туда коньяка, который всегда был в ее доме, и замерла у буфета, глядя, как мальчик жадно пьет горячий напиток. Видимость хоть какой-то деятельности отвлекала от главного – от того, чтобы думать о Руане, 365/Z. Быстро расправившись с чаем, мальчик ушел. С тех пор она его уже больше не видела. И так и не знала, долечил ли он свой кашель. Потом приходили другие люди.
Лиса до рассвета просидела на кухне. Пила коньяк, курила и смотрела в злые глаза Франсуа Диздье. Она мучила себя его паспортом, постоянно держа при себе. Это было ее собственным наказанием за то, что Пианист так и не узнал, почему она ездила по шталагам. Он оказался смелее и сбежал почти сразу после ее концерта.
А она опоздала на несколько месяцев. Она опоздала на всю свою жизнь.
И все что ей оставалось – жить тем, из чего состоит эта жизнь. Мужчиной, который спит в ее постели, и другими такими же, в чьих постелях спит она.







