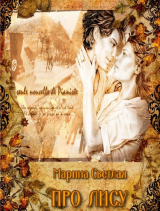
Текст книги "Про Лису (Сборник) (СИ)"
Автор книги: Марина Светлая
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
– Рекомендую вам пригнуться, – хладнокровно бросил Лионец, словно бы визг тормозов был сущей безделицей. – За нами погоня.
– Они не будут стрелять, – не менее холодно отозвался Генерал. – Пока есть вероятность попасть в меня, они огонь не откроют.
Пианист обернулся назад, почти ничего не видя. Расплывчатые картинки мелькали перед глазами слишком быстро, чтобы успевать соображать. Ему всегда недоставало реакции Лионца и собранности Могильщика. Все, что он мог, это стоять под окнами комендатуры на виду у всех и стрелять в адъютанта Генерала. И при этом не попасться. Всего лишь потому, что он не думал. Не давал себе времени думать. Зато был склонен к драматическим эффектам.
Они гнали за город, прекрасно понимая, что миновать пост на выезде им поможет только чудо. Пространство сужалось от настигавших их мотоциклистов до той отметки, где их непременно остановят, внутри коридора из тесных улиц Тюля.
Иногда положено случаться и чудесам. Генерал хотел жить.
– Оторвитесь от них, – глухо сказал он. – Сверните на рю Сен-Мартен. Если повезет, они будут гнать по де ля Баррьер. Выскочим на северо-востоке, у леса. На посту я… покажу свои документы. Вы сможете выбраться.
Лионец только сплюнул. Но сделал в точности, как приказал Генерал. Самое удивительное заключалось в том, что Генерал именно приказал. Не больше и не меньше. Несмотря на глухой голос и равнодушный тон.
Несколько секунд Лионец выиграл в этой погоне.
Эти несколько секунд и решили жизнь.
Один поворот, и узкий сокращающийся коридор исчез.
Они вынырнули на другой улице. И прошли другой пост.
Уже потом, когда Пианист спросил связанного Генерала, с чего тот решил, что мотоциклисты погонят на юго-запад, тот только рассмеялся: «Что же вы думали? Мы не знаем, что там ваша группа? Ее уничтожение – вопрос нескольких дней. И нескольких сотен человек из тех, кто вам помогали». Сотен. Тысяч. Миллионов. Какая разница?
Пианист вдыхал и выдыхал воздух, когда их остановили. Вдыхал и выдыхал его, когда Генерал сунул руку в карман, вынимая удостоверение. Вдыхал и выдыхал, когда протягивал его постовому. Дышать он перестал, когда Генерал наклонился, чтобы подобрать из-под ног выроненную… карточку.
Еще одна секунда, решившая жизнь. С фотографии, которую Генерал приложил к удостоверению и снова сунул в карман – у сердца, сверкнула улыбкой Лиса.
– Можете проезжать, – сказал постовой, вытянувшись в струну.
И Пианист, чувствуя страшное жжение где-то в груди, вдруг подумал, что это оттого, что он не дышит. Осторожно втянул носом воздух. Жжение не стало меньше. Зато понял – это та самая фотография, на которой Лиса вдвоем с Генералом. Он все еще помнил, как они уходили куда-то в сторону с фотографом после того, как был отдан приказ увести пленных. Оказывается, помнил. Оказывается, не забыл.
Несколькими часами позднее кюбельваген был сожжен на берегу Корреза далеко от города.
– С вашей стороны это месть? – спросил его Генерал в один из тех дней, когда они следовали вчетвером на запад, куда вел их Лионец.
– Месть слишком мелко, – с улыбкой ответил Пианист. – Мне нравится слово «возмездие».
– Громко и витиевато. Не для нас с вами.
– Отчего нет?
– Мое имя, если и упомянут, то в связи с бесславным пленом, провалом порученного задания и гибелью. Ваше, боюсь, тоже предадут забвению. Согласились бы на мои условия, играли бы сейчас где-то. А вместо этого торчите в канаве, теряете время. И мы оба с вами понимаем, чем это все закончится.
– Вас передадут британцам, – отрезал Пианист. – В этом все заинтересованы.
Спустя несколько дней Лионец застрелил Генерала.
Приговора никто не выносил. Суда не было. И никто не думал о том, что сам Лионец питает к Генералу нечто сродни ненависти – лагерный паек и сломанная нога не располагают к сочувствию. Но выстрел был сделан не из мести и не во имя возмездия. Попытка к бегству. Лионец сначала выстрелил, потом уже подумал. Евреев из Тюля вывезли в положенный срок и без Генерала. Группа Лионца освободила их уже в пути и переправила в горный район, где проще было их укрывать. Но в июне 1944 года, вскоре после высадки союзников в Нормандии, группа Лионца была уничтожена. Их связь с Пианистом оборвалась задолго до этого. Он тоже ушел на юго-запад.
И больше уже не мог забыть.
Запах сигаретного дыма и привкус табака слизывали с языка вкус и аромат ее духов.
Будто вытравливали ее из его тела. Следы физического соприкосновения позже смоются в горячей ванне, которая ждет его в гостинице. Но забыть уже будет нельзя. Пианист никогда и не забывал, обманывая себя. Даже считая ее шлюхой, продавшей себя врагу, он всегда цеплялся за ее взгляд на фотографии с Генералом. Почему-то ему казалось, что оттуда она смотрит на него.
Фотография все еще лежала в бумажнике. Он согнул ее так, что немец оказался с другой стороны. Отрезать его совсем не решился. Пианист почти никогда не доставал этого снимка – к чему? Он и так, едва закрывал глаза, ясно видел ее лицо.
Он и так… был наполнен ею. Она продолжала жить с ним все эти годы. После шталага – в особенности. Наверное, именно тогда он застыл – одеревенел. Не пускал в себя никаких чувств. Потому что, если бы начал чувствовать, его бы не стало. Как всякое живое существо, Пианист боялся боли. Душевной более, чем физической.
Теперь он знал правду.
Знал, для чего: для чего Генерал, для чего все… И от этого на какое-то мгновение стало по-настоящему страшно. От этого и от вопроса «а если бы…»
Если бы можно было все изменить?
Если бы не плен.
Если бы не война.
Если бы не его молчание.
Если бы не ее отвага.
Странное и страшное осознание, что это она спасала его… в каждом из тех людей на коллективном фото с французскими военнопленными, которые наверняка получили такие же удостоверения, как удостоверение Франсуа Диздье – в каждом из них она спасала его. Даже когда сама не догадывалась об этом.
Если бы не этот проклятый поезд, который увозил ее в Брест!
Если бы не эта чертова сигарета, кончик которой едва тлел!
Если бы он ее не любил!
Холодный рассветный воздух на вокзале, когда весь мир был подернут сиреневым полумраком их нового расставания, прояснял мысли.
Пианист любил Лису. Прежде этого казалось недостаточно. Теперь только это еще и оставалось, когда слетела вся шелуха.
Но было еще кое-что, что только в это утро ворвалось в его мысли, разрушая все барьеры памяти и обстоятельств.
Удивительное открытие: Пианист не жил без Лисы. Ни минуты не отделяя ее от себя. Никогда. Словно оставляя ее внутри, изнанкой, не произнося имени, не видя годами… Иначе давно бы прошло. А не проходило. Всю жизнь таилось в ошметках души, на закоулках сознания, искаженными тенями в душных барах, где приходилось играть. Мешая во всем. И при этом спасая раз за разом.
Все его хваленое везение – чтобы встретить ее сейчас. Чтобы встречать ее: в кабаре, на сцене, в «Томном еноте», в шталаге, в поезде. Раз за разом. Чтобы одна из встреч оказалась той самой. Чтобы, наконец, понять, что он может все изменить. В его силах все изменить.
Ждала ли Лиса?
Гудок поезда и грохот от вагона заставили Пианиста очнуться. Он вздрогнул и обернулся к проводнику, убиравшему лестницу.
– Передумали? – спросил тот, когда Пианист жестом попросил обождать.
– Рано вышел, – отмахнулся он.
Хотя в действительности и сам прекрасно понимал, что опаздывал. Везде и всегда. Кого в том винить?
Он прошел узким коридором к ее купе, которое покинул несколькими минутами ранее, продолжая сжимать в руке ручку чемодана. Тот все так же прибивал к земле тяжестью горечи.
Выпустил ее он только тогда, когда увидел Лису. С безумными перепуганными глазами она мчалась по коридору. Мчалась к нему. Мчалась за ним. Чемодан глухо ударился о ковер на полу, но этого Пианист уже не слышал. Он вцепился пальцами в ее тонкие плечи и прохрипел, задыхаясь:
– Ты сумасшедшая! Я всегда знал, что в тебе ума не больше, чем у курицы. Но даже мне не приходило в голову, что все настолько плохо! Вообразила себя Матой Хари? Или кем там еще? Чем, кроме подделки удостоверений, ты еще занималась, идиотка?
Она молчала. Лишь пальцы ее судорожно цеплялись за ткань пальто, да плечи тряслись от несдерживаемых рыданий. Пианист чертыхнулся. Прижал Лису к себе еще крепче, чуть приподнял над полом, перешагнул через чемодан и затащил ее в купе. Дверь за ними плотно закрылась. И только чемодан сиротливо остался валяться в коридоре до следующей станции, когда проводник стал разыскивать его владельца.
Четвертая новелла про Лису
Наидосаднейший парадокс человеческой сущности заключается в том, что лежащее на поверхности человеку не нужно, как бы хорошо оно ни было. Он стремится нырнуть поглубже в поисках того, что глазу не видно. И разочаровывается, ничего там не найдя. Впрочем, важна не находка, а поиск. Пианист, стоявший на кухне небольшой квартиры в Ренне и варивший кофе, ни в чем на свете не был так уверен, как в этом. На закатанные до локтя рукава белоснежной рубашки, заправленной в темно-серые брюки, брызнуло несколько капель, когда он переливал горячий напиток в чашку.
Кофе он пил крепкий и горький, без сахара и без изысков. После бессонных ночей вполне помогало работать. Ночи были бессонными по разным причинам.
Иногда крохотный оркестр, который он сколотил в первые же недели в Ренне, играл ночные концерты в баре у дурака Бернабе. Концерты были почти благотворительными – хозяин не только дурак, но и скряга. Но нужно же с чего-то начинать. Эти выступления давали чувство свободы. В опере Пианисту не нравилось. Оказывается, он не любил театра. Как не любил понятие академичности. А возвращение к аккомпанированию Пианист не считал возможным. Аккомпанировать кому-то после Лисы?
Чаще – мучили кошмары. Они приходили неизменно, заставляли просыпаться в холодном поту, чувствовать тяжесть темноты вокруг, прислушиваться к шорохам, которые оказывались только лишь шумом крови в ушах. Вставать среди ночи, чтобы не мешать Лисе, и идти варить кофе. А потом забывать про кофе, когда из спальной раздавался вопль – ей тоже снились кошмары. И он точно знал, что эти кошмары страшнее тех, что видел он.
Но чаще всего ночами он корпел над нотной тетрадью. Чуть заметно в воздухе вздрагивали пальцы, будто бы он играл. Но играть было нельзя. Чтобы не разбудить ее. Она теперь не выносила музыки. И она никогда не выносила того, что он сочинял. «Ты здорово играешь, но писать тебе нельзя!» – заявила она ему однажды. Пианист был отвратительным композитором и знал это. Но все-таки писал – почти тайком. И толком сам ни разу не слышал того, что сочинил – разве когда на репетициях пробовал что-то сыграть, если оставался один.
Сделав глоток, Пианист поморщился, потом выглянул в окно и подумал, что зря Лиса не взяла зонта – наверняка дождь пойдет. Лето было сырое и удушливое. И тоже давило невыносимой тяжестью.
С этой вялой мыслью он направился в гостиную, где стояло фортепиано. Кофе отставил на столик, примостил теперь уже основательно потрепанную нотную тетрадь на пюпитр. Пальцы любовно пробежали по клавишам, и он почувствовал привычную истому, накатывавшую на него, когда он слышал музыку, исходившую от него самого. Пожалуй, его любовь к игре была совсем немного меньше его любви к Лисе. Хотя в душе он никогда не отделял ее от музыки.
Открыв дверь своим ключом, Лиса самым первым услышала фортепиано. Звуки вились вокруг нее нестройным и прерывающимся потоком. Наверное, это и есть музыка. Та музыка, которой был наполнен ее мир, но в котором она больше не могла находиться. При первых же аккордах, раздававшихся поблизости, у нее начинала раскалываться голова, и подступала тошнота.
Ей удавалось жить без музыки, пока она была одна. Теперь, рядом с Пианистом, ей казалось, что она лишает его чего-то очень важного, в чем заключена вся его жизнь. И была уверена, что должна выпустить его из клетки собственных кошмаров. Ему и своих довольно. Но лишь привязывалась к нему все сильнее с каждой минутой, прожитой рядом. Понимая, что без него жизнь ее потеряет последний смысл. И оставалась с ним. И ненавидела себя за свой эгоизм.
Этим утром Лиса бродила по городу дольше обычного, подходила к реке, уходила в парк. Не замечая разразившегося ливня, она радовалась пустынным улицам. И никак не могла решиться вернуться, испытывая стыд, разрывающий изнутри каждую клетку кожи.
Как она посмотрит ему в глаза?
Ноги сами принесли ее домой. В прихожей Лиса сбросила на пол промокший насквозь плащ, скинула туфли и прошлепала в гостиную, оставляя за собой дорожку из капель стекающей с кончиков волос воды. И в наступившей тишине, не глядя на Пианиста, села с ним рядом.
– Что за бестолочь! – раздраженно сказал он, едва взглянув на нее. – Хоть бы зашла куда-нибудь переждать дождь! Неужели все закрыто?
– От дождя не будет никакого вреда, – негромко отозвалась Лиса.
– Разумеется, бронхит совершенно безобидная болезнь, моя дорогая. Тебе нужна горячая ванна. Пойдем, я наберу.
– Не надо. Ты репетировал. Я сама, – сказала она, продолжая сидеть рядом.
Пианист повернулся к ней, оценивающе посмотрел на каплю воды, висевшую на крошечной прядке у виска – ее вечно непослушный завиток удрученно поник. Потом быстро промокнул указательным и большим пальцем. И улыбнулся, отчего его лицо растеряло резкие линии, сделавшись мальчишески мягким.
– Я могу отрепетировать и после. Пойдем.
Он вскочил со стула и потянул ее за собой. Лиса послушно поплелась за ним в ванную, где белый холодный кафель в отвратительный розовый цветочек был единственным в квартире, кто знал тайну Лисы…
Прошел ровно месяц с их встречи в поезде Париж – Брест, когда она проснулась от накатывавшей волнами тошноты. За окном начинался рассвет. Пианист еще не вернулся – наверняка задержался у Бернабе. Этот болван часто заставлял их играть до того часа, когда в заведение начинали заглядывать посетители, желающие выпить первую чашку кофе.
После того, как подобное повторилось в третий раз, Лиса отправилась к врачу. Чтобы услышать то, к чему была совсем не готова.
У нее не может быть ребенка.
У нее не должно быть ребенка!
Такие, как она, обязаны уходить бесследно, а не умиляться коротеньким штанишкам и платьицам. В ней не было ничего доброго и живого, чем она могла бы поделиться с маленьким глупым существом, которое решило появиться на этом свете среди руин, ненависти, шталагов и прочей мерзости. В мире, где она мечтает лишь о тишине.
Она злилась на себя, злилась на Пианиста, обвиняя его во всех смертных грехах.
Он продолжал привязывать ее к себе! И это было большим свинством с его стороны.
В очередное утро, когда она снова заперлась в уборной, сдерживая звуки вырывающихся из горла спазмов, Лиса решилась. Ребенка не будет. Всего-то и нужно – найти врача. Деньги у нее есть.
Вода, шумно ударившись о дно ванны, горячей струей полилась из крана.
Пианист пробовал температуру рукой и о чем-то напряженно думал. Когда горячий пар чуть развеялся, и была достигнута золотая середина между кипятком и айсбергами, он удовлетворенно улыбнулся.
– Почти треть своей жизни я хотел набрать тебе воды в ванну и приготовить чаю, – с улыбкой сказал он. – Первое есть, пошел за вторым.
С этими словами он оставил ее одну.
Пальцы почему-то дрожали. Он чиркал спички одну за другой, те отказывались загораться и ломались. Он продолжал думать. Хотел бы остановиться, но это было невозможно и невыносимо одновременно. Нужно прекратить. Его окончательный выбор очевиден. Беда в том, что он не знал, подходит ли такой выбор ей. Она всегда ускользала от него, не оставаясь рядом дольше, чем до того момента, как он начинал действовать ей на нервы.
Может быть, с его стороны великодушнее было бы сойти с того проклятого поезда. Или уйти теперь. Но он не мог уйти. Слишком хорошо понимал, что если она задыхается с ним, то он теперь задохнется без нее.
Пианист успел ощутить разницу между тем, чтобы чувствовать теплую кожу ее щеки на своем плече, когда она, наконец, засыпала после очередного вскрика среди ночи. И тем, чтобы жить одеревеневшим, без чувств вовсе. Он слишком долго чувствовал себя одеревеневшим. Оказалось, нет. Внутри живой. А теперь содрал с себя деревянный чехол, разбив пальцы в кровь.
Черт! Деревянный чехол. Все знают, как он называется.
И никто, ни один человек на земле не видел его таким, каким видела его Лиса. Ей он мог позволить. И никому больше. После шталага мог.
Наконец конфорка зажглась, и он поставил на плиту чайник. Потом вынул из пачки, лежавшей на подоконнике, сигарету. И прикурил от плиты же – он бы не выдержал очередной пытки спичками. Руки по-прежнему дрожали.
Лиса опять уходила от него. Среди дождя ей было лучше. Можно обманывать себя дальше. А можно жить с этим.
Потом он потянулся к подвесному шкафчику и достал банку с чаем. Она была трогательно подписана ее рукой по-английски. Его это забавляло. В их репертуаре почему-то никогда не было песен на английском, хотя она их раньше пела на репетициях. Они тогда здорово веселились. На концертах Лиса была другая.
Пианист насыпал чаю в заварник и залил кипятком. Потом сел за стол и стал ждать.
Он ждал недолго. Лиса появилась на кухне, под самый подбородок закутанная в его халат. Своих не было. Всегда не терпела халаты. Но после ванной с удовольствием надевала его, являя собой презабавнейшее зрелище: подол шлейфом тащился по полу, а из рукавов были заметны лишь отполированные ногти.
Подошла к Пианисту сзади, обняла крепко за плечи и потерлась щекой о его щеку.
– Дай сигарету, – попросила негромко.
Он вынул из кармана брюк примятую картонную пачку и протянул ей. Потом встал, налил в чашку чаю и поставил на стол. Пошарил по полкам, достал бумажный пакет с купленным этим утром печеньем и пересыпал его на тарелку. Наконец, сел напротив и, глядя, как она затягивается, мысленно выругался. Все на свете он отдал бы за то, чтобы снова слышать ее голос, когда она поет. Не выдержал. Откинулся на высокую витую спинку стула и сказал:
– Пойдешь вечером к Бернабе? Послушала бы, как мы играем с парнями. Все лучше, чем в театре.
Лиса напряженно следила за ним взглядом.
Он не мог… ведь не мог знать, куда она ушла сегодня. Отчего же ей кажется, что он знает? Отчего кажется, что избегает ее? Ванная, чай, стул напротив… Словно отгораживается. Не прощает. Потому что нельзя простить. Легко ненавидеть себя. Как жить с тем, что он ненавидит ее?
– Нет, не пойду, – глубоко затянувшись, Лиса зло потушила окурок в пепельнице. – Еще распугаю твоих поклонниц.
– Не распугаешь. Будешь слишком занята своими поклонниками. И все-таки бросай курить. От этого портится цвет лица.
Лиса криво усмехнулась.
Цвет лица. В ближайшие несколько месяцев у нее испортится цвет лица, фигура и, вероятно, окончательно – характер. Хотя куда уж хуже!
Выйдя из дома сегодня, Лиса неожиданно для себя самой повернула в противоположную сторону от той, где располагалась квартира доктора, к которому она записалась на прошлой неделе. Она пришла в себя у реки, когда в голове ясно обрисовалась одна-единственная мысль. Она не может убить его ребенка. Все что угодно, но такого предательства он не заслуживает. Он терпит все ее выходки, выслушивает ее истерики, проживает с ней каждый ее кошмар, а она отказывается сделать для него такую малость? И разве ей самой не хочется увидеть его крошечную копию? Их настоящее, общее, на двоих. И разве не сойдет с ума, если, отпустив его, узнает родные черты в чужом малыше?
– Ты жалеешь? – нарушила она тишину, в которой привыкла прятаться от себя самой.
Он сразу понял, о чем она. Он всегда и все про нее знал – так было всю жизнь. Почему это должно было измениться за давностью лет? Он долго смотрел в ее лицо. Красивое лицо, благодаря которому он в действительности выжил – иначе было бы не для кого. И разомкнул губы только для того, чтобы ответить:
– Нет.
– А если у меня испортится цвет лица?
– Тогда мне не придется продираться сквозь армию твоих поклонников. Но, боюсь, ты сама не сможешь спокойно смотреть на себя в зеркало. Впрочем, делай, что хочешь – я выброшу зеркала.
– Мои поклонники существуют лишь в твоем воображении, – улыбнулась Лиса.
Вдруг порывисто сорвалась с места, обошла стол, опустилась на пол рядом с ним, склонила голову ему на колени и прошептала срывающимся голосом:
– Останься сегодня дома, прошу.
Зарылся длинными пальцами в ее влажные волосы. Погладил тонкие плечи, с которых трогательно свисала хлопковая ткань его темно-синего халата. И нежно, как только мог, проговорил:
– Останусь. Но у меня просьба к тебе.
– Это шантаж, – буркнула Лиса.
– Это взаимовыгодная сделка.
– Я постараюсь.
– Останься со мной навсегда.
– Иначе не будет. Но ты прогадал. Я заполучила товар получше, – она нашла его ладонь и сплела свои пальцы с его.
Важна не находка, а поиск? К черту!
Пианист вдруг подумал, что никогда ничего не искал в действительности. Глубины слишком преувеличены. Он всегда знал, что ему нужно то, что на поверхности, совсем близко. Только нужное неизбежно ускользало из его рук – разве салфетка с нотными знаками решает жизнь? Разве один снимок фотографа переворачивает ее с ног на голову? Разве случайно купленный билет на поезд становится билетом к счастью?
Как он сказал? Треть жизни он мечтал набрать ей горячую ванну и заварить чаю? Мечты имеют свойство сбываться.
Ночью он будет просыпаться от кошмаров в холодном поту и будить ее, когда она закричит. Завтра снова станет перемалывать в себе сомнения в верности ее выбора, раздирая себя до крови.
Но сейчас ее голова лежит на его коленях. А его пальцы подрагивают, цепляясь за ее. Истома, какая овладевает им, когда он слышит музыку, вырывающуюся из-под его рук, накрывает его с головой. Он садится к ней на пол. Берет своими губами ее губы, пробуя их на вкус – вкус сигарет, чая и чего-то еще, что принадлежит только ей. Стягивает с нее свой халат, освобождая мягкое податливое тело до пояса. Она похожа на русалку с мокрыми волосами и голой грудью. И почти дикими, сверкающими глазами. Его собственная сорочка летит в сторону. И теперь можно прижаться к ней кожей. И слышать музыку ее сердца и ее дыхания.
Это потом он отнесет ее в постель. Сейчас ему довольно и кухонного пола.







