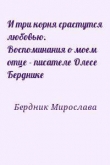Текст книги "Бумажные маки: Повесть о детстве"
Автор книги: Марианна Вехова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
14
Ее самоубийство, о котором я сначала ничего не знала, потом – догадывалась, и наконец – убедилась, долго мучило меня...
И разве не удивительно, что я так люблю тех, кто жил до того, как проклюнулось мое «я»?
Отца я хоть сколько-то знала, мы с ним успели стать друг другу дороги, и когда он исчез из моего мира, его любовь осталась со мною и вместе со мной росла, менялась, строила мой внутренний мир. Но любовь к маме – тоже живая, так же развивалась, становилась все богаче, глубже...
Растаявшее облако? «Влажный след в морщине»? Выцветшие фотографии? Почерк на истлевшем листке? Что я люблю? Человека-то я не знала. Но это невидимое, эфемерное, что я отнюдь не эфемерно воспринимала, всю жизнь меня согревает, бережет, учит, одаривает... Растит...
Как мне хотелось увидеть мою маму во сне! Но она мне не снилась.
Однажды я почувствовала ее присутствие. Я шла одна по лесу, по горячей от пыли мягкой полевой дороге. Потом лежала в траве, глядя, как взлохмаченные сосны вершинами разметают белые облака. И вдруг мне показалось: моя мама – здесь, со мной! Я даже оглянулась. Не сминалась от ее движения трава, не перемещалась легкая пыль на дороге, но я отчетливо ощутила прикосновение ее любви и печали. Я поняла, что наслаждаюсь каждым мгновением жизни так, остро и за нее тоже.
Целый рой голубых бабочек летел над травой. От трепета множества крыл ожил воздух. А бабочки вдруг разом опустились на мои плечи, руки, платье; невесомые маленькие крылья трепетали, разворачивались и складывались, наполняя меня изумлением и счастьем. Я боялась перевести дыхание и думала: «Видит ли она это?», и чувствовала – видит!
В то памятное лето я – наконец! – встретила ее во сне. Я оказалась в большом здании, похожем на Зимний дворец, только не золоченом, не мраморном, аскетически строгом. Анфилада зал полна была народу. Все в большом возбуждении чего-то ждали, тревожились, жестикулировали, все разом говорили, перетекая группами из зала в зал.
Я присела на белую скамью, гладкую, прохладную, чистую, оглядела белые стены, белый высоченный потолок, белые распахнутые двери, посмотрела на пестрые толпы, заполнившие большие пространства залов гулом голосов, стуком шагов, хаотичным движением. Меня не касалось их волнение, их ожидание, я здесь оказалась совершенно посторонней, меня никто не замечал, словно я была пустым местом.
И вдруг я почувствовала, что на другой конец скамьи опустился кто-то, такой близкий мне, такой дорогой, что меня охватила теплая волна радости. Я взглянула – кто это? И увидела маму. Вот она какая – тоненькая, легкая! Ее одежда была тревожных тонов: темно-зеленая юбка и темно-красная блузка. Косо подстриженные волосы занавешивали склоненное лицо. Глаза блестели из-под прядей. Я так и рванулась к ней – обнять и все рассказать о себе, о ней, о нас... Я физически ощутила, как слова в горле заметались, словно толпа свидетелей, жаждущих заявить о себе... Но она резко отвернулась, вскочила и бросилась от меня в гущу народа. Я поняла, что ей нельзя почему-то со мной разговаривать, нельзя смотреть мне в глаза, и в то же время угадывала, как она стремится ко мне всем существом, но не может переступить через запрет. И все же я погналась за ней. Я бежала по бесконечным залам, натыкаясь на людей, крутясь в их водоворотах, путаясь во встречных потоках. Я видела: где-то впереди мелькает край темно-зеленой юбки, в толпе растворялась тоненькая фигурка... У меня колотилось сердце.
Я молила: «Не убегай, пожалуйста! Я ведь так тебя люблю! Я тебя ни за что не осуждаю. Ни за что! Только бы сказать тебе, как я тебя люблю!»
Так и проснулась на своей постели в слезах, с колотящимся сердцем и запыхавшаяся, словно действительно после долгой и бесплодной погони.
Почему ей нельзя было побыть со мной? Ведь она умерла, чтобы нас с отцом спасти...
Когда маме было три года, бабушка Женя привела ее в храм в Берлине. Девочка увидела распятие. Она вгляделась в лицо Христа с потеками крови от тернового венца, в Его руки, пробитые большими гвоздями, и начала кричать и плакать: «Злые люди! Злые люди! Зачем они Боженьку гвоздями прибили?»
Бабушка испугалась, что дочка слишком впечатлительная, и больше никогда не водила ее в храм. Она хотела защитить детскую ранимую душу и не знала, что раны Христа имеют врачующую силу. Чем больше человек о них плачет и думает, тем свободнее и сильнее становится незаметно для себя. Если бы из детских слез родилась любовь ко Христу, вся жизнь девочки пошла бы по другому руслу: ее характер сложился бы по-другому, ее защитили бы от отчаяния могущественные силы... И что бы с ней ни случилось, она не стала бы обрывать свою жизнь сама...
15
Отец рассказывал и рассказывал о ее смерти всем, кто хотел его слушать, так больно ему было. Он не мог носить эту боль в себе. А людям казалось, что он свихнулся и бредит. Особенно всех пугала его идея «фикс» – выкопать ее из могилы и оживить...
Все-таки это я его спасла. Ему пришлось все время обо мне помнить и заботиться. Я ему не давала сосредоточиться на его боли. Он от горя и усталости с ног валился, но не мог спать. Говорят, он не хотел спустить меня с рук. Смотрел мне в лицо и плакал. Он в реке стирал пеленки, положив меня в какую-нибудь ямку, защищенную от ветра...
Когда я смотрю на воду большой реки, я так и вижу моего отца, склоненного к потоку – к этому движению, влажному дыханию, шевелению, переливу множества разных голосов: журчанию, плеску, шуршанию... У реки есть цель, к которой она неуклонно стремится. И смотреть на это направленное движение – целебно для души...
Наверное, именно тогда на Иртыше он вдруг обрел надежду, что все еще можно изменить. Когда-то он, лектор московского планетария, смеялся над идеей странного философа Федорова, что человечество должно оживить всех умерших предков и вместе с воскрешенными строить новую жизнь на планете... А еще Циолковский проповедовал, что сила чувства – это непрерывная лестница, нисходящая от живого мира– до мертвой материи, не исчезающая даже на границе живого... Так разве не может сила чувства вернуть мертвое в состояние живого?..
И – у Стивенсона во «Владельце Баллантре» индиец Секундра выкопал из могилы своего господина, пролежавшего в ней несколько дней, и пытался оживить. У него не получилось всего по двум причинам: воздух был слишком холодный, и Баллантре был злодеем...
Отец вспоминал, как моя мама читала Стивенсона по-английски, когда ждала меня – в счастливейшие дни, весенние, мирные. (Вот счастье было: неторопливо читать, ничего не бояться, смотреть друг на друга в чистой уютной своей комнате). Она читала Стивенсона и с листа перевела ему эту страшную сцену. Они тогда еще поговорили о смерти, об идеях Федорова, о Циолковском... Им казалось это все таким нежизненным, надуманным, белибердой...
А теперь ему хотелось встретить такого Секундру и узнать у него... методику оживления.
Отец упорно думал об этом, представляя, как узнает способ, выкопает гроб, отдерет крышку, снова увидит ее лицо и оживит. Распад остановится и пойдет вспять! И жизнь к ней вернется, наполнит ее и будет продолжаться...
Знакомые в Москве слушали с жалостью, кивали, сочувствовали и уверялись в его безумии. Он жил этой идеей, и снова и снова ее обдумывал. Идея стала мечтой. Заветной.
Он добирался до Москвы очень долго и давал телеграммы начальникам пристаней и железнодорожных станций по пути следования, что везет осиротевшего грудного младенца и просит помочь с кормилицей.
И женщины, которые жили по маршруту нашего следования, приходили к пароходу или поезду и кормили меня.
Моя жизнь состояла из сна, а промежутки бодрствования были заполнены чувством голода, жажды, холода, противного мокрого беспокойства и блаженно-сухого покоя и сытости... Но я знаю, что если младенца родители не ограждают от чужих людей и он привыкает, что от чужих лиц и рук на него изливается только добро, тепло и ласка, он вырастает дружелюбным и доверчивым...
На каждую кормящую мать, на каждую встреченную им женщину с грудным ребенком отец смотрел теперь, как на друга. Он мог подойти и протянуть своего младенца кормящей матери. Не надо было никаких объяснений. Взглянув в его лицо, женщина без слов понимала, что у него горе, и брала меня и прикладывала к груди, когда чувствовала, что ее собственный ребенок уже сыт.
Отец смотрел, как я вцепляюсь в сосок чужой женщины жадным ртом, и плакал, не замечая слез. Об этом рассказала мне няня Даша, которую пугало, что у него слезы сами текут, как только заговорят о его умершей жене или выпадет из чемодана ее старое платье...
Сколько у меня молочных братьев и сестер на Иртыше, на пространстве от Омска до Москвы, каких они разных национальностей, вер, обычаев... В буквальном смысле – народ меня выкормил, и я ему обязана жизнью. И я не могу предпочитать одну национальность другой. У всех матерей молоко – как живая вода в сказке – питает жизнь.
А мой отец лелеял свою мечту, прижимая меня к себе, может быть, он шептал о ней, вглядываясь в мое лицо. А я, спустя восемь лет, так же страстно желала оживить его, пристально разглядывая его лицо на маленькой измятой фотокарточке...
16
У моего отца была комната в коммуналке в Сверчковом переулке.
Вернувшись в Москву, он стал работать в школе – преподавал астрономию, физику, математику. К научной работе его не допускали, ведь он скомпрометировал себя, уехав в ссылку за своей подозрительной женой.
...Я просыпаюсь после очередной болезни и чувствую, что вернулись силы. И хочется пробежать по теплому паркету к окну, взобраться на круглое сиденье деревянного кресла, потом – на письменный стол, на зеленое сукно – обширный луг с темной чернильницей из мрамора и бронзы. Там бронзовые медвежата карабкаются на бронзовые пни, в которых стынут радужные зеркальца чернил... А дальше – окно, а в окне – серый двор с единственной пыльной и кривой липой в центре. Пыль я не замечаю, это я позже замечу и запомню, когда немного вырасту. Листья-то на липе – зеленые! И солнце их просвечивает – настоящее! И тени бегают по песку в песочнице точно такие же, как на большом бульваре на Чистых прудах, где я гуляла с няней. Как я рада, что липа кривая. Значит, я когда-нибудь смогу на нее залезть! И залезу, и сяду высоко, и посмотрю далеко. Правда, вокруг только окна, окна, окна...
Внизу – мусорные баки с полуоткрытыми крышками, из-под которых торчат старые газеты и тряпки. Между булыжниками кое-где высовываются вихорки пыльной травы.
Прикосновения вещей, бумаг, одежд так приятны! Бумаги пахнут стариной, а платья – магазином. Стулья приготовились скакать на своих гнутых ножках, диван готов плыть по паркетному морю, а занавеска над форточкой выгнулась, как парус на картинке...
После калейдоскопа разнообразных нянь у меня появилась няня Даша. Я ее полюбила – лицо, руки, объятия, словечки, теплый запах волос и платья...
В детстве у человека другие измерения времени и пространства. С завтрака до обеда, с обеда до ужина проходят целые эпохи, от двери комнаты до окна помещается Вселенная. Все вещи живут, как люди, у них свои интересы. Они умеют менять обличья. Занавеска на книжной полке может зловеще шевелиться в сумерки, угрожая выпустить из своих малиновых складок что-то страшное, что наполнит душу ужасом. А может, наоборот, – дружелюбно прятать меня в своих пыльных объятиях, когда в передней раздеваются, смеясь и громко разговаривая, гости, а у меня начинается жестокий приступ смущения – до слез...
Детские страхи... Когда боязно спустить ноги с дивана: кто-то выскочит, плоский, темный из поддиванного пространства, выскочит и схватит плоскими пыльными лапами... Короткие перебежки со стула на стул – круглые спинки стульев и круглые сиденья, на которых хочется покрутиться, но деревянные ручки обнимают – берегут от падения на пол, и каждый стул – маленькая надежная крепость...
Там, в коридоре, за плотно закрытой белой дверью идет своя жизнь: чьи-то шаги, голоса, телефонные разговоры. Стукнет парадная дверь, и сразу моя белая дверь распахнется, и появится няня Даша, румяная, пахнущая городским ветром и дождем, с тяжелой сумкой на сгибе руки, а в сумке – всегда что-нибудь вкусное. Я умоляюще смотрю на белую дверь, но она неподвижна...
Когда нет няни Даши, вещи молчат и выжидают – им хочется пожить без людей...
Папина кровать такая важная! Владелица блестящих шаров, всегда холодных на холодных блестящих спинках из столбиков и перекладин. Торжественно лежит простое белое покрывало, его нельзя мять (попробуй, влезь на кровать без разрешения, покрывало сразу выдаст!). Подушка стоит на нем углом, она знает все папины сны и ночные мысли. У нее торчат мягкие уши, в которые можно шептать свои пожелания, чтобы она передала их папе.
А моя кроватка с сеткой – в углу за шкафом. Днем она выглядит таинственно: там, за сеткой прохладно и сумрачно, хочется туда забраться и играть, но нельзя, потому что кровать – только для сна... Засыпая, я долго смотрю на настенный коврик с тремя гномами под мухомором. От него пахнет клеем и холстом. Гномы хитро глядят из-под колпаков, надвинутых на глаза. Это мамин коврик, из ее немецкого детства. И она на него смотрела перед сном.
И вообще все тут – мамино. Ее руками вышиты чехлы на креслах, диванные подушки и грелка на чайник. Она все здесь устраивала для нашей общей жизни... Но мамы нет, вместо нее – няня Даша. У нее есть свои дети и она рвется к ним. Но всегда целует меня, укладывая спать, уговаривает съесть еще ложку манной каши, утешает, когда я ссорюсь с ребятами во дворе или набиваю шишку. А если я болею, она сидит рядом и держит меня за руку, дает лекарство или кладет на лоб холодный компресс и рассказывает, рассказывает о своих детях, о жизни в деревне, о поросенке Ваське и корове Любимушке...
Каждое лето до самой войны я проводила у брата бабушки Жени Николая Кузьмича и его жены Елены Владимировны, которую называла Туполеся: соединенное – тетя Олеся.
Жили они на Лесостепной лесохозяйственной опытной станции на границе Тульской и Орловской областей, где мой двоюродный дедушка Николай Кузьмич Вехов был заместителем директора по научной части. Это сюда моя мама умоляла отпустить ее непреклонного «тов. Леденса».
Здесь был дом, рояль в доме, цветник под окнами и сад. Елена Владимировна сначала работала на станции, потом стала заниматься только домашним хозяйством, которое требовало много сил и времени. Кормить ей приходилось много народу: кроме семьи, мужа, двух сыновей и сестры, еще и приезжих сотрудников, аспирантов Николая Кузьмича, к тому времени – профессора. За продуктами ездили то на лошади, то на машине в ближайший город Ефремов.
Я очень полюбила тетю Олесю. А она писала обо мне в лагерь бабушке Жене:
«Наконец-то малышка у нас. <...> Приехала она к нам с няней и с отцом. <...> Сейчас у нас много цветов, цветник я в этом году уладила как следует. И розы есть, и пионы, и гвоздики и т.д. Так когда к малышке поднесут цветы, она не вдыхает запах, а носом делает выдох и при этом цокает: вкусно! Ну а Николай Кузьмин, батька наш, сильно постарел, лицо худое, много седых волос... «
В доме Веховых было весело, устраивались домашние праздники, вечера и концерты, в которые тетя Олеся вкладывала много фантазии и выдумки:
«Я частенько концерты устраиваю. Когда мы Володю «праздновали» (поступление на биофак МГУ младшего сына Веховых, кузена моей мамы), мы ему поднесли сосну, увешанную пряниками, пожелали вывести новую породу сосен (сосна пряничная), а я подала к столу блюдо: розовые острова на молочном озере – манный мусс вишневый с молоком и пожелала Володе устроить такую страну. Завтра, верно, устрою танцы со световыми эффектами: есть у меня 5-6 полосок целлофана цветного – буду экраны цветные перед лампой ставить, а один из зимних вечеров шел с танцами с лентами: 18 лент 2-х метровой длины разных цветов. <...> Недавно устраивала вечер Грига с цитатами из его биографии. Был вечер, темой которого я взяла «вечера в музыке. Конечно, много играла ноктюрнов. Так мы. веселимся. А теперь толчешься с утра до ночи, часто и играть некогда, так что моя техника здорово сдала. Ну ничего, зимой поиграю...»
Писала тетя Олеся и о том, как она меня воспитывала: «Если она падает, мы не жалеем, советуем встать, посмотреть, где это она дырку носом сделала?»
До сих пор помню кусок крашеного желтого пола, который я, по-видимому, тщательно рассматривала. Помню его прохладу, чистоту и гладкость. Наверное, меня сильно поразила мысль, что не только мне больно, но что я могла и пол продырявить носом. Я трогала нос пальцем и убеждалась, что он только сверху мягкий, а внутри – твердый. Вполне мог пробить в полу дырку... Неужели полу тоже больно? Как это узнать? Ведь он никогда не плачет...
Тетя Олеся не боялась давать поручения мне, двухлетней. Доверяла что-то отнести, передать, поставить на место, и я радостно отправлялась исполнять поручение. Около дома был обширный цветник, там у меня была своя клумба, куда я сажала палочки и была уверена, что из них вырастут цветы. Для меня в цветнике расчистили дорожку и посыпали желтым речным песком. Я рисовала на этом песке большие черные каляки, под песком земля была черная. У меня был и свой гамак. Он висел низко над травой, я доставала ногами землю и могла сама раскачиваться.
Тетя Олеся писала бабушке Жене:
«Она говорит: «гамак мой». Свое местоимение она знает, других нет пока. Есть своя лавочка маленькая. И там, как-то сидя на своей лавочке, она углядела дым из трубы и была поражена в особенности тем явлением, что это связано с самоваром. Я целые сутки с ней. Ухитряюсь рукодельничать (не бросила этой страсти), вот только играть никак не удается, так как соперница не терпит моей музыки, находит, что она лучше играет, и тут же лапками шлепает по клавишам. Я с трудом догадалась однажды: «Тюполися, аяяи!» Оказывается, она хочет играть на рояле...»
Это под «тетиолесиным» роялем я сидела и слушала ее игру, которую вспоминала в эвакуации и больнице как самое чудесное переживание в моей жизни. Музыка грохотала и гудела вокруг, в каждой половице и во мне самой, а к распахнутой настежь двери подходили из темноты любопытные деревья и кусты и заглядывали в светлые комнаты, и прохладно дышали. И хотелось, и боязно было выйти к ним, переступив границу света и тьмы...
Когда началась война, я была у тети Олеси. Все боялись каких-то парашютистов. Я, конечно, не понимала, кто это, думала – страшные чудовища, раз взрослые их так испугались. Начались перемещения, скитания, бегство от бомбежки. Почему-то мы жили в сарае, где я радовалась обществу поросенка, овец и кур и не страдала от блох в отличие от взрослых. Я стала совсем деревенским ребенком. Нянчила полено, запеленутое в тряпку, называла его своей дочкой.
Я сама ничего не помню, но в сохранившихся у бабушки Жени письмах тетя Олеся все это красочно описала, как и вообще весь хаос эвакуации, безумие внезапных сборов.
...Разоренный дом. Рояль, оставленный в пустом доме, как живое, обреченное существо..
У моего отца лицо сразу переставало быть взрослым, когда он снимал очки. Взрослый для меня значило – сильный; тот, кто все может и все знает, тот, кого никто не посмеет обидеть.
Но – стоило папе снять очки, он тут же превращался в мальчишку, которого только что сбили с ног. И при этом он оставался таким большим по сравнению со мной, что мне на него надо было смотреть, запрокинув голову;
Как ему удалось уговорить военкома взять его в армию? Даже для ополчения он не годился с близорукостью минус 8. Но чем ближе фашисты подходили к Москве, тем больше его снедали тревога и жажда действия.
Я помню, как он ходил со мной по городу, ставшему непохожим на себя, как сдавливал мне руку, когда по улице нестройно шли отряды ополчения или шагали солдаты. Он застревал у плакатов «Что ты сделал для фронта?» и «Родина-мать зовет», хотя я не любила на них смотреть: у женщины на плакатах было резкое, страшное лицо, страшные пряди волос и обвиняющий палец, нацеленный мне в глаза...
В витринах вместо красивых манекенов с красивыми улыбками и туманными глазами теперь валялись толстопузые серые мешки с песком. Куда делись манекены? Мне всегда хотелось иметь такую большущую куклу, как взрослая тетя, наряжать ее и укладывать на диване. Где теперь эти куклы? Лучше бы отдали девочкам...
Не на что было смотреть. Скучно! Совсем нет гуляющих на улицах. Все спешат.
Вид у прохожих озабоченный, мчатся куда-то, и все ненарядные...
Из-за угла в пустой переулок выходит отряд ополченцев с песней вразнобой. Странно видеть этих людей в строю, пытающихся шагать дружно. Они совсем невоенные, как и мой папа. А он замирает на пыльных булыжниках, смотрит через очки, и где его веселая улыбка? Он нервничает, спешит, тащит меня за собой, и я боюсь капризничать, бегу, спотыкаясь.
Не представляю, как он воевал. У меня близорукость гораздо меньше, но без очков я в трех шагах вместо человеческого лица вижу расплывчатое пятно.
Мне рассказывали, что винтовка у него была старого образца, 1913 года. Наверное, при выстреле сильно отдавала в плечо. Я в школе стреляла из мелкашки, и толчок был чувствительный, я хваталась за очки. А на войне с очками, наверное, совсем беда: то запотеют, когда нет возможности их протереть, так и идешь вслепую, то соскочат, если резко наклонишься, то пылью зарастут... И вообще – о них надо постоянно помнить, беречь...
Он мог уйти из ополчения. Его часть долго жила в какой-то школе в Москве, наверное, недалеко от нашего дома, потому что, помню, мы с няней ходили к нему пешком, приносили еду. Я долго хотела потом попасть в тот школьный двор, усыпанный почему-то соломой. На ней тогда рядом с папой сидели усталые невоенные люди. Ветер разгонял солому по всему переулку, ее желтые клочки долго бежали за нами, когда мы уходили. Папа смотрел нам вслед через очки, я оглядывалась, и мы друг другу махали. Даже в эвакуации я вспоминала людей, сидящих на соломе в школьном дворе и папу у самой ограды и думала: а вдруг он еще там сидит?
Ополчение понемногу расползалось. Люди уставали от первоначального героического порыва и начинали трезво оценивать свои возможности и обстоятельства. Какие из них воины с их хроническими болячками, грузом возраста, с дедовскими винтовками против танков и автоматчиков на мотоциклах?.. Кто-то пристроился на завод, кто-то в учреждения... Мой отец тоже мог уйти. К нему приходил его товарищ и предлагал бронь как ученому, нужному для обороны. Но отец ответил:
– Если бы я был русский, я бы так и сделал... Что я за солдат с моим зрением... Но я еврей! Я не смогу слушать попреки, что евреи спрятались за спину русского Ивана. Лучше в бою погибнуть...
Он трезво смотрел на происходящее и был уверен, что погибнет... Товарищ моего отца рассказывал, что когда встретил его в военной форме, то даже растерялся, и сердце у него защемило. Совершенно не воинственный это был солдат. Худенькая шея в широком вороте гимнастерки. Сильные тяжелые очки на осунувшемся лице. Все ему было велико: и башмаки с обмотками, и гимнастерка, а пилотка – мала, еле покрывала крупную голову.
А я, всего через полтора года после ухода отца в ополчение, в больнице, лежа в гипсовой кроватке, все мечтала, как папа вернется с фронта, я сразу выздоровею, он заберет меня из больницы и мы будем счастливы. Я целовала его маленькую фотографию в «тихий час», натянув на голову простыню, чтобы никто не помешал, и умоляла его не погибнуть, вернуться ко мне. Возможно, на какое -то время я сделала из него Бога для себя и молилась ему. Иконой была маленькая фотокарточка для документа, немного нерезкая и сразу пожелтевшая по краям, с трещинкой через все лицо – от пилотки до ворота слишком широкой гимнастерки.
С фотографии смотрело печальное лицо со впалыми щеками. Этот клочок фотобумаги оставался как бы гарантией, что отец жив и вернется. Вот же он! Смотрит! Словно хочет что-то сказать... И я продолжала его ждать, когда его тело уже смешалось с глиной Ржевщины. Он оставался жив только для меня. А когда я поняла, что ждать больше нечего, я придумала себе поиск на поле боя и оживление с помощью живой воды.
Я так живо воображала, как мы с ним будем гулять по Москве, что когда стала взрослой, воспоминание об этих фантазиях казалось похожим на действительные переживания. Все-таки воображение опирается на реальность...
Когда-то давным-давно... Неужели это на самом деле было? Мы с ним сидели на каких-то каменных ступенях, прогретых солнцем, у наших ног плескалась река, и наверху и внизу плыли облака, слепила синева, и тени и свет пробегали по его улыбающемуся лицу, беспрестанно меняя его... А над нашими головами воздушные шары на длинных нитках стукались друг о друга с мягким резиновым скрипом, танцевали, дергали нитки из наших пальцев, и их прозрачные тени скакали по ступеням, выбеленным жарой.
Почему я тосковала только об отце, мечтала только о нем, а матери словно и не было?
А я ее не помнила... Не успела осознать ее. Глаза, улыбка, прикосновение, голос, запах, дыхание ее, – все это ушло, когда мое сознание не «включилось» еще. А отца я не только знала, а могла гордиться им. Его возвышал ореол героизма: воин! Защитник Родины! О таких людях пело радио, говорили, торжественными голосами дикторы и учителя, ничуть не стесняясь собственного пафоса. И даже много лет спустя я не раз попадалась на эту удочку воинственного патриотизма
По утрам я любила смотреть, как папа бреется. Он быстро водил намыленной кисточкой по нижней части лица, и вот он уже совсем как клоун в цирке, с белым подбородком, надо только нарисовать веселый красный рот... Но папа и без всякой подрисовки начинал меня смешить. Надувал по очереди белые щеки, чтобы соскрести с них вместе с пеной щетину, его рот съезжал то на одну сторону, то на другую, я приходила в восторг и покатывалась со смеху. А к полудню чисто выбритые папины щеки уже снова были колючими. Я любила колоть о них ладони и лицо... Сама эта колючесть – мужская, мужественная... Прижмешься к колючей щеке – и тебе ничего не страшно!
Стоило мне услышать, как кто-то кричит «папа», и увидеть, как ребенок мчится, раскинув руки, чтобы с налету обнять своего отца, я убегала и пряталась, чтобы порыдать без свидетелей.
Что я знала о своем отце? Что может знать о своих родителях четырех-пятилетний ребенок? Я помнила, что он добрый, что он большой, сильный, веселый... Когда он скакал по комнате, посадив меня на плечи, а я цеплялась за его густую гриву, стараясь удержаться, хохотала и визжала, он смеялся не меньше меня. Ему нравилось, доскакав до абажура с бахромой, висевшего, как оранжевый плод, высоко под потолком, резко подпрыгивать, чтобы я могла покачать бахрому, отчего по мебели, по стенам, как длинные темные волны, пробегали тени...
А когда я стала старше, я узнала, что мой отец был астрономом. Бабушка купила мне несколько популярных брошюр по астрономии, чтобы я могла узнать, что это такое (она хотела, чтобы я научилась сама отыскивать ответы на свои многочисленные вопросы, не мучая ими других), и еще в своем гипсовом заточении я прочитала эти брошюры, поразившие мое воображение. Там говорилось о белых, голубых, желтых и красных звездах, о Марсе, на котором видны в телескоп полосы, похожие на каналы, вырытые таинственными существами, о взрывах на вечно кипящем Солнце, о Земле, летящей в черной пустоте вокруг Солнца, как мячик, привязанный на нитке...
Лежа пять лет в гипсе, я совсем забыла, как выглядит ночное небо не из окна. Помнила тот момент, когда мы бежали во время воздушной тревоги куда-то по темному переулку, а я была сонной, кое-как одетой, путалась в незашнурованных ботинках, спотыкалась, не хотела бежать, хотя совсем близко громыхало... И вдруг меня что-то рвануло, подбросило, я так больно грохнулась спиной о булыжники, что у меня на несколько секунд остановилось дыхание. Я лежала на спине и видела серые облака над крышами, черные провалы между клочьями облаков... Пробегающие по облакам и черноте, белые, дымящиеся клинки прожекторов. А может быть, я увидела все это потом? В кино?
Когда я выздоровела, встала, научилась ходить и впервые синим осенним вечером влезла на крышу нашего с бабушкой домика, легла на теплую дранку и стала смотреть, как все ярче загорается месяц, и звезды четче выступают из темнеющей синевы, восторг овладел мною. Эта величественная картина была живой. Она все время менялась. Между мной и звездами шли облака. А чернота, в которой наливались светом звезды, становилась все бездонней. Она оказалась совсем не бархатной, головокружительно пустой, жуткой и влекла ужасно, как влечет к себе тайна, которую не можешь разгадать. Жаль, я не знала имен звезд, у меня не было карты звездного неба. Но я зато знала, что каждая безымянная для меня звезда имеет свою участь. Она переживает детство, молодость, зрелость и старость, и я пыталась по их цвету и мерцанию определить, какая звезда – дитя, какая – бабушка... Я думала об отце: он знал тайны звезд!
Позже сестры отца рассказали мне, что уже с трех лет он стремился к небу. Звездными вечерами карабкался на деревья, чтобы поближе увидеть звезды. В шесть лет однажды пропал на весь день, вернулся голодный, исцарапанный, но очень гордый: познакомился с летчиком на большом поле за городом, где проходили испытания летательных аппаратов, и публика могла покупать билеты и подниматься в небо. Чтобы зрители не пугались, чтобы убедить их в безопасности аттракциона, летчик поднимался в воздух не один, а с маленьким ребенком – моим отцом. Летчик называл его «сыночком».
С этого дня мой отец стал мечтать о полетах к звездам и частенько рассуждал об этом, потешая взрослых.
У меня есть книга о метеоритах, написанная моим отцом совместно с его товарищем, который стал потом академиком. Книга полна пафоса, свойственного стилю многих книг и статей 20-х годов – это стиль Пролеткульта, Союза воинствующих безбожников – хулиганский пафос – навязывание читателю точки зрения пишущего. Это натиск ниспровергателя, так захваченного страстью ниспровергать, что ему не остается возможности вникнуть в чужую мысль, в чужую идею. Моего отца захватило желание все объяснить просто, доступно, механистично... А в письмах, которые он писал моей маме, отец совсем другой – умный, ясно размышляющий... Куда все это девалось, когда он писал книгу? Темперамент проповедника – атеиста задавил все. В книге доказывается, что в метеоритах нет ничего таинственного, что это – обыкновенные обломки обыкновенных небесных тел. Он с такой страстью утверждал обычность астрономии – такой же ясной сферы человеческих знаний, как химия, биология... С такой страстью, что астрономия становилась... поэзией.