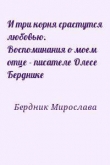Текст книги "Бумажные маки: Повесть о детстве"
Автор книги: Марианна Вехова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
Эх, если бы мне дали костыли! Я бы тоже не побоялась ходить по середине коридора. А без них... Не на что опираться. Нет, не могу...
Я завидовала Тайке, даже под ложечкой сосало. А Тайку ждала тяжелая хромота на всю жизнь...
Уже через месяц я настолько окрепла, что могла разгуливать по палате, не держась за спинки кроваток. Перестала завидовать Тайке. Костыли больше не были для меня предметом мечтаний. И страх перед Тайкой у меня прошел. А она вдруг стала почему-то передо мной заискивать. И, наконец, пообещала показать мне свою тайну, которую никто не знает. Все в палате уже давно говорили об этой тайне, спорили, даже ссорились, пытаясь угадать, что прячет Тайка под одеялом, что она там подолгу разглядывает, накрывшись с головой и сделав маленькую щелку для света. Редкие посвященные почему-то упорно молчали, краснели и даже отворачивались, когда у них пытались что-нибудь выведать самые любопытные Тайкины недруги.
Я уже была отчасти нездешней, меня готовили к выписке. Я должна была уехать к бабушке далеко на Север. Говорили, что там дома из оленьих костей, покрытые шкурами, и живут в них дикие люди, закутанные с головы до ног в оленьи шкуры. Рассказывали эти удивительные вещи самые начитанные, самые авторитетные люди нашей палаты. Им бы тоже хотелось пожить в доме из оленьих костей!
Они смотрели на меня с уважением, и я вырастала в собственных глазах: я еду жить в дом из оленьих костей! Такой дом, покрытый шкурами, должен быть уютным и тихим, как шалаш в том, полузабытом саду в детстве... Только шалаш был под зелеными деревьями, в нем пахло сеном и жужжали шмели. А дом из костей и шкур, наверное, тонет в мягком снегу, и надо плотно закрывать за собой дверь, чтобы на постель не налетели снежинки...
Никто из нас представить себе не мог, что вместо домов, покрытых шкурами, я увижу высоченные заборы, а над ними – колючую проволоку в несколько рядов, зловещих солдат в длинных, словно картонных, тулупах на скрипучих вышках, то ли домиках на курьих ножках – жилищах Кощея, то ли скворечниках для Соловья-разбойника, погубителя мирных людей... Встреченные на дороге, эти солдаты были обычными людьми, отцами ребят из школы, куда я пошла учиться. Зато на вышках они превращались в нечеловеков, даже пробегать мимо вышки было очень страшно: вдруг стрельнут? А дома для просто людей оказались совсем обыкновенными, только низенькими, не как в Москве, но выше, чем в деревне...
Бабушка Женя прислала мне с Севера валенки и носки из кусачей серой шерсти, меховую шапочку и варежки. Нянечка принесла и разобрала при мне посылку. Я долго с наслаждением нюхала каждую вещь. Все они пахли путешествием!
В день моей выписки утром Тайка, почему-то смутившись, позвала меня смотреть «тайну» каким-то странно заискивающим голосом. Оказалось, никакой тайны нет. Обычные сексуальные выдумки. Кое-кто из детей занимался этим, других не захватывало, третьи боялись, потому что все знали: это нехорошие дела, стыдные. Почему нехорошие и стыдные, нам никто не объяснял, но наказывали строго тех, кого заставали за таким развлечением с самим собой. Обычный детский онанизм вырастал в нашем сознании до размеров чудовищного порока. Запретное манило. Все чудовищное интересно как раз своей чудовищностью...
Я тоже попробовала, но не втянулась в исследование тайн собственного тела, потому что меня захватила другая страсть – чтение. Оно поглотило все мое время и все силы воображения. Я так уставала к концу дня, что засыпала сразу, как только гасили свет. И в «тихий час» стала спать. (Здесь «мертвый час» назывался «тихим», чтобы дети не пугались: уснешь и умрешь).
А Тайка с ее темпераментом, независимостью от мнения взрослых, незанятостью ума погрузилась в свои сексуальные переживания всерьез. Ее ничто не отрывало от них. Но новизна впечатлений иссякла и она стала искать партнеров...
Разочарованная, чувствуя себя обманутой, я сбросила Тайкино одеяло с головы и громко сказала, что никакой тайны нет.
Бедная Тайка злобно посмотрела на меня, сузив блестящие от слез глаза, и отвернулась к стенке. Так рухнул ее авторитет.
Вместо торжества я испытывала смущение и тревогу. Мой злейший враг лежал, отвернувшись ото всех, и был он маленькой искалеченной девочкой, которую дома никто не ждал, которой никто не припасал к выписке шерстяных носков и красивой шапочки. Никто не приносил ей гостинцев. Медсестры иногда покупали ей что-нибудь вкусное из своего скудного заработка, и мы, сытые домашними приношениями, уступали ей свой кисель или печенье от полдничного чая...
10
Сестры, няни, воспитательницы, врачи – все прощались со мной ласково, словно я была им родной. А я-то сколько их мучила! Не слушалась, плохо себя вела, «доводила до белого каления»...
Я больше никогда не увижу лицо доктора Ваграма Петровича? Смуглое доброе армянское лицо с мохнатыми седыми бровями... Когда я в первый год на осмотрах вздрагивала и вскрикивала от его прикосновений, он почему-то виновато уговаривал: «Ну, потерпи, дружочек, мне надо узнать, как у тебя идет дело на поправку...»
Так и запомнила его, склоненного надо мною или внимательно разглядывающего рентгеновский снимок, или идущего по палате на обходе, когда его лицо, обращенное к нам, так и светилось лаской. Да, на нас он смотрел совсем не так, как на взрослых из персонала. С ними он был строг и требователен. Но взглянет на больного ребенка, морщины на лбу разглаживаются, даже колючие заросли бровей, кажется, смягчаются, глаза светятся... Для нас, детей, Ваграм Петрович был красивым и очень значительным человеком, значительным во всех отношениях: всемогущим, большим, сильным, умным, все знающим, важным, вызывающим трепет...
Перед обходом каждое утро бегали встревоженные нянечки, все в десятый раз протирали, поправляли, обмахивали, проверяли: Ваграм Петрович требовал от персонала самого лучшего исполнения своих обязанностей. Сестры контролировали нянечек, все ли сделано, как нужно.
В ослепительном, белоснежном халате, высокий (как я потом удивилась, убедившись, что он невысок!), стройный
Ваграм Петрович входил в палату, как король, в белой шапочке на пышных седых кудрях, коротко подстриженных, но завивающихся, как пружинки. Все сверкало к его приходу, и мы лежали, тихие, слегка ошеломленные торжественностью момента. За королем шла почтительная свита...
Лет через десять, студенткой Московского университета, погожим осенним деньком я взяла фотоаппарат и поехала в свой костнотуберкулезный санаторий, чтобы сфотографировать на память доктора Ваграма Петровича.
От станции шла по светлой асфальтовой дороге, залитой солнцем, мимо длинных больничных корпусов. Мне попадались взрослые больные с палочками и на костылях. Бледная девушка с пышными бантами в торчащих косичках-хвостиках, с алым накрашенным ртом на бледно-желтом лице медленно проехала в инвалидной коляске. Она пристально смотрела на меня. Может, соображала – к кому я иду? Вдруг мне все стало казаться нереальным: понурые фигуры в серой больничной одежде среди ярко пылающей осенней листвы на пышущем солнцем асфальте были чужды этому нарядному дню, предназначенному для веселого и легкого праздника на природе... Или день им был чужд потому, что они не радовались ему? Дети умели радоваться и сиять вопреки болезни, они были полны ожидания чуда, поэтому чудо солнца, листвы и ветра принадлежало им во всей полноте. Это я увидела, подходя к знакомой веранде.
Цо еще раз инвалидная коляска проплыла мимо, сверкая колесами, и резал глаза ее облезлый дермантин и смертельная бледность сидящей в ней девушки...
Помню, когда-то я сильно завидовала одной девочке в нашем отделении, которой разрешали ездить в такой коляске, потому что ноги у нее парализовало. Все мы мечтали покататься в инвалидной коляске. Особенно нам нравилось, что нужно самому вертеть колеса, и ехать можно, куда захочешь, даже крутиться на месте! Нам казалось, что так передвигаться гораздо интереснее, чем ходить на ногах. Почему взрослые этого не понимают? Едешь себе, кожаное сиденье приятно поскрипывает, колеса шуршат по дороге. И – все блестит!
Я побежала по тропинке к веранде, окруженной знакомыми липами, тополями и березами. А вот и сам Ваграм Петрович идет между детских кроваток по солнечной дорожке, он сразу узнал меня и улыбается навстречу всем своим маленьким смуглым лицом под белоснежной накрахмаленной шапочкой. Он совсем такой же, как прежде, только поседевшие брови не торчат, а нависли над глазами, как снежная крыша над окошечками домика. Теперь я увидела в его лице и печаль, и заботу, и усталость... А как он стал сутулиться...
Он повел меня по веранде и, показывая больных детей, просил их сфотографировать. Но я поняла, что это он им меня показывает, как я свободно хожу, какая прямая у меня спина. Доктор расхваливал каждого ребенка, сообщал, какие у кого таланты. И я вспомнила, что и меня, маленькую, больную, он, бывало, всегда за что-нибудь хвалил и всегда радостно сообщал мне, как быстро я поправляюсь. Он обещал, что я буду бегать! Как я мечтала пробежать по зеленой траве, что видна с веранды. Она кажется мягкой и теплой, она так и светится на солнце. Когда-то я воображала, что трава похожа на ощупь на шерстку моей игрушечной собачки или на ворс зимнего одеяла, который светился, когда на нем останавливался солнечный луч. Я забыла, какая трава на самом деле. И Ваграм Петрович показывал мне на сияющую траву и говорил, как я по ней побегу: быстро-быстро-быстро... Я представляла себе, как я над ней полечу, слегка касаясь ее верхушек босыми ступнями, чтобы она только щекотала подошвы...
А ведь тогда я вела себя прескверно. Никого не слушалась и доводила самого Ваграма Петровича чуть ли не до сердечного приступа. Например, начну громко петь в «тихий час», когда все только-только, наконец, угомонились. Прибежит нянечка, начнет испуганным шепотом уговаривать, чтобы я перестала, а я еще громче завоплю. Придет медсестра, воспитательница, доктор. У меня сердце от страха готово остановиться, я сама в ужасе от того, что так плохо поступаю и всех раздражаю, но что-то словно несет меня... Властный злой вихрь... И я начинаю все делать назло окружающим. Наконец, меня с моей песней вывозят в коридор. Все в палате украдкой с изумлением наблюдают за происходящим, колесики повизгивают, потолок плывет надо мною, поворачивается, а я ору все песни, какие знаю, подряд. Отделение маленькое, в палатах слышно, что делается в коридоре, особенно в «тихий час», когда все шумы затихли.
Чтобы я всех не переполошила, меня увозили в изолятор, и оставляли одну, закрыв двойные стеклянные двери и еще белую глухую дверь. Мне было страшно. От страха я еще некоторое время бушевала. Умолкала от усталости. Прислушивалась. Стоило мне услышать за дверью шаги или даже шорох, я снова начинала свой концерт, если не засыпала... Самой было неприятно, что смотрят на меня сердито, негодуют, злятся. Я словно испытывала терпение людей: а что вы со мной сделаете? А я все равно не боюсь! Ощущение опасности, ощущение власти опьяняло. Может быть, так брала я реванш за постоянное чувство зависимости от всех, беспомощности, одиночества, боли? Доказывала себе и другим, что я что-то значу и могу? Испытывала свою храбрость? Довести взрослых, здоровых, сильных до того, что они стоят в растерянности, с искаженными от раздражения лицами и не знают, что со мной делать, насладиться своей властью и успокоиться до следующего срыва...
Американский психолог-священник Джон Пауэлл в книге «Почему я боюсь любить?» исследовал состояние умирающих, когда они поняли, что надежды на выздоровление нет. Он определил фазы в их поведении. Вторая, по описанию, очень похожа на то, что было со мной. Тот самый бурный протест: «Я не хочу такой участи! Не могу согласиться!» Это моменты агрессивной ненависти к здоровым, благополучным, остающимся жить... У болеющих тяжело и долго, как я теперь понимаю, тоже бывают такие состояния, и тем, кто ухаживает за больными, надо это знать и готовиться терпеть. Возможно, так перегорает остаток гордыни, и тогда человек принимае свою участь.
Есть и другое объяснение тому злому вихрю, который нес меня, и я не имела сил остановиться, перестать мучить окружающих. Это был тот темный опыт, через который я должна была пройти и познать его. Мне пришлось испытать и другие дурные страсти: злобу, жадность, властолюбие, жестокость... И потом, в период взросления я или с отвращением отвергала знакомое искушение, или застревала в нем, отчетливо сознавая ему цену и зная, что должна его преодолеть...
Тот, кто сам испытал всяческие нелегкие состояния, пройдя через резкие падения и медленные подъемы, через борьбу с капризами и прихотями своего «я», легче поймет других людей, тяжко одолевающих свой путь через грехи и слабости... Возможно, только тот, кто рос в любви, у кого были мудрые воспитатели или могучая интуиция, благодатный дар изначально сильного нравственного чувства, – только такой человек свободен от злых опытов в детстве?..
А что творилось на душе у взрослых, чью жизнь я вдруг ни с того ни с сего начинала отравлять, а они не могли даже отшлепать зловредное существо, потому что существо это было и без того наказано судьбой: жалкое, маленькое, раздавленное болезнью и тяжелыми переживаниями... Во всяком случае, Ваграм Петрович не переставал верить, что я не озлоблюсь, не переставал меня любить и радоваться, что я расту потихоньку, прибавляю в весе, что у меня округлились щеки и пропадает чернота под глазами.
...Вот его кабинет! Когда-то – святилище, куда нас вносила на руках могучая санитарка. Но прошло два года после моей выписки, и мы с бабушкой Женей без всякого трепета переступили порог обыкновеннейшей комнатки, тесной, с прозаичным конторским столом, некрасивыми казенными стульями и белой кушеткой, покрытой простыней.
И коридор, которым мы с ней шли... Неужели это тот самый, таинственный, роскошный, с ковром и пальмой, невероятно широкий и длинный? Это его я боялась пересечь? Это его стены были для меня так далеко раздвинуты, что голова кружилась от одного предложения дойти от стены к стене? Вот эта чахлая пальма в старой кадочке, та самая, что была деревом моей мечты с пушистым стволом и блестящими кожаными листьями. Неужели именно к ней я так стремилась подойти, чтобы потрогать ворс на стволе и поверхность листьев, и готова была совершить неимоверно тяжелый путь по середине ковровой дорожки, колеблющейся под ногами? Дорожка тогда казалась бархатной, ее тоже хотелось потрогать. Из окон, всегда полных неба, света, на алый бархат ложились темные крестообразные отпечатки переплетений рам, в темных местах ворс выглядел гуще и еще колючее, чем на светлых...
Оказывается, пальме не хватает в этом больничном коридоре ни солнца, ни воздуха, она еле жива и похожа на блеклую декорацию. А ковровая дорожка выцвела, полысела.
А от стены к стене-то – не больше четырех шагов!
Зато Ваграм Петрович – еще лучше, чем был в моих воспоминаниях. Что за чудо его лицо! Все в нем светится добротой: кустики бровей, улыбка, глаза, хоть небольшие, но как они умеют вдруг засиять нежностью, печалью, мудростью...
Жаль, что студенческая жизнь с ее суетой и жаждой самовыражения так захватила меня, что я не приезжала больше к этому мудрому человеку, ни о чем его не спрашивала, ничего о себе не рассказывала, и фотографии, хоть и напечатала, так и не привезла ему, они до сих пор лежат у меня в ящике стола...
Когда теперь я проезжаю на электричке мимо станции Яуза, где был наш санаторий, мне хочется сойти. Мысленно я пробегаю по асфальту мимо длинных приземистых корпусов к нашей веранде, к шумящим деревьям (какой это был шелковый, какой свежий, волнующий шум!) и увидеть, как между детских кроваток идет по солнечной дорожке в белоснежном халате, в высокой накрахмаленной шапочке бессмертный Ваграм Петрович с его светлой улыбкой...
11
Когда Ваграм Петрович сообщил моим родственникам, что меня можно готовить к выписке, ко мне приехала бабушка Женя. Она хотела познакомиться со мною и спросить у Ваграма Петровича совета, где лучше мне выздоравливать – на юге, у моря или в средней полосе
России. В зависимости от этого она собиралась выбрать место жительства.
Она приехала в Москву на три дня контрабандой, так как ей запрещен был навсегда въезд в Москву, Ленинград, столицы союзных республик, а также в крупные города. Опасной для больших городов она стала в 1934 году 4 декабря, когда, прочитав в газете об убийстве Кирова, сказала за завтраком моей маме: «Как это страшно – политические убийства! Они всегда тянут за собой множество невинных жертв...» Как в воду глядела! Сама же на следующий день, вернее – в ночь, стала такой жертвой, хотя жила в Москве, а Кирова убили в Ленинграде. Она попала в разнарядку «кировского» набора. Отсидев свои пять лет в лагере, она застряла в Коми из-за войны.
Обвинение бабушки Жени формулировалось как «подозрение в шпионаже». Возникло подозрение по двум причинам: из-за немецкой фамилии Гербст и пятилетнего пребывания в Германии.
Бабушка решилась нарушить запрет и приехала в Москву из-за меня. Она боялась каждого милиционера. Она сильно рисковала.
Ваграм Петрович посоветовал ей не уезжать с Севера, потому что юг мне вреден. И бабушка Женя осталась ради меня добровольно там, где раньше была в заключении.
Она смотрела на меня еще ласковее, чем Ваграм Петрович. Она разглядывала меня с восторгом, и я видела, что ей очень нравятся мои глаза, улыбка, нос, брови– вся я нравлюсь, и все мои слова почему-то приводят ее в состояние блаженства. Она так радовалась каждому моему жесту, каждой гримаске, что я почувствовала себя любимой и больше не одинокой.
Я тогда не догадывалась, что мне повезло, как Золушке, у которой крестная оказалась всемогущей феей. В моей смуглой фее, разглядывающей меня с печальной нежностью, был такой запас душевного тепла, что возле нее можно было отогреваться, как возле хорошей русской печки. Вся моя душа так и потянулась к ней. А она на меня смотрела, как на ларец с драгоценностями, который она было утратила, но вновь неожиданно обрела и не верит своему счастью. Я тогда понятия не имела, сколько ей пришлось перестрадать, пока она получила возможность вот так держать меня за руку и вглядываться, искать в моем лице, мимике, голосе черты своей единственной дочери... Она стала моей второй матерью и до конца своей жизни была мне опорой и радостью.
Не знала я и того, какие отчаянные письма мой отец писал бабушке с фронта: «Заберите ребенка, спасите ради памяти нашей Тамары». Но забрать меня было невозможно. Из-за немецкой фамилии бабушку отправили на лесоповал вместе с другими русскими немцами. Ей удалось чудом застрять в Сыктывкаре, но, подневольная, беспаспортная, бесправная, она никак не могла приехать за мной из Коми в Сибирь...
Я глядела на новую бабушку, неожиданно возникшую из неизвестного мне мира здоровых. Глядела и удивлялась. Под белым халатом, наброшенным на плечи, у бабушки Жени оказалось красивое платье, шелковое, совсем не старушечье. От нее пахло духами. А волосы были уложены блестящими черными волнами. На смуглом лице не видно морщин, носик вздернут, глаза блестят, движения совсем молодые, легкие...
А я-то считала, что бабушки должны быть такими, как бабушка Брайна, – маленькими, сгорбленными, слабенькими, с неуверенной походкой и медленными движениями. Даже мне, привязанной к больничной койке, бабушка Брайна казалась слабей меня. Она так тихо, слабо держала меня за руку... А у бабушки Жени ладонь была крепкая, пальцы – сильные... Из-за того, что бабушка Брайна плохо видела, ее лицо выражало тревогу и беспомощность. Все оно состояло из мелких морщинок. Белоснежная волна волос была собрана в тугую булочку на затылке. Навещая меня, она всегда держала в руках потрепанную сумку, которую торжественно именовала ридикюлем. Честно говоря, этот самый ридикюль был для нее слишком громоздок и тяжел...
У бабушки Жени блестящая сумочка торчала из-под мышки. Она разрешила мне раскрыть сумочку и покопаться в ней. У сумочки оказалась блестящая же внутренность, пахнущая духами. Все, что в ней лежало, тоже пахло духами: белый платочек из тонкой, воздушной ткани с вышивкой в уголке – венок из крошечных розочек. Пенсне в плоском футляре. Я никогда не видела пенсне. Конечно, я попросила бабушку нацепить его на нос и показать, как это выглядит. Я и сама его надела, но ничего не увидела сквозь мутные стекла. Гораздо больше мне понравились блокнотик и карандаш. Их я выпросила себе.
А застежка сумочки сверкала, как золото, и очень громко щелкала.
Когда я наигралась сумочкой, бабушка Женя взяла меня за руку и рассказала, что у меня была мама, звали ее Тамарой, она была добрая, умная и веселая. Когда ей было, как мне сейчас, семь лет, она устроила во дворе театр и показывала представления, а когда научилась хорошо читать и писать, выпускала семейный журнал с картинками. А еще она хорошо вышивала, вязала и шила своим куклам платья.
И бабушка дала мне фотографию девочки с коричневым бантом в волосах. Потом показала мне саму меня в маленьком зеркальце. Я удивилась: у девочки на фотографии точно такое же лицо, как у меня! Только я лежала лысая – меня стригли под машинку.
– Я тоже хочу бантик! – сказала я, ощупывая свою колючую макушку.
– Все у тебя будет,– пообещала бабушка Женя. – И бант, и платье, и блестящие башмачки...
С какой жадностью я разглядывала фотографию своей мамы. Вот она, с большим бантом в волосах, стоит у какой-то белой стены, скрестив тоненькие легкие ноги в коричневых туфельках. Они даже на снимке блестят, совсем новые! Она раскинула руки по белому фону стены – держится за стену или собирается побежать и обнять кого-то? Но смотрит печально, серьезно, как будто знает, что будет с ней, что будет со мной...