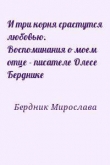Текст книги "Бумажные маки: Повесть о детстве"
Автор книги: Марианна Вехова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
12
Историю ее жизни бабушка Женя рассказывала долгими зимними вечерами на Севере, а потом подарила мне ее письма и дневники и даже школьные тетрадки, исписанные готическим шрифтом, и номера того самого семейного журнала, о котором говорила в больнице при нашем первом свидании.
Я узнала, что моя мама родилась в Москве, а в 1918 году, когда ей было четыре года, ее папу – немецкого подданного интернировали в Германию вместе с семьей. Он, мой дедушка, уезжал смертельно больным и умер через два года от диабета в курортном городе Ростоке, где перед революцией умерла и его мама. Она очень хвалила ростокских врачей. И хоть они не смогли ей 'помочь, мой дедушка надеялся, что его они подлечат. Ведь ему было всего 26 лет...
К его смерти и похоронам бабушка Женя возвращалась постоянно. Она его очень любила и после его смерти осталась одна с ребенком в чужой стране.
Бабушка мне рассказывала, как гроб с телом ее любимого мужа стоял в маленькой лютеранской часовне. Горели свечи. Пастор в черной одежде тихо и непонятно что-то говорил. Мой двадцатишестилетний дедушка лежал, свободно вытянув руки вдоль тела и повернув набок бледное спокойное лицо, словно прислушивался к словам пастора, закрыв глаза. Моя пятилетняя мама держала бабушку за палец и шепотом спрашивала:
– А ты положила папочке очки в нагрудный карман? А то он у нас слепенький и не увидит нас с неба...
Внезапно овдовевшая бабушка Женя старалась не плакать, чтобы не испугать девочку.
Я без конца упрашивала бабушку Женю еще что-нибудь рассказать о детстве моей мамы. Мне все было интересно, я готова была помногу раз выслушивать одни и те же рассказы, вглядываться в фотографии, готические упражнения в тетрадях по чистописанию, вчитываться в письма, записочки и дневники. Мне хотелось сложить личность мамы из осколков, чтобы их грани чудесным образом совпали. Конечно, такое заочное узнавание собственной матери совсем непохоже на постепенное узнавание в течение совместной жизни. Но ее бумаги и фотографии были всегда со мною, я росла и все перечитывала, по-новому всматривалась, и в конце концов оказалось, что моя давно умершая мама воспитывала мои чувства, направляла мысли, показывала свое отношение к людям, событиям и к себе... Я училась и на ее ошибках...
Моя мама хорошо знала эту радость – жить. Когда ей было 14 лет, она в дневнике писала: «Все так красиво, чудно! Смех, воздух, воля! Долой шубы, долой последние остатки зимы! Весна! Так приятно ехать в школу, когда в трамвае открыты окна, тепло, весело... В школе уютно и тоже солнечно, светло. Вот звонок. Входит Вася. Что-то говорит, спрашивает, кто-то отвечает. Но я ничего не вижу, не соображаю, только чувствую что-то розовое, светлое, прекрасное. Это солнце, весна! Вот муха ползет по подоконнику, сонная, жужжа расправляет крылья после долгой сердитой зимы. И она чувствует весну, рада ей, наслаждается солнцем, счастьем, собираясь с головой окунуться в это море тепла...»
То же – в девятнадцать лет в письме моему будущему отцу: «Как все прекрасно! Какая изумительная жизнь! Как мне нравится жить и чувствовать, что живу. Может ли быть что-либо поразительней и логичней, чем связь маленького электрона, необъятной Вселенной и меня? Разве не изумительно, что ты такой же, как и я? Что ты видишь то же, что и я, так же желаешь и чувствуешь? И несмотря на это, веруешь иначе, чем я? И сознаешь себя иначе?..»
Для меня удивительно, что моя мама так владеет русским языком в 19 лет, хотя в 11 она почти не говорила по-русски и в первые месяцы после возвращения из Германии мучительно стеснялась своего русского. Она не хотела ходить в булочную за хлебом, потому что не могла произнести: «булка». У нее получалось: «пулька».
А в мясном магазине она как-то стояла у прилавка и повторяла про себя: «Мне нужна мякоть», – а когда подошла ее очередь и мясник спросил: «Что тебе, девочка?», – она смутилась, растерялась, забыла все слова и пролепетала: «Мятиги...»
«Что? Что?» – изумился продавец. Тогда она выпалила знакомое: «Что-нибудь!»
А вот из писем, когда ей было девятнадцать:
«... нос Бэма (такое прозвище было у моего отца, составленное из первых букв его имени и фамилии) высунулся из отверстия спального мешка. Утро его ущипнуло, он быстро покраснел и спрятался обратно. Через несколько минут мешок пришел в движение. Пыхтя и кряхтя, он выплюнул сначала ногу, а потом и всего Бэма. Очень часто внешность не соответствует внутреннему содержанию. То, что внутри соответствовало Бэму, внешне имело вид беспорядочного моточка кофт, телогреек, шарфов. Моточек быстро притоптывал, выплясывая затейливый краковяк и махая руками.
Из пяти мешков вылупились еще пять моточков, изумительно похожих друг на друга, машущих и притоптывающих». <...>
«Гигантский камень выступает далеко в Тиберду. Тиберда с грохотом бросает в него свои валы, стараясь унести с собой вниз, но он стоит упорно, угрюмо и только слегка дрожит. Волны, изредка заливают его. Они, вероятно, заливают его уже много сотен лет, потому что поверхность у него гладкая. Несокрушимый камень попал в тяжелые условия! Кругом рев, грохот, свист, бег потоков, пляска валов. <...> Какая бешеная энергия разбивается о него! А он стоит неподвижно, и чудится какая-то усмешка в его устойчивой и спокойной позе. <...>
Бэм подошел неслышно. Всунул мне в рот печенье и мигом прогнал созерцательное настроение. Может, стоило надуться? Но совокупность многих причин заставила меня передумать. Печенье было не из плохих, утро – не из ранних, а вид Бэма – чересчур комичен. Несколько оболочек он уже успел скинуть, остался в рваной ватной телогрейке, придававшей ему чрезвычайно хулиганский вид. Подбородок зарос щетиной, волосы взъерошены, очки съехали на кончик носа...»
А вот отрывок из письма отцу в экспедицию из Москвы. Он был еще там, в Тиберде, а она уже дома:
«В Торгсине открылся комиссионный магазин. Я зашла побродить и увидела изумительный заграничный вольтметрик. Не вольтметрик – а сказочку! Я его сразу «заобожала». У него шкала красная, желтая и синяя, и весь он – прелесть. Захотела купить, а он знал свою цену: 12 р. 30 коп.! Я так страдала!»
Мой отец всем существом любил ее – она стала половиной его души...
Каким был он, мой отец? Моя девятнадцатилетняя мама описывала его так:
«Я в экспедиции, состою сотрудником в гравиметрической партии. Нас шестеро. Бэм – начальник... Бэму 24 года. Он невысокого роста. Смугл, точно кофеинка. Черные волосы, черные глаза, глаза довольно красивые, если бы не были прикрыты окошками огромнейших роговых очков. Те же очки несколько сглаживают чрезмерную живость нашего начальника, придавая ему оттенок некоторой степенности. А Бэм очень жив и вспыльчив. При разговоре живет все его лицо, живут руки и вся фигура, и кажется, точно даже волосы и очки принимают то или иное выражением.
Их жизнь была полна увлекательных совместных трудов, идей, они жили одним... Мама тоже была астрономом. У нее были большие способности к математике, она увлекалась астрономическими вычислениями, об этом много говорится в ее письмах. Познакомились они в экспедиции, когда ездили наблюдать метеоритный дождь...
Она написала бабушке в лагерь, как они с моим отцом вели съемку полного солнечного затмения в 1936 году в казахской степи на станции Верблюжьей:
^Утром 18 июля стали подыскивать место для установки приборов. Лазили на высоченную водокачку, но там оказалась чересчур крутая крыша. С нами же лазил целый ряд старичков, которые тоже приехали на Верблюжью наблюдать. Впрочем, старички – не астрономы, а доценты и профессоры других специальностей.
Местность – степь-степь-степь совершенно лысая. Станция – малюсенькая: пара домиков всего и юрты казахов. Нам, конечно, страшно обрадовались. А мы – ладили, клеили. <...>
Легли спать часа в два. Наконец наступило утро 19 июня. Уже с четырех часов мы были на ногах, волновались, подготавливались.
Бэм заряжал приборы пленками и пластинками. Когда на диске солнца съелся маленький кусочек справа, мы уже были в степи у приборов – человек около 50. Я работала на специально сконструированном нами с Бэм-кой приборе для определения цвета неба в различных частях (такая работа еще не проводилась и очень интересна). Когда от солнца остался только серп, стали заметны изменения в природе – тени стали резче, птицы начали умолкать и приготавливаться ко сну. Солнце становилось все уже, и в тот момент, когда оно совсем закрылось и вспыхнула яркая корона, все мгновенно и сказочно преобразилось: темно-темно-синее небо, яркие звезды, кругом на всем горизонте феерично-тонкие зори, а на небе вместо солнца – черный диск, окруженный жемчужным сиянием короны, на фоне которой особенно резко выделялись четыре громадных красных огненных языка – протуберанцы солнца.
Было абсолютно тихо. Люди от чересчур сильного впечатления умолкли, птицы, козявки улеглись спать. Только слышно было тиканье часов. Немного погодя стадо коров с ревом бросилось по хлевам. Весь этот сказочный вид, я думаю, забыть невозможно. Но только две с половиной минуты продолжалось это. Через 95 секунд тень Луны, несшаяся со скоростью пули по Земле, успела перейти в другое место. Когда в обратном порядке прошли все фазы покрытия, мы побежали к радио послушать о затмении из других мест. Затем послали телеграмму в "Известия"».
Ей оставалось жить год... Письмо о затмении заканчивалось так:
«Самое позднее через два с половиной месяца приеду к тебе! Напиши, что тебе привезти из вкусных вещей и подарочков, что тебе хочется?»
Пришло письмо в лагерь в Усть-Ухте, где бабушка Женя оказалась в 1936 году.
Бабушке повезло: она любила учиться и у нее была стопка дипломов – об окончании курсов машинописи, английского языка, бухгалтерии... Знание счетной работы ее и спасло: как только она приходила на этап или в лагерь, ее тут же вызывали к начальству и сажали в бухгалтерию. Там хоть и работали по 12-14 часов, зато в тепле, сидя на стуле, жили не в общих бараках, а в отдельном помещении или даже на квартирах у крестьян. В Усть-Ухте контора была не в лагере, а в деревне, и жили конторские в деревенских домах.
Первый раз съездить к бабушке в лагерь моей маме удалось в 1935 году. Бабушка описала мне их встречу:
«В Устъ-Выми медицинская комиссия меня забраковала: «порок сердцам. Из 2-3 сотен отобрали нас человек 12 слабых для этапа. Повели по песчаной дороге по лесу 15 км, дорога шла вверх. На горе мы увидели красивейший монастырь. Меня, конечно, сразу – в бухгалтерию. Назначают главным бухгалтером. Мне неловко, там уже сидят человек, пять пожилых мужчин. Все гораздо старше меня. Наверное, опытные работники... Оказалось – слабенькие счетоводы, а работа сложная. До 12 часов ночи, до часу работаешь. <...>
В июле однажды возчик, который ездил в Усть-Вымь в продуктовые склады, сунул мне потихоньку поздно вечером записку: «Мы в Устъ-Выми. Можно ли тебя увидеть?» Я с этим же возчиком послала записку: «Приезжайте с этой подводой». А сама пошла к секретарю начальника Лафаки-греку. Он был молодой, не злой. Но все равно сердце у меня ушло в пятки... Я ему рассказываю: «Дочка приехала. Можно повидать?» Он пошел доложить начальнику. Я жду ни жива ни мертва. Он выходит, машет рукой: «Разрешил начальник свидание на три дня».
А твои мама с папой прожили со мной 8 дней! Я работала, как всегда, но товарищи выручали: отпускали пораньше, делали за меня часть работы. У нас была среди заключенных настоящая взаимовыручка. Больше никогда не складывались на моей памяти такие братские отношения в коллективе, как в монастыре в Кылтово... »
Потом – лагерь в Усть-Ухте, где было их последнее свидание. Прощаясь, моя мама обещала в следующий раз приехать втроем. Она не подозревала, что на нее надвигается ее собственное солнечное затмение, только без жемчужной короны.
В конце мая 1937 года она писала своей маме:
«Дорогая моя, любименькая! <...> Это письмо придет к тебе вероятно вместе с телеграммой о Таточке (она была уверена, что у нее родится девочка, и называла меня заранее своим детским именем). Совсем забегалась. Такая куча хозяйственных дел! Сегодня я совсем одна.
Бэм уехал с утра в один городишко читать лекцию, вернется завтра утром, и прямо с поезда на работу. Завтра вечером у него снова лекция в Измайлове, так что увижу его лишь в 12 ночи! Он очень много работает. Теперь еще устроился консультантом по высшей математике и физике в Тургеневской библиотеке. Это – два раза в шестидневку и дает рублей 200. Так что у нас финансы более или менее ничего, во всяком случае, наконец-то стало хватать на питание. Я такая рассудительная стала: все записываю, даже ты так не умеешь!!! Но все-таки всюду хвостики торчат... Я теперь лодырничаю. Читаю много по-английски, немножко занимаюсь физикой и пишу статьи – вот и все. Да, сшила я на мебель белые чехлы, очень хорошо вышло, теперь хочу их вышить крестиком, и рисунок подобрала, да ниток нигде нет...»
13
Когда она разглядывала меня в роддоме и радовалась, что у нее появилась дочка, она не знала, что у моего отца уже лежала в кармане бумага из Куйбышевского РО УГБ НКВД о высылке ее из Москвы в Сибирь: «Основание применения репрессии по политическим, мотивам в административном порядке осуждение ее матери Гербст Евгении Кузьминичны 1 апреля 1935 года Особым Совещанием при НКВД СССР по ст. 58 УК к 5 годам лишения свободы, за подозрение в шпионской деятельности».
Он, получив эту бумагу, бросился на Лубянку и добился, чтобы высылку отложили на три недели после выписки из роддома... Что у него было на душе? Как ему удавалось скрыть тревогу, чтобы не омрачить ей праздника возвращения домой?
Она, конечно, ничего не подозревала. Вот письмо уже из дома:
«Здравствуй, маленькая «большая мама»! Сегодня маленькой Таточке исполнилось десять дней... Она необыкновенно хорошенькая, все удивляются, даже говорят, что таких красивых младенцев не видели. Даже советуют дать телеграмму: «Дочь – красавица!^ У нее очень длинные волосики, темно-золотистые (я пришлю в письме), большие, пока серые глазки, ротик бантиком, красный-красный. Цвет лица очень красивый. Жду ответа на телеграмму, не знаю, как назвать Таточку, не Женичкой ли? А то уже пора ее регистрировать...»
Вторая бумага о высылке, уже и моей тоже, пришла через 15 дней, когда мне стукнуло 25 дней.
Моя мама заболела малярией с температурой 40, с ознобами и слабостью. Это в центре Москвы, летом... Я прочла в терапевтическом справочнике, что это – симптомы сепсиса от недобросовестной работы акушера...
Но болезнь не освобождала от высылки.
В таком состоянии – поспешные сборы! Папа уволился со всех своих работ, он даже на минуту не мог себе представить, что высылка его не касается, что он вправе устраниться... Пока он в глазах власти не был «социально опасен», он мог оставить «опасную» жену...
Он ее очень любил. Вот когда любовь стала – к гибели! Самая главная ценность жизни превратилась в угрозу жизни. Надежда Яковлевна Мандельштам, которая на себе сполна испытала все это, пришла к выводу: «... в нашей жизни лучше было не иметь привязанностей... У одинокого гораздо труднее расшатать психику, и ему гораздо легче сосредоточиться на собственных интересах и вести систематическую оборону». А мой отец писал маме: «Я живу для тебя, дышу для тебя. Возьми мое я – оно твое».
Мне очень дороги эти признания, они согревают и меня столько лет, как согревали сердце моей матери в те счастливые для нее дни, когда они были написаны... Эта любовь дала мне жизнь, но она же делала моих родителей абсолютно беззащитными перед занесенным над их головами топором системы.
Мои родители искренне хотели строить социализм. Верили, что наука должна служить идее. И вот теперь ехали в ссылку...
Никогда я не могла даже предположить, что придет такое время, когда я смогу взять в руки «Дело» моей мамы и прочесть все бумаги в стандартной канцелярской картонной папке... Прочесть и переписать ее лихорадочное, безумное, наивное письмо-мольбу отсрочить высылку, заменить Сибирь глухой деревней, где живут родственники...
Начальнику УГБ МО НКВД
Куйбышевского района
от Гербст Т. А. и ее мужа Машбиц Б.М.,
прожив. по Сверчкову пер., д. 10, кв.10
ЗАЯВЛЕНИЕ
Мне, Гербст Т.А., сегодня было предложено выехать в 5-ти дневный срок в г. Омск. Против самого выезда совершенно не возражаю. Обращаюсь к Вам лишь с большой просьбой разрешить мне выехать теперь же на 1-2 мес. (до 10-30 авг.) в деревню Курской области (40 км. от Ельца). Эта просьба вызвана действительной безвыходностью моего положения: 5/У1 у меня родился ребенок. Я сама не оправилась от родов. Благодаря невыясненному пока, по-видимому, родовому осложнению, у меня повышена температура, почти ежедневно 38-40 градусов. Я настолько слаба, что с трудом встаю с постели. <...> Я даже не представляю себе, как я физически могу поехать одна с 3-х недельным ребенком в чужой город без средств к существованию (я нахожусь на иждивении мужа). Муж сможет выехать, лишь ликвидировав предварительно свои служебные и пр. дела. Отказ мне в просьбе вызовет гибель ребенка. У меня от слабости и волнений резко уменьшилось количество молока. <..->
Б деревне Мещерско-Волынское на Лесостепной станции (Курская область) я сумею поправиться, т.к. там живут мои родственники, которые возьмут на себя уход за ребенком и за мной. <...>
Настоятельно прошу Вас выполнить мою просьбу. Вы мне верьте, что она вызвана действительно безвыходным положением и что Ваш отказ для меня равносилен гибели, а также гибели ребенка.
Я, Гербст ТА., и мой муж Машбиц Б.М. согласны взять любое обязательство о нашем выезде в г. Омск после предоставленного мне Вами отпуска – фактически, декретного.
<...> О моем лихорадочном состоянии известно районному врачу Чистопрудной районной поликлиники тов. Шульц, которая меня осматривала. Еще обращаю Ваше внимание на то, что мне нельзя лечиться никакими лекарствами, т.к. они переходят в молоко и приносят вред ребенку. Единственным методом лечения меня являются отдых и уход.
Глубоко надеюсь на то, что Вы поймете мое положение, что не откажете мне в этой просьбе и дадите мне и ребенку возможность жить. Надеюсь, что не задержите ответа, т.к. каждый день пребывания в Москве, а также ожидание ответа вызывают все больший упадок сил.
21/VI 37 г.
Гербст. Муж ее Б. Машбиц.
Внизу письма – другим почерком:
РЕЗОЛЮЦИЯ:
«По рассмотрению т. Леденса предложить выехать в Омск.
4/VI-37 г.
Леденс».
Даже по почерку и по стилю письма видно, какое безнадежное отчаяние ею владело. И какой-то Леденс решил нашу судьбу.
Много раз я вместе с папой мысленно шла с этим письмом сначала со Сверчкова переулка на Лубянку, потом – обратно. Я чувствовала за него – как дома и булыжники мостовой, и трамвай, ползущий мимо, – все стало сразу чужим, жизнью, из которой он был изъят, может быть – навсегда.
Словно взяли и палкой перебили костяк жизни. Все разбито. И хочется бежать от опасности, спрятать любимых, беззащитных...
Как жаль, что у них не хватило духу бежать, жаль, что они были такие законопослушные... Можно было вызвать «Скорую» и положить нас в больницу, можно было потихоньку уехать в деревню, кто стал бы искать?
Такое отчаянное письмо... Мольба к бетонной стене, у которой расстреливают всех подряд, не разбирая возраста, пола, вины...
Я горевала над этим письмом, пока не поняла, что Бог – милостив. Он – не «тов. Леденс», Он видел, что творится в сердце несчастной женщины и жалел ее. И простил ей все. Даже то, что за этим письмом последовало... Он ее пожалел и принял, я в этом уверена.
Конечно, я пыталась представить себе, как они добирались до места ссылки. В Омске, в большом и благоустроенном городе, их никто оставлять не собирался. Им было предписано следовать в маленький городок Тару, а оттуда... Бог знает дальше куда. О подобном мучительном пути я прочла у Н.Я. Мандельштам. Только мои родители были не вдвоем, а с грудным младенцем. Ехали они гораздо дальше места мандельштамовской ссылки – Чердыни...
Для моей двадцатитрехлетней мамы испытание оказалось не по силам. Высокая температура по вечерам, изнурительная лихорадка, ей ведь поставили диагноз «малярия», слабость после лихорадки такая, что трудно поднять руку, трудно сжать пальцами чайную ложку. Я знаю, что такое малярия. А тут еще полная безнадежность, чужой холодный городишко, нет жилья, работы, в магазинах – пустые полки.
Грудной ребенок – это забота о пеленках, кормлении, о сне... А какая пытка – каждая кормежка младенца, когда вся грудь в трещинах, распухает и гноится и даже прикосновение рубашки к ней так болезненно, что трудно удержаться от стона. В дороге не уберечься от инфекции. Так моя мама мучилась со мною в прокуренном вагоне и на палубе грязного суденышка на глазах чужих людей и терзающегося собственным бессилием мужа.
После тяжелейшей дороги, которая длилась почти месяц и вымотала все силы, – вот он, город Тара. Место ссылки.
Наверняка все было там похоже на манделъштамовскую Чердынь: «жилищный кризис, и ссыльные ютились по углам...» Каждые три дня – отмечаться у коменданта: ставить печать на бумажке, которая заменила все документы. Комендант наверняка из той же когорты, что ставил печать на бумажку, выданную Осипу Эмильевичу Мандельштаму: «Это был человек гражданской войны... Он всегда прислушивался к своему классовому чутью... а это к добру не приводило, ведь никогда не угадаешь, на что оно толкнет...»
Каково моей больной матери было стоять в этих очередях к коменданту, которые выстраивались раз в три дня у конторы, где властитель судеб решал в соответствии с указаниями классового чутья, кому жить, кому умереть.
Эта очередь, где все говорят шепотом, все подавлены и измучены тяжелым бытом, неизвестностью, нищетой... И – неприязненные взгляды проходящих мимо местных жителей, которым не нравится это скопление лишних ртов в их бедном городишке. Наверняка – всякие реплики, может быть, и угрозы...
Чердынские ссыльные – знакомцы Мандельштамов поставили перед собою цель: «сохранить человеческое достоинство» .
Однако Надежда Яковлевна и Осип Эмильевич оставляли за собой и право ускользнуть от своих мучителей в ...«самоубийство»: «Мысль об этом последнем исходе всю жизнь утешала и успокаивала меня...»
И эта же мысль все больше овладевала моей мамой. Ей казалось – это выход! Для нее он был тем привлекательней, что она хотела спасти моего отца и меня от тягот своей участи. Она думала, что она – тот камень, который тянет на дно всю семью... Ее любовь и ее гордость восставали против жалкой участи в дремучем захолустье такого талантливого ученого, каким был мой отец. Она видела, что он здесь надорвется, пытаясь прокормить нас с нею, будет страдать и гибнуть. Любое бремя он был готов взвалить на свои плечи ради нее, а она не могла принять такую жертву.
Прежде чем окончательно решиться, она упрашивала его оставить ее одну в ссылке и уехать с ребенком, пока тепло и не начались дожди и холодные ветры. Он писал об этом дяде Ване, ее дяде, доброму, религиозному человеку:
«Оставить ее? Я ее люблю больше жизни. И не могу так подло поступить...»
Она послала моего отца на почту – посмотреть, нет ли письма или телеграммы от бабушки Жени или дяди Вани. Он боялся оставить ее, потому что она была на себя не похожа: то металась и плакала, то замыкалась в себе, молча сидела у окна, за которым куры ходили по мокрому огороду. Но она стала так надрывно плакать: «Там пришла телеграмма, я это чувствую», – что он смирился, пошел на почту, а с полдороги повернул назад, побежал, – очень уж страшно и тяжко ему стало. Он ворвался в дверь номера и увидел, что она мертва. В поспешной записке, которая была приколота к моему одеялу, он прочем:
«Срочно вернись с ребенком в Москву. Когда мама освободится, отдай ей ребенка. Работай. Женись. Живи!»
В самом начале всего этого ужаса она словно была на грани помешательства. Не могла ни на минуту оставаться одна... А потом вдруг успокаивалась. Но все о чем-то размышляла и молчала. Может быть, вспоминала одну свою давнюю, почти детскую идею:
«Я люблю жизнь. Странная и непонятная, она безмерно хороша... Я люблю еще жизнь потому, что не боюсь ее. Она мне подвластна, не я ей. В любой миг, когда захочу, смогу прекратить жить. Я не боюсь смерти, а потому люблю жизнь. Мне интересна смерть. Я хочу знать ее, быть может, узнаю что-либо через нее... »
Потом он написал из Тары, как все случилось:
«Состояние Тамары еще ухудшилось только что перенесенной малярией с температурой 40. Последний удар – этот отъезд. Психиатр признал у нее пограничное состояние шизофрении. Во время сборов состояние было...» – письмо он не смог закончить.
Шизофрения... Наивный московский психиатр! Мандельштамам в Чердыни попалась врачиха, лучше понимавшая, в чем дело. Она дала Надежде Яковлевне добрый и очень разумный совет – не показывать Осипа Эмильевича, который вдруг «сошел с ума», психиатрам и не отдавать его ни в какое лечебное учреждение. Надежда Яковлевна замечает: «Этот совет я приняла и хорошо сделала: «это» – у них действительно проходит... Но я бы хотела знать, как «это» называется в медицине, почему оно поражает такое количество подследственных...»
Не только подследственных «это» поражало, ссылаемых тоже.
Трезвая, не поддающаяся иллюзиям, Надежда Яковлевна задает вопрос: «Где же проходит в такие эпохи, как наша, грань между психической нормой и болезнью?» Опытные ссыльные объяснили: «Беспокоиться однако не надо: «это» – проходит бесследно... Длится болезнь от двух до трех месяцев. Главное – внутренняя дисциплина: нельзя заглядывать в будущее – ничего хорошего не сулит... Ничего не ждать и быть ко всему готовым. В этом секрет равновесия».
У Надежды Яковлевны, вспомним, был в запасе еще один секрет равновесия: «Странно, что все мы, безумные и нормальные, никогда не расстаемся с этой надеждой: самоубийство – это тот ресурс, который мы держим про запас, и почему-то верим, что никогда не поздно к нему прибегнуть...»
У того, кто убивает себя, есть иллюзия, что он нашел выход. Но удар обрушивается на близких.
Один священник с большим духовным опытом сказал мне, что он воспринимает самоубийство, как падение в пропасть мчавшегося на полной скорости автомобиля. Погибает не только водитель. Погибают или калечатся те, кто оказался рядом: близкие...
Бабушка Женя чуть не умерла от горя. Я записала ее рассказ:
«Я послала ей посылочку: кофточку вышитую, она так любила вышитые мною кофточки. Еще что-то из вещей, такой ящичек... Твой папа писал, что устроился там на какую-то работу временную, комнату сняли...
Однажды я сижу, работаю, приносит секретарь почту, я ее всегда сама разбирала и раздавала, и среди казенных писем лежала телеграмма, ее секретарь засунул подальше, чтобы я не сразу увидела. Он дал пачку и ушел быстро.
И вдруг я прочла эту телеграмму. У меня в глазах потемнело. Я не знаю, что со мною было. Только сказала начальнику:
– Отпустите меня. Я не могу работать.
Меня сразу отпустили. Я пришла домой, легла. Главное, сделать ничего не могу. Ни поехать, ни похоронить, ни тебя забрать. Если бы не догадался твой папа написать в телеграмме: «Завещала тебе свою дочь», я бы не осталась жить. Зачем?»