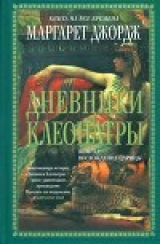
Текст книги "Дневники Клеопатры. Восхождение царицы"
Автор книги: Маргарет Джордж
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]

Маргарет Джордж
Дневники Клеопатры
Восхождение царицы
Клеопатре, царице, богине, ученой, воительнице (69–30 гг. до н. э.)
Элисон, моей Клеопатре Селене
Полу, соединившему в себе Цезаря, Антония и особенно Олимпия
Тебе, о Исида, мать моя, мстительница, сострадательная спутница и защитница во все дни моей жизни от начала и до того часа, когда ты пожелаешь узреть их конец, посвящаю я сию хронику своего земного пути. Тебе, даровавшей мне саму возможность писать, хранившей и оберегавшей написанное и взиравшей на меня, дочь твою, со снисходительным благоволением. Ибо ты подарила мне жизнь, я же, следуя твоей воле, придала этим дням форму и наполнила их своими деяниями. Ныне представляю их на суд твой – истинно и без измышлений. Суди меня, богиня, по делам рук моих и по сокровенным помыслам. Да будет тебе ведомо не только явленное миру, но и сокрытое глубоко в сердце.
Покорно и с надеждой вверяю я свои записи попечению твоему, молю тебя оберегать их и не позволить недругам стереть судьбу и дела дщери твоей из людской памяти.
Я седьмая Клеопатра из царствующего дома Птолемеев, царица, Владычица Обеих Земель; Tea Филопатор – богиня, любящая отца своего; Tea Неотреа – младшая богиня; дочь Птолемея Неос Дионис – Диониса Нового.
Я мать Птолемея Цезаря, Александра Гелиоса, Клеопатры Селены и Птолемея Филадельфа.
Я была женой Гая Юлия Цезаря и женой Марка Антония.
Молю тебя, о богиня, даровать твое покровительство сим письменам, дабы слова мои дошли до потомков.
Благодарности
Моему редактору Хоупу Деллону, с пониманием и юмором помогающему мне лепить из глины первых набросков готовые работы; моему отцу Скотту Джорджу, познакомившему меня с «принципом девяносто девяти солдат»; моей сестре Розмари Джордж, обладающей всей жизнерадостностью Антония; Линн Кортни – за терпеливое изучение классических источников в поисках самых лакомых кусочков; Бобу Фибелу, с чьей помощью я заново выиграла битву при Актии; Эрику Грею – за разъяснение загадок латинского языка (все оставшиеся ошибки – мои); и, наконец, нашему старому домашнему змею по имени Юлий, который шестнадцать лет учит меня тому, что такое путь змей.
Первый свиток
Глава 1
Тепло. Ветер. Танцующие голубые воды, плеск волн. Я вижу, слышу, ощущаю их в блаженном спокойствии. Ощущаю даже легкий привкус соли на губах там, где на них попали мельчайшие брызги. А еще ближе чувствую обволакивающий, убаюкивающий запах матери – она прижимает меня к груди и своей ладонью прикрывает мои глаза от солнца. Лодка мягко колеблется, а мать баюкает меня, так что я покачиваюсь в двойном ритме. Это навевает сон, а плеск воды вокруг словно оборачивает мой слух мягким успокаивающим одеялом. И вся я окружена заботой, любовью, лаской. Я помню. Я помню.
А потом… Воспоминание разорвано, перевернуто так же, как перевернулась лодка. Моя мать исчезла, а я барахтаюсь в воздухе, подхваченная чужими грубыми руками. Они схватили детское тельце так крепко, что мне трудно дышать. И плеск – совсем другой, страшный… Я до сих пор слышу этот всплеск и краткие удивленные крики.
Говорят, что я никак не могу этого помнить – мне не было и трех лет, когда мать утонула в гавани.
– Ужасный несчастный случай, да еще и в такой спокойный день, как это вообще могло случиться? Может, лодку повредили? Или кто-нибудь толкнул?.. Да нет, просто она попыталась встать, поскользнулась, потеряла равновесие и упала в воду, а плавать-то она не умела, но мы тогда об этом не знали. Когда узнали, было слишком поздно. Почему же она так часто выходила в море? Так ведь она любила все это, душенька, бедная царица, любила эти цвета и звуки…
Тогдашний ужас словно заключен в ярко-голубой шар: всплеск, брызги, истошные вопли служанок на борту лодки. Говорят, кто-то прыгнул в воду, чтобы помочь царице, и неудачливого спасателя затянуло под днище следом за ней. Вместо одной жизни потеряны две. А еще говорят, будто я верещала, билась, норовила броситься за матерью – и бросилась бы, когда бы не сильные руки няньки, успевшей схватить меня.
Я помню, как меня уложили на спину и удерживали в этом положении так, что я видела лишь внутреннюю сторону балдахина. На ней отражалась блестящая голубизна воды, а я никак не могла освободиться от хватки чужих рук.
Испуганного ребенка следовало бы успокоить, но они и не пытались. Все были слишком озабочены тем, чтобы не дать мне вырваться. Они уверяют, будто и этого я не могу помнить, но я помню. Помню себя вырванной из материнских рук, выставленной напоказ, распластанной в наготе на скамье прогулочной ладьи. Меня держали сильные руки, в то время как суденышко спешило к берегу.
Несколько дней спустя меня перенесли в большую гулкую комнату. Свет, кажется, лился туда со всех сторон, и так же со всех сторон веял ветер. Это комната внутри здания, но мне кажется, будто я нахожусь под открытым небом, ибо это особое помещение предназначено не для человека, а для божества: храм Исиды. Нянька подводит меня – а точнее, чуть ли не волочит за собой – по блестящему каменному полу к огромной статуе.
Постамент настолько велик, что мне трудно разглядеть само изваяние. Я вижу лишь две белые ступни и нечто, вздымающееся ввысь. Лицо теряется в тени.
– Положи цветы к ее ногам, – говорит нянька и дергает меня за руку, сжимающую букетик.
Мне жалко расставаться с цветочками и совсем не хочется куда-то их класть.
– Это Исида, – тихо говорит нянька. – Посмотри на ее лицо. Она смотрит на тебя. Она позаботится о тебе. Теперь она – твоя мать.
Неужели? Я пытаюсь рассмотреть лицо, но оно так высоко и далеко от меня. И оно совсем не похоже на лицо моей мамы.
– Отдай ей цветы, – подсказывает нянька.
Я медленно поднимаю руку и возлагаю свой маленький дар на краешек пьедестала, куда могу дотянуться. Потом смотрю вверх – в надежде увидеть, как статуя улыбается.
И воображаю себе эту улыбку.
Так, Исида, я стала твоей дочерью в тот день.
Глава 2
Мою покойную мать-царицу звали Клеопатрой, и я с гордостью ношу ее имя. Но я гордилась бы им в любом случае, ибо для истории нашей семьи это воистину великое имя, восходящее к сестре Александра Великого, с кем мы, Птолемеи, в родстве. Оно означает «Слава ее предкам». Я жила и царствовала, стараясь следовать этому завету. Все, что совершено мною, делалось ради сохранения наследия предков, ради Египта.
Все женщины в нашем роду носили имена Клеопатра, Береника или Арсиноя. Эти имена тоже из Македонии, откуда происходит наша семья. Моих старших сестер звали Клеопатра (нас было двое) и Береника, а младшую – Арсиноя.
Младшая сестра… Да, после меня родились и другие дети. Царю нужна супруга, и вскоре после безвременной кончины царицы Клеопатры отец взял новую жену, а та вскоре произвела на свет Арсиною. Позднее она родила еще двух сыновей («в браке» с ними я недолгое время состояла), а затем умерла, снова оставив отца вдовцом. Больше он жениться не стал.
Я не испытывала особой любви ни к новой жене отца, ни к сестрице Арсиное – младше меня на три с небольшим года. С самого раннего детства ее отличали скрытность и лживость, к тому же она росла плаксой и ябедой. Правда, выглядела Арсиноя прелестно. При виде таких детей взрослые искренне восклицают: «Ах, какие дивные глазки!» Это с колыбели придавало ей высокомерия. Она рассматривала красоту не как благословение, которое нужно ценить, но как силу, которую нужно использовать.
Клеопатра была старше меня лет на десять, а Береника – на восемь. Сестрам повезло – они прожили с мамой намного дольше меня; однако они вовсе не чувствовали себя обязанными благодарить судьбу. Старшая вечно казалась унылой и понурой; боюсь, я даже не смогу толком ее вспомнить. А Береника – та походила на быка: широкоплечая, с зычным голосом, с широкими плоскими ступнями и тяжелой поступью. Ничто в ней не напоминало нашу прародительницу Беренику Вторую, правившую двести лет назад вместе с Птолемеем Третьим: она вошла в историю в качестве сильной правительницы, а поэты воспевали ее красоту. Трудно представить себе поэта, способного вдохновиться нашей краснолицей, неуклюжей, вечно пыхтящей Береникой.
Я росла отцовской любимицей и наслаждалась сознанием этого. Не спрашивайте меня, откуда дети узнают подобные вещи; они всегда знают, как бы родители ни старались скрыть свои предпочтения. Может быть, я уже тогда чувствовала, что другая Клеопатра и Береника слишком дурны собой, и не могла представить, что кто-то отдаст им предпочтение передо мной? Однако мое первенство в сердце отца сохранилось и после того, как расцвела красота Арсинои. Теперь, по прошествии времени, я понимаю, в чем дело: лишь я одна испытывала к нему искреннюю привязанность.
Так оно и было; я признаю это честно, но неохотно. Весь остальной мир (включая его собственных детей) считал отца либо комичным, либо достойным сожаления, либо одновременно тем и другим. Он был красивым стройным мужчиной, от природы мечтательным и нервным, он легко выходил из себя и раздражался по пустякам. Люди осуждали его за то, что по натуре он был не столько правителем, сколько артистом – флейтистом и танцором; его считали ответственным за бедственное положение в стране. Но если первое действительно являлось свойством его личности, то второе – не его вина. Ко времени восхождения отца на престол Египет уже прочно сжали челюсти Рима. Чтобы сохранить хотя бы формальную независимость, пришлось совершить множество недостойных деяний: использовать низкопоклонство и лесть, устранить родного брата, расходовать колоссальные средства на взятки и подкупы и даже ублажать потенциальных завоевателей при собственном дворе. Это, естественно, не способствовало народной любви к царю и не укрепляло его власть. Удивительно ли, что отец искал спасения в вине и музыке Диониса, своего божественного покровителя. Но чем сильнее он стремился уйти от действительности, тем больше вызывал презрение.
Помню великолепный пир, устроенный отцом в честь Помпея Великого. Тогда мне почти исполнилось семь, и я хотела наконец-то увидеть римлян, настоящихримлян (то есть опасных, а не безобидных купцов или ученых, что появлялись в Александрии по личным делам). Я настойчиво уговаривала отца позволить мне присутствовать на пиру – благо умения льстить и добиваться своего у меня хватало. Он почти всегда уступал, если, конечно, я не выходила за пределы разумного.
– Мне так хочется посмотреть на них! – настаивала я. – Знаменитый Помпей – как он выглядит?
Все трепетали перед Помпеем, недавно обрушившим свою военную мощь на наши земли. Он подавил грандиозный мятеж в Понте, затем вторгся в Сирию и, захватив остатки некогда могущественной державы Селевкидов, сделал этот край римской провинцией.
Римская провинция. Казалось, целый мир становится римской провинцией. Долгое время Рим – который находился далеко от нас, по другую сторону Средиземного моря – был ограничен ближними пределами; но постепенно, словно гигантский спрут, он протянул свои щупальца во всех направлениях. Он захватил Испанию на западе, Карфаген на юге, потом Грецию на востоке. Он рос и набухал. Чем более раздувалось его чрево, тем сильнее возрастал его аппетит, делаясь ненасытным.
Маленькие царства вроде Пергама не могли утолить его голод. Куда лучше для этого подходили остатки древних владений Александра. Некогда три полководца Александра выкроили из его державы для себя и своих потомков три царства: Македонию, Сирию и Египет. Потом их осталось два. Затем и Сирия пала. Устояло лишь одно царство: Египет. Доходили слухи, будто бы для римлян настало время аннексировать Египет, и особенно рьяным сторонником этого является Помпей. С целью умаслить Помпея и убедить его отказаться от этого намерения отец послал свою конницу, чтобы помочь Риму раздавить Иудею, нашего ближайшего соседа.
Да, не могу не признать – постыдный шаг. Неудивительно, что отца презирали его собственные подданные. Только вот вопрос: согласились бы они пасть под натиском римлян? В отчаянном положении отцу пришлось выбирать из двух зол, и он, как ему казалось, выбрал меньшее. Неужели египтяне предпочли бы большее зло?
– Помпей огромный, весь в ремнях, – сказал отец. – Немного смахивает на твою сестрицу Беренику.
При этом мы оба рассмеялись, как заговорщики. Потом смех затих.
– Помпей внушает страх, – добавил отец. – Всякий, обладающий столь великим могуществом, внушает страх, несмотря на обходительные манеры.
– Мне хочется его увидеть, – настаивала я.
– Пир продлится не один час, – возражал он. – Будет шумно, душно, и для тебя не найдется ничего интересного. Маленькой девочке не стоит туда идти. Вот станешь постарше…
– Надеюсь, в будущем тебе не придется развлекать римлян, так что для меня это единственная возможность, – ответила я. – Если они и явятся к нам снова, то уже при других обстоятельствах. Будет не до пиров.
Отец бросил на меня странный взгляд. Сейчас я понимаю: он был удивлен, услышав такие слова от семилетней девочки. Но тогда мне показалось, что папа рассердился и хочет отказать мне.
– Ладно, так и быть, – промолвил он. – Но раз уж ты хочешь присутствовать, ты не можешь просто сидеть да глазеть. Изволь вести себя наилучшим образом. Мы должны любым способом убедить Помпея, что пребывание нашего рода на египетском престоле наиболее выгодно для Рима.
– Мы?
Неужели он имел в виду?.. Ведь я была третьим ребенком, хотя в то время еще не родились мои братья.
– Мы, Птолемеи, – уточнил отец.
Но, кажется, от него не укрылось, что он мимолетно заронил во мне надежду.
Мой первый пир. Думаю, каждому ребенку из царской семьи полезно написать риторическое сочинение с таким названием, ибо пиры в жизни правителей имеют особое значение: это сцена, где царь разыгрывает пьесу своего правления. Первый пир, как и случилось со мной, всегда ослепляет и завораживает. Лишь с годами, когда их несчетная череда сливается воедино, ты постигаешь их подлинный смысл и цену. Но тот, первый, запечатлелся в памяти навсегда.
Все началось с ритуала (увы, он очень скоро стал для меня рутинным) торжественного облачения. Разумеется, у каждой царевны есть служанка, которая занимается ее нарядами; но при мне, по малолетству, эти обязанности исполняла моя старая нянька, не слишком хорошо разбиравшаяся в пиршественных облачениях. Она нарядила меня в первое попавшееся платье. Главное, что оно было свежим, чистым и выглаженным.
– Ты должна сидеть неподвижно, чтобы платье не помялось, – приговаривала нянька, расправляя юбку. Помню, материя была голубая и довольно жесткая. – Полотно легко морщится. Смотри, никаких шалостей, никакой возни! Порой ты ведешь себя, как мальчишка, а сегодня это недопустимо. Сегодня ты должна вести себя как царевна.
– И как это?
Признаться, в новом наряде я чувствовала себя закутанной, точно мумия – ведь их тоже заворачивают в полотно. Я даже начала немного жалеть о том, что захотела побывать на пиру.
– С достоинством. Когда кто-нибудь заговорит с тобой, поверни голову, но медленно. Вот так. – Она плавно повернула голову, потом опустила веки. – И опусти глаза, скромно.
Нянька помолчала, затем продолжила:
– Не кричи, слова произноси тихо и нежно. Не спрашивай без конца: «Что?» Так делают варвары. Римляне вполне на это способны, – хмуро добавила она, – но тебе не следует брать с них пример. – Она слегка повозилась с моим воротником, выправляя его. – И если кто-нибудь выскажется грубо и упомянет какую-нибудь неприятную тему вроде налогов, чумы или преступного сброда, ты не должна отвечать. Такие вещи не годится обсуждать на пиру.
– А если я увижу, что скорпион собирается кого-нибудь ужалить? Предположим, прямо на плече Помпея сидит ярко-красный скорпион, уже поднявший жало, – могу я сказать об этом? – Вопрос я задаю вполне искренне: мне хочется уяснить правила. – Ведь скорпион – это неприятная тема. Но могу я затронуть ее в таких обстоятельствах?
Она смутилась.
– Ну, наверное… Да какой скорпион! Не может быть на плече Помпея никакого скорпиона. Ох, несносная девчонка, вечно ты что-нибудь придумаешь, – ласково проворчала она. Надо надеяться, что ни скорпионов, ни чего-либо другого, способного испортить настроение гостю, на пиру не окажется.
– А может, мне стоит надеть диадему? – спросила я.
– Нет, – ответила няня. – Что за странная мысль? Ты не царица.
– А разве нет диадем для царевен? Мы должны носить что-нибудьна голове. У римлян есть лавровые венки, верно? И у атлетов тоже.
Она наклонила голову набок, призадумавшись.
– Мне кажется, лучшее украшение для девочки – ее волосы. У тебя они чудесные, так зачем портить их чем-то еще?
Нянька всегда очень внимательно относилась к моим волосам, полоскала их в ароматизированной дождевой воде и расчесывала гребнями из слоновой кости. Она научила меня гордиться своими косами, но сегодня вечером мне очень хотелось выглядеть необычно.
– Но что-то должно выделять нас, царскую семью. Мои сестры…
– Твои сестры постарше, им так подобает. Когда тебе будет семнадцать или пятнадцать, как Беренике, ты тоже сможешь носить подобные вещи.
– Пожалуй, ты права.
Я сделала вид, будто согласилась, и дала ей расчесать мои волосы, прибрать их назад и скрепить заколкой, после чего невинно сказала:
– Все хорошо, только вот лоб какой-то голый, нет даже ленты. Скромный узкий обруч – вот что было бы в самый раз.
Она рассмеялась.
– Дитя, дитя, дитя! Какая же ты у меня неуемная! – Я видела, что она готова смягчиться. – Может быть, очень маленький золотой обруч. Но пусть он весь вечер напоминает тебе о том, что ты царевна.
– Конечно, – пообещала я. – Я не сделаю ничего неподобающего. Даже если римлянин рыгнет или украдет золотую ложку, спрятав ее в салфетку, я сделаю вид, будто ничего не заметила.
– Ты вполне можешь увидеть, как они крадут ложки, – согласилась нянька. – Римляне так жадны до золота, что при виде него у них слюнки текут. Хорошо еще, что золотые дворцовые украшения слишком велики – не завернуть в складку тоги. Не то поутру мы бы многого недосчитались.
В пиршественном зале дворца мне доводилось бывать и раньше, но только когда он был пуст. Огромный зал занимал целое здание от стены до стены (сам царский дворцовый комплекс включал в себя множество строений) и открывался в сторону внутренней гавани, куда спускались широкие ступени. Он всегда казался мне блестящей пещерой. Когда я пробегала по залу, мое отражение множилось на полированных плитах полов и рядах колонн. Потолок терялся в тени высоко-высоко.
Но сегодня вечером пещера сияла светом, и я в первый раз смогла разглядеть вызолоченные кедровые потолочные балки. И шум! Звуки толпы – со временем они станут для меня привычными – обрушились на мои уши, как удары. Зал заполнили люди; их было так много, что я остановилась и уставилась во все глаза на толпу.
Перед тем как выйти к гостям, мы, царское семейство, собрались на вершине маленькой лестницы. Мне хотелось взять отца за руку и спросить: неужели там целая тысяча человек? Но он стоял впереди меня, рядом с ним находилась мачеха, и задать вопрос я не смогла.
Мы ждали, когда трубы возвестят о нашем появлении. Я внимательно рассматривала гостей, гадая, которые из них римляне и как они выглядят. Примерно половина собравшихся была одета в традиционные, свободно спадающие одеяния, а многие мужчины носили бороды. Но другие… Те были гладко выбриты, с короткими волосами, а их одеяния представляли собой либо странные драпировки (мне показалось, будто они завернуты в простыни), либо военную форму: нагрудники и короткие юбки из кожаных полосок. Очевидно, это и есть римляне. Остальные – египтяне и греки из Александрии.
Трубы зазвучали, но с другого конца зала. Отец не шелохнулся, и вскоре я поняла почему: трубачи возвещали о появлении Помпея и его свиты. Когда они выплыли к центру зала, я узрела полный набор регалий римского военачальника самого высокого ранга. На Помпее красовался нагрудник из чистого золота, плащ его был не красным, как у других, а пурпурным, на ногах – не сандалии, а особенные закрытые сапоги. В общем, есть на что посмотреть.
Правда, это лишь наряд. Сам Помпей разочаровал меня – он оказался обычным человеком с довольно невыразительным лицом. Многие из его командиров выглядели куда более суровыми, решительными и грозными, хотя и служили лишь выделявшей военачальника рамкой.
Потом трубы грянули снова, и теперь наступил наш черед спуститься в зал, чтобы отец мог официально приветствовать гостей. Теперь все взоры обратились к нему: он спускался медленно, царская мантия волочилась за ним по ступеням, и я старалась не споткнуться о его одеяние.
Двое мужчин встали лицом к лицу. Отец был намного ниже ростом и уже в плечах. Рядом с могучим Помпеем он выглядел почти хрупким.
– Добро пожаловать в Александрию, благородный император Гней Помпей Великий. Мы приветствуем тебя и восхваляем твои победы. Честь для нас – видеть тебя на нашем пиру, – сказал отец.
У него был приятный голос, и обычно он хорошо им владел, но сегодня ему не хватало силы. Должно быть, он ужасно нервничал – а вместе с ним, конечно, нервничала и я, переживая за отца.
Помпей что-то ответил. Он говорил по-гречески с таким сильным акцентом, что я почти ничего не поняла. Отец понял или, по крайней мере, сделал вид, будто понял. Затем начали представлять сопровождающих. Меня представили – или это Помпея представили мне? Не знаю уж, как там полагалось по этикету, но я улыбнулась и кивнула ему. Я знала, что царевны – не говоря уж о царях и царицах! – никогда никому не кланяются, но надеялась, что это его не обидит. Он, скорее всего, понятия не имеет о таких тонкостях: ведь он из Рима, а у них там нет царей.
И вдруг Помпей, до сих пор отвечавший всем лишь сдержанной улыбкой, наклонился и заглянул мне прямо в лицо. Его круглые голубые глаза оказались прямо напротив моих.
– Какое очаровательное дитя! – сказал он на своем странном греческом. – Неужели царские дети посещают пиры с колыбели?
Он повернулся к отцу, который выглядел смущенным. Я поняла: отец сожалеет о том, что разрешил мне прийти. Он не хотел делать ничего, что привлекло бы к нам нелестное внимание.
– Нет, не посещают до семи лет, – быстро нашелся он. Мне еще не было семи, но откуда Помпею это знать? – Мы полагаем, что в семь лет они уже начинают понимать, что к чему…
Отец тактично указал на ожидавшие в соседнем зале – почти таком же большом – пиршественные столы и повел римского военачальника туда.
Рядом со мной ухмылялись старшие сестры, очевидно, находившие мой конфуз забавным.
– Какое очаровательноедитя! – передразнила Береника.
– А вот и еще одно, – сказала старшая Клеопатра и указала на мальчика, ожидавшего, когда мы пройдем. – Пир превращается в детский праздник.
Надо сказать, что при виде мальчика я и сама удивилась: его-то как сюда занесло? Он выглядел здесь совершенно неуместно. Я даже испугалась, как бы Помпей не заметил эту несуразность. Но римлянина, к счастью, больше интересовало угощение в соседнем зале. Недаром все говорят, что римляне – большие чревоугодники.
Мальчик был одет по-гречески и держался за руку бородатого мужчины, с виду грека из Александрии. На нас он смотрел с тем же любопытством, как и я на римлян. Может быть, мы казались ему диковиной. Наша семья не часто появлялась на публике на улицах Александрии, опасаясь бунтов.
Медленно и – как я надеялась – величественно мы прошествовали мимо него и вошли в преображенный зал, где нам приготовили трапезу. Закатные лучи пронизывали помещение почти горизонтально, как раз на уровне столов, где поджидал лес золотых кубков и блюд. Мне такое освещение показалось волшебством. Римлянам, должно быть, тоже, потому что они все смеялись от восторга и показывали пальцами.
Пальцами! Как грубо! Но ведь меня предупредили, что этого следует ожидать. Правда, сам Помпей и его приближенные пальцами не тыкали. Он даже не проявил особого интереса, а если и заинтересовался, то никак этого не выказал.
Мы заняли свои места. Взрослые почетные гости возлегли, а менее значимые люди сидели на табуретах – впрочем, таковых оказалось немного. Нянька сказала мне, что в Риме женщинам и детям полагается сидеть на табуретах, но у нас ни царица, ни старшие принцессы такого бы не потерпели. Я попыталась прикинуть, сколько необходимо лож, чтобы расположить на них тысячу человек. Выходило более трех сотен – и все они уместились в огромном зале, оставив достаточно места для того, чтобы прислуга легко проходила между ними с подносами и блюдами.
Отец усадил меня на табурет, а Помпей и его спутники возлегли на ложах, предназначенных для высочайших гостей. Неужели я единственная буду сидеть на табурете? С тем же успехом на меня можно повесить огромную вывеску для привлечения внимания. Сестры, мачеха, все прочие элегантно разлеглись, расположив одеяния изящными складками и подогнув одну ногу под другую. Ах, если бы мне стать чуточку постарше и тоже получить место на ложе!
Мне казалось, что я привлекаю к себе столько внимания, что и за едой-то потянуться неловко. И тут вдруг отец послал за бородатым мужчиной с мальчиком и предложил им присоединиться к нам. Думаю, он сделал это, потому что заметил мое смущение: отец всегда был внимателен к тем, кто попадал в неловкое положение.
– Мой дорогой Мелеагр, – обратился к бородатому греку отец. – Почему бы тебе не сесть здесь? Ты можешь узнать то, что сам пожелаешь.
Человек кивнул, ничуть не смутившись тем, что его приглашают присоединиться к столь высокому обществу. Должно быть, он философ: считается, что философы воспринимают все невозмутимо. Он и бородат, как философ. Мелеагр подтолкнул сына вперед, и мальчику быстро принесли табурет. Теперь мы сидели вдвоем. Наверное, отец решил, что так мне будет легче, хотя на самом деле это привлекло к нам, детям, еще больше внимания.
– Мелеагр – один из наших ученых, – пояснил отец. – Из нашего…
– Да, из вашего Мусейона, – перебил его римлянин с квадратной челюстью. – Там, где у вас содержатся ручные мыслители и ученые, верно? – Не дожидаясь ответа, он ткнул своего соседа под ребро. – Вот как здесь заведено: умники поселены вместе и работают на царя. Всякий раз, когда царь хочет узнать что-нибудь – ну, скажем, глубину Нила близ Мемфиса, – он может запросто вызвать кого-нибудь, хоть посреди ночи! Верно?
Мелеагра бесцеремонность римлянина явно покоробила, однако выказывать возмущение он не стал.
– Не совсем так, – промолвил философ. – То, что наше существование поддерживается щедростью правителя, абсолютно верно. Однако царь никогда не стал бы предъявлять к нам нелепые требования.
– На самом деле, – сказал отец, – я пригласил Мелеагра, чтобы он мог задать вопрос тебе, Варрон. Мелеагр очень интересуется необычными растениями и животными, каковых, как я понимаю, ваши воины могли видеть и добывать близ Каспийского моря. После того, как Митридат бежал.
– Да, – подтвердил человек по имени Варрон. – Мы рассчитывали побольше узнать о пресловутом торговом пути в Индию, пролегающем у Каспийского моря. Но оттуда бежал не только Митридат – мы тоже, по причине множества ядовитых змей. Мне нигде больше не доводилось видеть такого их количества, самых разных пород. Впрочем, чего еще ждать от земли на самом краю обитаемого мира?
– Диковинное место, – поддержал его один из гостей, говоривший по-гречески. Его называли Феофаном. – Непросто было его нанести на карту.
– А у тебя и карты есть? – заинтересовался Мелеагр.
– Только что составленные. Может быть, ты хочешь взглянуть?
Между учеными мужами потекла вежливая беседа, а мальчик рядом со мной молчал. Что он вообще здесь делает?
Подогреваемый вином, разговор становился все более оживленным, однако многие римляне, захмелев, забыли про греческий и перешли на свою латынь. Этот язык звучит монотонно и странно для тех, кто его не знает. Я латыни не изучала: ведь ничего значительного, ни книг, ни речей, ни стихов на этом наречии не написано. Куда больше пользы от таких языков, как еврейский, сирийский или арамейский. Недавно, чтобы иметь возможность общаться с простым народом, разъезжая по стране, я взялась и за египетский. А латынь? Латынь подождет.
Так я думала, но моих мыслей никто не видел, а вот сестры Береника и Клеопатра почти не пытались скрыть презрение к перешедшим на свой язык римлянам. Меня это беспокоило: а вдруг гости заметят и обидятся? Ведь мы должны быть осторожны и не давать повода для недовольства.
Неожиданно вновь зазвучали трубы. Слуги, словно выступив из стен, убрали со столов золотую посуду и принесли взамен новую, еще богаче украшенную гравировкой и драгоценными камнями. Римляне воззрились на них в изумлении, для чего, видимо, это и было затеяно.
Но в чем смысл? Зачем отец так стремится показать наше богатство? Ведь тем самым он пробуждает в гостях алчность и желание завладеть сокровищами. Это смущало меня. Я видела, как Помпей мечтательно смотрит на стоящую пред ним огромную чашу, словно представляет себе, как ее расплавляют.
И тут я услышала слово «Цезарь». Оно было как-то связано с жадностью и нуждой в деньгах. Мне показалось, будто Помпей говорил отцу – я очень напрягала слух, чтобы понять, – что этот Цезарь (кем бы он ни был) хочет завладеть Египтом и сделать его римской провинцией, поскольку царство завещано Риму…
– Но это поддельное завещание, – отвечал отец, и голос его звучал высоко, как у евнуха. – Даже будь оно настоящим, Птолемей Александр не имел права завещать Египет…
– Ха-ха-ха! – смеялся Помпей. – Право зависит от того, кто его трактует.
– Значит, ты тоже собираешься стать ученым? – вежливо спрашивал сидящего рядом со мной мальчика Феофан. – Поэтому и пришел вместе с отцом?
Проклятие! Теперь я не могла расслышать, о чем говорили отец и Помпей, а это было чрезвычайно важно. Я пыталась отрешиться от раздававшихся рядом слов, но безуспешно.
– Нет, – сказал мальчик, заглушая голоса царственных собеседников. – Хотя я люблю ботанику и животных. Больше всего меня занимает самое сложное животное на свете: человек. Я хочу изучать его, поэтому стану врачом.
– А как тебя зовут? – спросил Феофан, как будто и в самом деле заинтересованный. – И сколько тебе лет?
– Олимпий, – ответил мальчик. – Мне девять лет, летом исполнится десять.
«Тише!» – мысленно приказывала я.
Но Феофан продолжал задавать вопросы. Живет ли мальчик вместе с отцом в Мусейоне? Какой именно раздел медицины его привлекает? Как насчет фармакопеи, науки о лекарствах? Она соединяет знания о растениях и врачевание.
– О да, – говорил Олимпий. – Я надеялся, что смогу спросить кого-нибудь из вас о «безумном меде». Собственно говоря, ради этого я сегодня и пришел. То есть, конечно, уговорил отца взять меня с собой.








