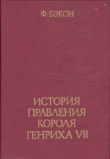Текст книги "Безнадежно одинокий король. Генрих VIII и шесть его жен"
Автор книги: Маргарет Джордж
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Уилл:
Преступления – то есть преступные прелюбодеяния – были якобы совершены в графствах Мидлсексе и Кенте, и именно оттуда должны были исходить официальные обвинения. В те ужасные майские дни большое жюри обсудило их и выдало надлежащие рекомендации. Свидетельские показания сочли неоспоримыми, и пятерых обвиняемых ожидало судебное разбирательство. В жюри вошли королевские уполномоченные, одним из которых стал Томас Болейн.
Незнатных придворных – Смитона, Бреретона, Уэстона и Норриса – судили двенадцатого мая в зале Вестминстерского дворца, одинаково пригодном для проведения судебных заседаний и праздничных пиршеств. На радость разинувшим рты и пускающим слюни зевакам фаворитов королевы открыто провели по улицам города.
Перед глазами несчастных уже маячил топор, хотя и с опущенным пока острием. Им предъявили обвинения в тайном сговоре, угрожавшем жизни короля, в греховной связи с королевой, в государственной измене наследникам трона и в нарушении общественного порядка и безопасности.
Смитон признал себя виновным только по второму пункту. Остальные полностью отрицали свою вину. Но всех осудили на смерть. Острие топора зловеще развернулось в их сторону. В тягостной тишине преступников доставили обратно в Тауэр.
Казнь назначили на семнадцатое мая – через пять дней после суда. До этого дня о заключенных предпочли забыть.
Короля обеспокоило то, что признание сделал один Смитон. Он предпочел бы, чтобы все пятеро разговорились на допросах. Хотя сам он ничуть не сомневался в их виновности.
– Я убежден, что она развлекалась с каждым вторым в своей свите, – сказал он.
* * *
Через три дня перед судом пэров в Королевском зале Тауэра по очереди предстали Болейны. На заседании присутствовали двадцать шесть пэров. Герцог Норфолк выступил в роли представителя короля, лорда-распорядителя, заняв кресло под председательским балдахином. По разные стороны от него сидели герцог Суффолк и лорд-канцлер Одли. Был здесь и Генри Перси, унаследовавший титул графа Нортумберленда.
В зал набилось более двух тысяч зрителей – лорд-мэр и олдермены Лондона, члены влиятельных ремесленных гильдий; придворные, послы, купцы и прочие незнатные подданные, к коим примкнул и я сам. Насколько отличался публичный конец Анны от ее тайного венчания! Короля не волновало, что любой простолюдин услышит гнусные подробности, выставляющие его рогоносцем. Как ни странно, он сам позвал всех прийти и испить чашу из источника его позора.
Анна вплыла в зал с надменным видом, словно ее пригласили председательствовать на суде, а не держать ответ перед пэрами. Она вновь обрела неотразимое очарование, с помощью которого околдовала Гарри. Очевидно, она решила еще раз использовать свою магию.
Герцог огласил официальные обвинения по обнаруженным присяжными Кента и Мидлсекса преступлениям:
– «Будучи более трех лет королевой Англии и женой господина нашего Генриха VIII… леди Анна не только пренебрегала обязанностями, возложенными на нее высочайшим и благородным союзом, заключенным между вышеупомянутым господином нашим королем и самой госпожой королевой, но также вынашивала в душе злые умыслы по отношению к упомянутому господину нашему королю и сошла с пути истинного по дьявольскому наущению, отвернувшись от Господа. Утоляя каждодневно изменчивую сладострастную жажду и понуждая близких подданных и слуг господина нашего короля к прелюбодеянию и сожительству, совращала их подлыми посулами, поцелуями, соблазнительными телодвижениями, а также подарками и прочими чудовищными обещаниями и подстрекательствами… соответственно потакая своим крайне предосудительным наклонностям… в результате чего совращенные отдавались ей и способствовали тяжким вероломным преступлениям… Как следует из данного и прочих достоверных источников свидетельских показаний, упомянутая королева повинна в предательских деяниях и подстрекательствах».
Перечень достоверных нарушений закона открывали события трехлетней давности:
– «В Вестминстерском дворце 6 октября 1533 года… и в разные прочие дни, до и после указанной даты, посредством соблазнительных слов, поцелуев, деяний и прочих злодейских средств она совращала и подстрекала Генри Норриса, личного камергера господина нашего короля, нарушать присягу и вступать с ней в плотские сношения, по причине чего 12 октября упомянутый Генри Норрис преступил закон и опорочил себя, вступив с ней в плотскую связь».
Далее описывалось ее прелюбодеяние с родным братом Джорджем, лордом Рочфордом, имевшее место 2 ноября:
– «…откровенные сладострастные поцелуи, в коих сплетались языки королевы и упомянутого брата ее Джорджа, а также подарки и драгоценности побудили лорда Джорджа Рочфорда 5 ноября презреть заповеди Всемогущего Господа и законы людской природы и согрешить, познав плоть его родной сестры».
Далее зачитали даты остальных преступлений (я опущу их описания, ибо они изобиловали похотливыми подробностями):
19 ноября 1533 года – в Вестминстере с Генри Норрисом.
27 ноября 1533 года – в Вестминстере с Уильямом Бреретоном.
8 декабря 1533 года – в Хэмптон-корте с Уильямом Бреретоном.
19 мая 1534 года – в Гринвиче с Марком Смитоном.
20 мая 1534 года – в Гринвиче с Фрэнсисом Уэстоном.
20 июня 1534 года – в Гринвиче с Фрэнсисом Уэстоном.
26 апреля 1535 года – в Вестминстере с Марком Смитоном.
29 декабря 1535 года – в Элтаме с Джорджем Болейном.
Помимо «грязной и ненасытной похоти» ее обвинили в тайном сговоре с любовниками против Генриха. Согласно свидетельским показаниям, она говорила им, что «в глубине души никогда не любила супруга» и «обещала выйти замуж за одного из них после смерти короля». Дабы держать их в любовном плену, она разжигала соперничество между ними, наделяя каждого безумно щедрыми дарами.
Кромвель и его главный прокурор, сэр Кристофер Хейлз, выдвинули против королевы еще два пункта: во-первых, отравление вдовствующей принцессы и покушение на жизнь леди Марии; во-вторых, злонамеренное причинение ущерба здоровью короля – ибо из-за пороков своей жены он «испытал в сердце своем недовольство и печаль… кои вызвали серьезные физические недомогания». Последнее утверждение, насколько мне известно, было правдой, хотя многие над этим подшучивали.
По словам обвинителей, Анна тайно издевалась над королем, высмеивая его баллады, музыку, наряды и личные недостатки. В письме брату Джорджу относительно своей беременности она будто бы заикнулась, что вынашивает его ребенка.
Анне предоставили слово для защиты. Гордо выпрямившись, как всегда, она вскинула голову и заговорила громким и звонким голосом, разлетавшимся во все концы каменного зала.
Последние обвинения она обошла многозначительным молчанием. И, уделив внимание только прелюбодеяниям, заявила о своей невинности, хотя признала, что давала Фрэнсису Уэстону денежное вознаграждение и приглашала Марка Смитона в свои покои для игры на верджинеле. Ее речь прозвучала красноречиво и остроумно, а сама она излучала неземное очарование.
Но все было бесполезно. По оглашении всех обвинений большинство пэров признали ее виновной. Затем поднялся ее дядя Норфолк и грозно зачитал приговор:
«Виновна в государственной измене, прелюбодеянии и кровосмесительной связи. Преступница заслужила смерть, приговаривается к сожжению на лугу лондонского Тауэра либо – по усмотрению короля – к обезглавливанию, если его милость пожелает облегчить ее участь».
Напряженную тишину нарушило смятение в рядах пэров. Генри Перси упал в обморок. Слуге пришлось взвалить его обмякшее тело на спину и вынести из зала. Анна проводила его взглядом, и на лицо ее набежала тень, оно словно увяло.
Ей вновь дали слово, но теперь она говорила без всякого воодушевления.
– О Господи, Тебе ведомо, заслужила ли я смерть… – Она помедлила и обратилась к присяжным: – Милорды, я не буду говорить, что ваш приговор несправедлив, и не осмелюсь предположить, будто мои доводы могут восторжествовать над вашими суждениями. Мне хочется верить, что у вас достаточно веские причины для вынесения такого приговора, но тогда они должны быть отличны от тех, что представлены ныне в суде, ибо я не совершала преступлений, кои вменяются мне в вину. Я всегда хранила супружескую верность королю, хотя не скажу, что всегда выказывала приличествующее мне, возвышенной его волей из ничтожества, смирение и почтение перед его добротой и величием. Я признаю, что имела ревнивые мысли и подозрения о его увлечениях. У меня не было, увы, достаточной осторожности и мудрости, чтобы скрывать свои переживания. Но всевидящий Господь будет моим свидетелем в том, что я не согрешила против супруга никаким иным образом. Вы полагаете, что я говорю это в надежде продлить себе жизнь? Нет. Бог научил меня смирению перед лицом смерти, и Он укрепит мою веру. Не думайте, что в преддверии конца я пребываю в полном замешательстве и меня уже не волнуют ни честь, ни невинность, которые я берегла всю мою жизнь, как то и положено королеве. Знаю, что эти последние оправдания не принесут мне никакой выгоды, кроме удовлетворения моей честной души. Что касается моего брата и других несправедливо обвиненных придворных, то я охотно приняла бы на себя все казни, дабы избавить их от мучений; но, понимая, что так угодно королю, я готова стать их спутницей в смертный час. Поскольку уверена в том, что в ином мире нам суждена вечная и покойная жизнь. Я прошу вас, добрые люди, помолиться за меня.
Она устало поднимается и в сопровождении Кингстона удаляется из зала суда в свои тюремные покои.
Ее дядя откровенно разрыдался. Ему с трудом удалось овладеть собой, чтобы провести суд над последним заключенным в Тауэр обвиняемым, Джорджем Болейном, лордом Рочфордом.
Ему зачитываются обвинения. Они заключаются, во-первых, в инцесте – в прелюбодеянии с его сестрой, королевой. Во-вторых, в заговоре, имевшем целью убийство короля. Он отрицает и то и другое. И в третьих, в предположении, что он отец принцессы Елизаветы.
В ответ на третий пункт Болейн молча ухмыляется и насмешливо поднимает брови.
Заключительное обвинение запрещено оглашать публично, и его изложенное на бумаге содержание представляют пэрам, а затем показывают лорду Рочфорду. Эти показания предоставила леди Джейн, его законная жена.
– Ах да, – громогласно заявляет Джордж Болейн и зачитывает вслух слово за словом: «Моя сестра, королева Анна, сообщила мне, что король стал немощен. Его мужское естество растеряло задор и живость».
И он истерически захохотал.
Возмущенный Кромвель разразился гневной тирадой, на что Болейн с улыбкой добавил:
– Но я же не высказываю предположений о том, что в следующем браке его величество может столкнуться с теми же интимными сложностями.
Одна фраза превратила короля в обвиняемого. Упомянутый «следующий брак» неслыханно удивил людей. Неужели правда, что король уже выбрал преемницу? Не устроили ли весь этот процесс ради новой королевы? Но Кромвель пустил в ход главный козырь: очередное заявление от Джейн Болейн, леди Рочфорд, которая дала клятву, что ее муж состоял со своей сестрой в кровосмесительной связи. Она сочла своим долгом обнародовать «проклятую тайну», известную доныне только ей.
Итак, обвинение, подписанное законной женой, доказало порочность Джорджа.
Двадцать шесть пэров признали его вину, и герцог вновь огласил приговор:
– «Виновного в государственной измене надлежит вернуть в камеру лондонского Тауэра, где он и содержался; он приговаривается к тройной казни, во исполнение которой его выведут из темницы, проволокут по городу, повесят, затем вынут из петли живым, вспорют живот и, вырвав внутренности, сожгут у него на глазах, после чего ему отрубят голову, а тело четвертуют, дабы установить останки в местах, назначенных королем».
По завершении этих судов Лондон погрузился в тяжкое безмолвие до самых казней. Проходящие мимо Тауэра люди слышали стук молотков – там сколачивали эшафоты, вытащенные из подвалов, где они хранились с прошлого лета, после казни Мора.
Поговаривали, что король, обхаживая госпожу Сеймур, провел эти весенние ночи на своем баркасе. Да, правда, фонари озаряли ярким светом темные воды Темзы, а над ними разносились звуки игривой музыки. Кое-кто утверждал, что его лодка сновала туда-сюда под стенами Тауэра. Я слышал еще много чепухи, в том числе потрясающую историю с живописными подробностями оргий развратного, уподобившегося сатиру короля. На самом деле он действительно проехал разок по Темзе на своем баркасе, однако стремился не «под стены Тауэра», а к стоящему на берегу особняку Николаса Карью, где гостила леди Джейн.
X
Генрих VIII:
И вот кошмар закончился. Завершился суд, и ведьме вынесли справедливый приговор. Крам обо всем доложил мне… даже, к сожалению, о ее выпадах в мой адрес. Меня это не взволновало; я боялся лишь того, что, несмотря на тяжкие обвинения, Анна сумеет избежать кары.
Сожжение или обезглавливание… по усмотрению короля… Мне вспомнилось, какой ужас она испытывала перед пламенем. Не будет ли местью мое соизволение предать ее огню? Заслуживает ли она такой смерти? Она будет кричать и корчиться от боли, когда начнет поджариваться ее плоть, а кровь – закипать в жилах. Я буквально почувствовал смрад обугливающегося мяса и дыма от горящих волос…
Нет, невозможно. Это слишком жестоко. Тем более душа ее, покинув тело, и так отправится прямиком в ад, где огня будет в изобилии, того вечного огня, что сжигает души грешников, не давая им блаженного упокоения. Зачем учинять дьявольское изуверство и подвергать Анну адским пыткам на земле? Пусть она покинет этот мир, не испытав физических мучений.
Но мне хотелось добиться от нее одного заявления – никто, кроме нее, не мог признать незаконность нашего супружества. Для получения показаний я решил послать к ней Кранмера с предложением избавить ее от сожжения, если она подтвердит, что добилась нашего брака с помощью колдовства и теперь отрекается от него. Тогда я мог бы освободиться от нее еще до ее казни. Пусть она испустит последний вздох, уже не будучи моей женой. И меня ничто не будет связывать с ней!
– Ступайте к ней в Тауэр, в ее покои, и добейтесь от нее клятвенного отречения по данному делу, – поручил я Кранмеру и, заметив недоумение на его лице, пояснил: – Да, согласно моему распоряжению, ее по-прежнему содержат в достойных условиях. Она живет в королевских апартаментах, и ей оставлены все драгоценности и наряды. Разве не ради обладания ими она продала свою вечную душу? Пусть же насладится ими до конца.
Мне вспомнился Мор, томившийся в лишенной книг камере. Но Анна Болейн до самой казни может сохранять свои привилегии (за исключением чести называться моей женой). Вдруг мне подумалось: а что, если послать за французским фехтовальщиком? Пусть он с искусным изяществом исполнит смертный приговор. Ей всегда нравились «французские затеи»; добрый английский топор, безусловно, грубоват для ее чувствительной и тонкой натуры. Я отправил соответствующее распоряжение коменданту Кале. Вот так штука, я готов потакать ее прихотям до последнего часа…
Я тихо рассмеялся… но через мгновение мной овладел истерический хохот.
Уилл:
Мы услышали взрывы смеха, доносившиеся из кабинета короля, но не посмели войти. Казалось, там хохотал безумец, и мы испугались, что к Гарри тайно пробрался какой-то недоброжелатель. Король никогда так не смеялся, и один из стражников все-таки осмелился заглянуть внутрь.
Там не оказалось никого, кроме Генриха. Он сидел за письменным столом, и лицо его опасно побагровело.
Я приблизился к нему – больше никто не посмел – и замер на миг, готовый броситься за лекарем. Я не сомневался, что короля разбил апоплексический удар.
– Не беспокойтесь, милорд, сейчас вам окажут помощь, – произнес я как можно серьезнее и внушительнее.
– Помощь? – спокойно спросил он, и кровь отхлынула от его лица. – Брось, Уилл, помощь мне не нужна. Все в порядке, в полном порядке. – Он показал на письмо и заметил: – Славная французская кончина ждет ее… Смерть должна согласовываться с жизнью… Правда, редко удается это устроить. Но я окажу ей такую услугу.
Неужели переутомление и горе омрачили его разум?
– Да, ваша милость, – мягко сказал я. – Лорд – хранитель малой печати позаботится об отправке ваших посланий. Успокойтесь. Вы слишком много работаете.
Он привстал было из-за стола, но вновь опустился в кресло, с озабоченным видом покачав головой.
– Есть еще одно дело. Остальным преступникам я тоже должен облегчить участь. Смягчим приговор, заменив его обычным обезглавливанием. Так и порешим. – Он начал строчить приказы на пергаменте. – Но им придется удовольствоваться английским палачом с привычным топором.
* * *
Утром семнадцатого мая Анна видела из своего окна, как на холм за рвом Тауэра вывели пятерых ее полюбовников и соучастников тайных заговоров и они поднялись на эшафот. Это было крепкое высокое сооружение, видное даже зрителям последних рядов (а толпа там скопилась огромная).
Первым шел сэр Уильям Бреретон. Он трусливо стонал и дрожал всем телом.
– Я заслужил бы смерть, если бы у нас казнили за любое прегрешение! – крикнул он, а когда палач указал ему на плаху, возмущенно заявил: – Но меня осудили беспричинно!.. Я требую справедливого суда!
Стремясь отсрочить казнь, он повторил эти слова еще трижды или четырежды. Но голос изменил ему, когда его вынудили опустить голову на плаху. Палач взмахнул большим топором и одним точным ударом разрубил шею Бреретона. Голова скатилась на солому, и палач традиционно поднял ее и показал зрителям.
Буквально за пару минут тело и голову казненного унесли, сменили солому и вымыли плаху и топор. Мертвеца спустили по лестнице и положили в гроб за эшафотом.
Следующим был Генри Норрис. Он был немногословен, но сказанное им прозвучало лестно для короля:
– Я полагаю, что нет среди благородных придворных человека, который был бы обязан королю больше меня, но я проявил тяжкую неблагодарность и небрежение к ниспосланным мне благам. Я молю Господа о милосердии к моей душе.
И он с готовностью положил голову на плаху. Мастерский удар топора, и приговор свершился еще до того, как зрители успели перевести дух. Жене и матери не удалось выкупить жизнь сэра Фрэнсиса Уэстона даже за сотню тысяч крон, и этот красавец, все такой же цветущий и бодрый, поднялся на эшафот. Синева его глаз соперничала с ясными майскими небесами.
– Я надеялся, что, погрешив лет двадцать или тридцать, смогу замолить грехи, вступив на путь истинный. Но мне в голову не приходило, что жизнь так коротка, – сказал он, пытаясь до последней минуты оставаться остроумным и светски беспечным.
Когда палач поднял его голову, глаза уже не сияли синью, а подернулись серой дымкой.
В небе появились темные точки. Почуяв запах крови и надеясь, что вскоре будет чем поживиться, к холму начали слетаться канюки.
Марк Смитон поднялся по лестнице с гордым видом.
– Господа, я прошу вас всех помолиться за меня, – пылко произнес он, – ибо я заслужил эту смерть.
Страдающий от безнадежной любви лютнист так стремительно припал к плахе, словно боялся, как бы вдруг не отсрочили или не отменили его казнь.
Последним к плахе подошел лорд Рочфорд, Джордж Болейн. Он бросил невольный взгляд на стоявшие справа от него гробы и скользящие по эшафоту темные тени парящих в вышине стервятников. Затем Болейн посмотрел на толпу зрителей и обернулся к тауэрскому рву, где за стенами крепости высилась белокаменная башня, где были покои его сестры.
Все притихли, ожидая его последних слов. Как ни странно, он вдруг разразился проповедью против лютеранства (его давно подозревали в склонности к ереси):
– Я желаю, чтобы грехи мои помогли вам всем укрепиться в вере и проникнуться благой вестью. Ибо если бы я жил по евангелическим заветам… если бы праведные слова мои не расходились с делом… то мне не пришлось бы сейчас стоять перед вами.
Он еще долго уговаривал слушателей блюсти закон Божий.
Но слушателей не интересовали его увещевания, они постоянно слышали это от монахов или придворных проповедников. Да и притащились они сюда не ради религии, а ради кровавого зрелища.
– Я ничем не погрешил перед королем, – вдруг вызывающе заявил Болейн. – Сейчас не время повторять причину, по которой меня осудили. Да и вам не доставит удовольствия слушать мои оправдания, – дерзко бросил он, лишая их ожидаемого развлечения. – Я прощаю всех вас. И… Боже, храни короля!
С тем же успехом он мог насмешливо показать нам язык. Непристойное приветствие ознаменовало его прощанием с этим миром. Топор опустился на плаху, и его голова отделилась от тела.
Погожим майским днем похоронные дроги быстро увезли пять гробов, и раздосадованные стервятники улетели ни с чем.
* * *
Казнь Анны назначили на следующий день. Но к изумлению Генриха, французский фехтовальщик еще не прибыл, поэтому исполнение приговора пришлось отложить. Хотя отсрочка пришлась кстати, поскольку в тот день над Лондоном разразилась страшная гроза со штормовым ветром.
Анне предстояло расстаться с жизнью в стенах крепости на зеленой лужайке прямо под ее покоями. Эшафот сколотили низкий, дабы любопытные горожане не могли увидеть, что происходит в Тауэре, и разрешение присутствовать на казни получили от силы три десятка влиятельных особ. Придворные мечтали о столь исключительном зрелище. Но круг свидетелей смерти преступницы ограничился лорд-канцлером, тремя герцогами (Норфолком, Суффолком и Ричмондом), Кромвелем и членами Тайного совета, к коим присоединились лорд-мэр Лондона, шерифы и олдермены. На зубчатых крепостных стенах стоял канонир, ему надлежало возвестить горожанам о кончине королевы выстрелом пушки.
Король не пожелал почтить своим присутствием сие событие. Так же как Кранмер. И ни один из Сеймуров.
* * *
Последнюю ночь Анна провела в смятении, без сна, молясь и распевая песни. Она сочинила длинную траурную балладу для лютни – ведь брат уже не мог прославить свою злосчастную сестру. Она вознамерилась увековечить свою память, поэтому написала и положила на музыку следующие строфы:
О смерть, убаюкай мой слух,
Даруй мне сладость сна,
К чему страдать душе от мук,
Коль чиста и безгрешна она.
Лети, погребальный и скорбный плач,
Ведь завтра поднимет свой меч палач;
О да, я должна умереть,
И рок мой неумолим,
Так буду о смерти петь!
Кто выразит всю мою боль,
Увы! Она пронзительнее огня!
Но песня грустная заполнила юдоль,
И жизнь моя бескрылая томится
В бездушном мире каменной темницы!
Достойны скорби вечной те напасти,
Суров и горек мой земной удел,
О как же горек вкус несчастья.
Прощайте, радостные дни,
Привет, терзания и муки,
Вы разорвали сердце мне,
Перо уже не держат руки.
Пора, пора накинуть смертный плащ,
Уж отзвенел мой скорбный плач,
И меч над головой занес палач,
О да, близка моя смерть,
Печален и страшен путь,
Так буду о смерти петь!
Злорадные и лживые наветы
Покрыли мое имя черной грязью,
И мне нечего сказать в ответ им.
Раз так несправедлив мирской судья,
Прощайте, радости, прощайте, все надежды:
Молва забросила в костер судьбы поленья,
И лживый хор мои закроет вежды,
Но я невинна и полна небесного смиренья.
Помимо молитв и сочинения баллады ее волновало еще одно земное дело. Она умоляла одну из тюремных прислужниц испросить прощения у Марии за несправедливо нанесенные ей обиды и жестокое обхождение. Анна желала покаяться перед Марией, дабы успокоить свою совесть. Служанка обещала выполнить просьбу обреченной. К пяти утра солнце озарило Белую башню, а комендант Кингстон уже чувствовал изнеможение, представляя, сколь обременительным будет грядущий день. У распорядителя казни королевы было множество забот, в том числе протокольного характера: следовало достойно принять и разместить вокруг эшафота высокопоставленных свидетелей согласно титулам и званиям; разложить в бархатные мешочки выделенные королем двадцать фунтов золотом, которые Анне положено милостиво раздать перед смертью; задрапировать эшафот черной материей. Кроме того, Кингстон до рези в глазах изучал древние хроники, где описывались казни королей, дабы не упустить какую-нибудь важную деталь.
Вдобавок он должен был встретить французского палача и ознакомить его с тонкостями протокола, проследить за подготовкой могилы и доставкой гроба… Кингстон пребывал в сильнейшем смятении, поскольку не получил указаний от короля Генриха по поводу могилы и гроба, а ведь тело королевы надо будет куда-то положить.
Он с ужасом чувствовал, что не успевает сделать все к назначенному сроку. А потом пришло утешительное известие: король перенес время казни с девяти часов утра на полдень. Но опять ни словом не упомянул о гробе!
Кингстон поспешил к Анне, чтобы сообщить об очередной задержке. Она выглядела разочарованной.
– Я надеялась, что к полудню уже буду избавлена от мучений, – печально сказала она и вдруг, бросившись к своему тюремщику, прошептала: – Я невинна! Невинна, невинна! – Анна пылко повторяла это слово, схватив Кингстона за руку и сильно сжимая ее, а потом ее настроение резко сменилось, что было ей свойственно, и она спросила: – Это очень больно?
– Нет, – вяло ответил комендант. – Все закончится мгновенно. Боли не будет, вам предстоит изысканная процедура.
Она обхватила свою шею руками.
– У меня тонкая шея! – воскликнула она. – А топор такой толстый и грубый.
– Разве вам еще не сообщили? Король постарался избавить вас от топора. Он послал во Францию за фехтовальщиком.
– Ах! – По лицу ее скользнуло легкое подобие улыбки. – Король неизменно относится ко мне как добрый суверен и благородный господин. – Она расхохоталась ужасным, пронзительным смехом, который оборвался так же внезапно, как начался. – Вы можете передать его величеству мои слова?
Кингстон кивнул.
– Скажите, что ему неизменно удавалось осыпать меня благодеяниями: возвысив мою скромную долю, он сделал меня маркизой, затем королевой, и вот, когда на земле не осталось более почетного титула, он решил подарить моей невинной душе корону святой мученицы.
И она изящно склонила голову.
– Никогда я не видел осужденных, которые ждали бы смерти с безмятежной радостью и удовольствием, – пораженный силой ее духа, пробормотал он про себя.
Тюремщик уже направился к выходу, но его остановил ее голос.
– Господин Кингстон! Господин Кингстон! Людям ведь не составит труда подыскать для меня новое прозвище. Вероятно, теперь я стану на французский манер… la Reine Anne sans tкte… или попросту Безголовой королевой Анной!
В суеверном страхе он захлопнул за собой массивную дубовую дверь, но она не могла заглушить резкий смех обреченной.
* * *
Все это потом рассказывал мне сам комендант. А на казни я присутствовал вместо короля. К полудню Генрих облачился во все белое. Я не осмелился спросить почему, но он выбирал одежду с такой скрупулезной сосредоточенностью, словно исполнял тайный ритуал. Он вел совершенно затворническую жизнь последние три дня, начиная с казни пятерых придворных и заканчивая ветреным грозовым днем, когда ожидалось прибытие фехтовальщика из обители Святого Омера, но корабль из Кале задержался. А теперь Гарри дотошно и методично готовился нарушить уединение. Он держался невозмутимо, но меня потряс его вид. За эти три дня он постарел лет на десять.
– Сходи туда вместо меня, – велел он. (Не имело смысла уточнять, куда именно он посылает меня.) – Да держи там глаза и уши открытыми. Потом все мне расскажешь. Я отправлюсь в Вестминстер. Возможно, проедусь верхом.
Да, свежим майским утром любо-дорого прогуляться, луга уже приукрасились цветущими фиалками и мятой. А с юга дул теплый ветерок.
Для смерти в такое утро потребуется исключительное мужество.
* * *
В полдень открылась дверь покоев королевы, и Анна вышла в сопровождении своих единственных подруг, сестры Томаса Уайетта и Маргарет Ли. Безупречный и изысканный наряд напомнил всем об уникальной способности королевы – при желании излучать красоту. Нас поразили и румянец ее щек, и сияние глаз; она выглядела цветущей и оживленной в сравнении с собравшимися на лужайке людьми. Лица у них были скорбными.
Дабы облегчить задачу палачу, она надела платье с глубоким вырезом, выставив напоказ тонкую шею.
Приподняв юбки, Анна осторожно взошла на эшафот и величественно взглянула на нас, словно собиралась обратиться к членам парламента.
Перед ней стояла массивная деревянная колода с чашеобразной выемкой для подбородка и четырехдюймовым желобом для шеи. У подножия лежал слой соломы, предназначенный для изливающейся крови.
Справа от Анны стройный, атлетически сложенный француз опирался на стальной меч. Слева топтались его помощники, им предстояла скверная работенка по выносу обезглавленного тела. Приготовили и отрез черной ткани, чтобы покрыть его. Палач и его подмастерья встретили королеву улыбками.
Небесная высь радовала ясной, без единого облачка, синевой. Треклятые птицы, недавно вернувшиеся из южных стран, заливисто щебетали, словно щеголяя безграничной свободой и беззаботным равнодушием к происходящему.
– Добрые христиане, – начала Анна, – я готова умереть, ибо закон осудил меня на смерть и я не вправе противиться приговору.
Ее звонкий голос взмывал в вышину, казалось, она смотрела в глаза каждого свидетеля. Королева взглянула прямо на меня, и в то же мгновение я вспомнил – более того, мысленно увидел в ярчайших подробностях – все моменты наших с ней встреч.
– Я предстала перед вами, готовая умереть, – повторила она, печальным взором окинув собравшихся, – смиряясь с волей моего господина и короля. – Я молю Бога хранить короля и ниспослать ему долгое царствование, ибо не знала еще земля наша более доброго и милосердного правителя. Для меня он навсегда останется щедрым и благородным сувереном.
Ее речь выражала почтительность, но в ней сквозили ирония и насмешка. Прозвучало и ее послание, которое Кингстон так и не посмел передать королю. Анна же хотела убедиться, что оно достигнет ушей Генриха.
Закрыв глаза, она умолкла, словно решила, что пора заканчивать.
– Если кого-то заинтересует моя судьба, то я требую, чтобы судили меня по законам высшей справедливости. И, покидая сей мир, я искренне прошу всех вас помолиться за меня.
Она завершила прощальную речь. В ней не было протеста оскорбленной невинности, упоминаний о дочери, благочестивых проповедей, шуток. Анна спланировала свой последний выход так же изысканно, как празднества и костюмированные представления: лишенная чьей-либо помощи, она разыграла сцену, исполненную незабываемой хрупкой красоты.
Повернувшись к своим фрейлинами, Анна наделила их памятными дарами – изящными молитвенниками в черных переплетах, украшенных финифтью, золотом и ее личными пожеланиями.
С полнейшим спокойствием королева сняла головной убор и ожерелье, готовясь к последнему акту трагедии. Отказавшись от черной повязки, она просто закрыла глаза и опустилась на колени перед плахой.