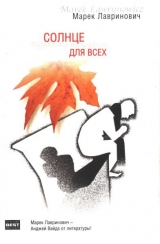
Текст книги "Солнце для всех"
Автор книги: Марек Лавринович
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц)
Марек Лавринович
Солнце для всех
Благодарю доктора Дариуша Василевского за помощь, оказанную мне во время работы над этим романом, а также Фонд содействия творчеству за финансовую поддержку.
Этот роман – вымысел.
Любое сходство с реальными людьми и событиями является случайным.
Глава первая
ПАРК
Двадцать девятого августа стояла солнечная погода. Нависавшие последние несколько дней над Варшавой тучи переместились на восток, земля высохла, а вместе с ней и выкрашенные в ярко-зеленый цвет скамейки. В том, что Уяздовский парк заполнился людьми, не было ничего удивительного. Как обычно, это были молодые мамаши и пенсионеры. Мамочки склонялись над детьми, а пенсионеры – под грузом своего возраста. Этот день не отличался бы от остальных, если бы не мужчина лет сорока, устроившийся на скамейке возле пруда с лебедями.
Похоже, он сидел там с самого открытия парка, поскольку никто не помнил, когда он пришел. На аллеях было немноголюдно, никто не присел рядом с ним и не заговорил.
Около десяти утра мужчина забеспокоился, затем резко поднялся и стал оглядываться. На него обратили внимание, и он снова сел. Через какое-то мгновение он опять встал и дошел до маленького мостика, переброшенного над протокой, соединяющей два пруда. Он облокотился на поручень и стал всматриваться в водную гладь. Пенсионеры перешептывались, а самые мнительные мамаши удалились в глубь парка. Спустя некоторое время мужчина вернулся к скамейке. Он погрузился в свои мысли, но потом заинтересовался сидящими неподалеку людьми. Его взгляд задержался на пожилой женщине в трауре, присевшей на соседнюю скамейку с книжкой в руке. По обложке, на которой была изображена красотка, прижимавшаяся к красавцу, нетрудно было догадаться: дама в трауре читает о любви.
Женщина почувствовала на себе взгляд незнакомого мужчины. Она отложила книгу и с любопытством посмотрела на него. В его облике не было ничего настораживающего, поэтому она добродушно поинтересовалась:
– Вы хотите мне что-то сказать?
Мужчина смутился.
– Да… То есть…
Он встал и присел рядом с пожилой женщиной.
– Со мной что-то произошло… Что-то очень странное…
– Расскажите мне. Кто вы и что здесь делаете?
Мужчина стал объяснять, но так сбивчиво, что пожилой женщине немного удалось понять. Однако постепенно из паутины слов стала вырисовываться действительно странная история.
Незнакомец, по его словам, «очнулся» именно на скамейке в Уяздовском парке, не знал, кто он и что здесь делает, не мог вспомнить ни города, ни людей. Он был глубоко потрясен. Дама в трауре решила, что мужчина болен и ему нужно обратиться к врачу.
– Вы знаете… – В ее голосе звучало участие. – Здесь неподалеку станция «Скорой помощи». Там вам помогут.
– Да, да, – согласился мужчина.
Пожилая женщина встала, аккуратно убрала книгу в сумку и направилась в сторону ворот. Мужчина послушно последовал за ней.
Они вышли на Уяздовские аллеи, а поскольку как раз в тот момент загорелся зеленый свет светофора, перешли на другую сторону улицы и, миновав забор американского посольства, оказались на Пенькной улице.
Автомобили стояли в пробке, отравляя воздух выхлопными газами. Водители злились, без конца сигналили, в отчаянии пытались свернуть в один из переулков и кляли на чем свет стоит лавирующих между неподвижными машинами велосипедистов. Больной не обращал на все это внимания. Пожилая дама пришла к выводу, что он, вероятнее всего, житель большого города, не обязательно Варшавы.
Они повернули на улицу Кручей. Им навстречу шла толпа болельщиков варшавской «Легии», скандирующая лозунги против «Видзева». Дама немного испугалась, но сопровождавший ее мужчина без интереса окинул взглядом колонну бритых налысо юношей. Они не вызвали у него никаких опасений.
Без приключений миновав болельщиков, они вышли на улицу Хожа и, протискиваясь между стоящими в заторе машинами, добрались до станции «Скорой помощи».
Сидящая в регистратуре женщина, похожая на Бриджит Джонс, но одетая как монахиня-целестинка, рассматривала свои ногти. Она как можно дольше старалась не замечать пожилой женщины и следовавшего за ней больного. Наконец, не отрываясь от созерцания собственного маникюра, сонным голосом осведомилась:
– Что случилось?
Пожилая женщина поспешила объяснить. Куклоподобная регистраторша что-то написала в лежащей на столе тетради.
– Кабинет номер три, – пробормотала она. – Ждите вызова.
И снова уставилась на свои красные, как банка «кока-колы», ногти.
В кабинет номер три была большая очередь. Здесь ждали вызова жертвы несчастных случаев, заботливо придерживавшие сломанные руки и ноги, участники драк со свернутыми челюстями и женщины, судя по всему, подавшие своим мужьям не тот суп, который нужно, – они скрывали темными очками синяки под глазами.
В этой обстановке всеобщих неприятностей наш герой почувствовал себя бодрее. Он вольготно вытянул ноги, прислонил голову к покрашенной серо-бурой краской стене и, переведя дух, закрыл глаза.
Прошло пятнадцать минут, дверь кабинета не дрогнула. Пожилая дама нервно ерзала на стуле. Когда прошло еще десять минут, она не выдержала, нагнулась к мужчине и прошептала:
– Простите, но мне пора идти.
– Ну да… понимаю…
– В этом нет ничего сложного, – смутилась она. – Просто войдете в кабинет, и там вами займутся.
– Да… спасибо…
– Всего наилучшего. Удачи…
Женщина встала и семенящими шажками прошла мимо шеренги переломанных и побитых. Полная регистраторша проводила ее недовольным взглядом. Дама сошла по ступеням и исчезла.
В то самое мгновение дверь кабинета номер три приоткрылась и кто-то крикнул:
– Емелек!!!
Толстяк, сидевший справа от нашего героя, вскочил с места и, поддерживаемый сопровождавшими его членами семьи, прихрамывая и волоча за собой сломанную ногу, направился к двери.
Кабинет ожил. Каждую минуту звучала чья-нибудь фамилия, и очередной пострадавший пропадал за дверью. Оттуда раздавались отчаянные крики, затем больные выходили, следовали в другие кабинеты и после накладывания гипса или укола ковыляли к лестнице и выходили на улицу Хожа. Иногда санитары вкатывали в приемную носилки, на которых, перевязанный окровавленными бинтами, лежал кто-нибудь. Лифт увозил пациентов наверх, в хирургическое отделение. Несколько раз мимо двери процедурного кабинета прошел ксендз, спешащий принять последнее причастие.
Мужчина из парка наблюдал за происходящим с большим интересом. Он перестал бояться. Двери снова заскрипели, и чей-то фальцет воскликнул:
– Безымянный!
Никто не встал.
– Безымянный!!! – раздался разгневанный окрик.
Он понял, что речь идет о нем. Встал и поспешил в кабинет.
За столом сидел молодой врач с усталыми глазами. Взглянув на вошедшего, он склонился над бумагами.
– Вы ничего не помните, верно?
– Да.
– Что еще? Головная боль, тошнота?
– Нет.
– Слабость?
– Нет.
– Страхи?
– Да. Я боюсь.
– Чего?
– Не знаю.
– Та-ак… – протянул доктор. – Нет, мы ничем не сможем вам помочь. Вам надо в неврологию. Присядьте в коридоре и подождите. Прушковский!!!
Наш герой вернулся на свое место и стал ждать. Прошло пятнадцать минут, полчаса, час. Он закрыл глаза и провалился в сон.
Вдруг кто-то схватил его за плечи и приподнял. Он открыл глаза и увидел двух высоких санитаров, пытавшихся посадить его в инвалидное кресло.
– Спокойно, – сказал старший. – Ничего страшного. Мы забираем вас в больницу.
– Я могу идти сам.
– Можете, но не должны, – улыбнулся санитар. – Вези товар, Владек.
Коляска покатилась по коридору. Регистраторша оторвала взгляд от ногтей, высунулась в окошко и лучезарно улыбнулась тому, которого звали Владеком. Коляску спустили с лестницы и остановили перед сияющей «скорой помощью». Больной осторожно пересел в машину.
– Ложитесь, – приказал Владек.
– А сидеть нельзя?
– Нет. Вы лежите, мы сидим. Таков мировой порядок. Ясно?
Машина слегка затряслась, повернула на Маршалковскую и стала маневрировать между стоящими в заторе машинами.
– Заводи, Антось! – крикнул Владек водителю.
– Зачем? Ведь больной не буянит.
– Попробовал бы, – сказал Владек. – А может, ему нравится, когда сирена воет. А? Любишь сирену «скорой помощи»?
– Люблю, – на всякий случай согласился больной.
– Вот видишь, Антось! Человек не знает, как его зовут, но знает, что ему нравится сирена. Так и должно быть. Мне тоже сирена нравится, приятель. Ну, Антось, врубай!
Сирена завыла, и другие машины поспешно потеснились к обочине. Водитель прибавил газу, опередил отъезжающий от стоянки трамвай и, успев проскочить на светофоре, выехал на свободный участок дороги.
Владек откинулся на спинку сиденья, в его глазах блестели слезы.
– Всегда волнуюсь, когда слышу сирену, – объяснил он. – С самого детства.
И утер слезы рукавом халата.
В отделении неврологии царили тишина и покой. Больные лежали в кроватях или медленно прогуливались по коридору. Если в двух словах, то это были пациенты, имеющие проблемы с мозгами.
Для врачей третьего тысячелетия человеческий организм не представляет собой большой тайны. Они знают, как он функционирует, им все известно о болезнях, знают они и то, что лечение рано или поздно окажется фатальным. Доктора разными способами стараются оттянуть катастрофу, и нередко это им удается.
Но с головой дела обстоят иначе. Понятно, что там, внутри, какие происходят процессы, но даже самых опытных врачей то и дело подстерегают сюрпризы. Сначала специалисты пытаются поставить диагноз, а потом в отчаянии рассылают электронные письма, в надежде, что кто-то на другом конце света имел дело с подобным случаем.
Больные, в головах которых «что-то не так», часто превращаются в странных существ, лишь отдаленно напоминающих людей. Конечно, неврологи знают о людях больше, чем остальные, но это знание, увы, их не обнадеживает.
Одним из таких опытных, утративших иллюзии специалистов был доктор Ястжембский, к которому и препроводили бального из парка. Врач выслушал санитаров, ознакомился с мнением врача «скорой помощи» и, внимательно осмотрев больного, тихо, участливо спросил его:
– Итак, дорогой мой, что же с вами произошло?
Голос и манера речи Ястжембского, а особенно обращение «дорогой мой» расположили нашего героя поделиться с доктором своими переживаниями, рассказать обо всем, что с ним случилось. Врач не прерывал его и ни о чем не спрашивал. Больной говорил путано, но, заметив, что врача не смущает его галиматья, подробно описал пожилую даму, женщину в регистратуре и толстяка Емелека. У него самого пошла голова кругом, и он замолк на полуслове.
– Ну, что ж, мой дорогой, – начал Ястжембский. – С вами приключилась неприятная вещь, но не такая уникальная, как вы полагаете. Идите в палату, поужинайте и ложитесь спать. А завтра мы изучим ваш мозг. Вернее, будем исследовать его разными способами какое-то время. Вы ведь никуда не спешите?
– Никуда.
Доктор нажал кнопку на столе. Через мгновение в кабинет вошла высокая, стройная медсестра.
– В четвертую. Понаблюдаем, обследуем, – сказал доктор.
Больной встал и поплелся за медсестрой. Кровать в палате была аккуратно застелена, на одеяле лежала не слишком элегантная, но чистая и приятно пахнущая больничная пижама. Он переоделся, залез под одеяло и сразу уснул.
На следующий день врачи разных специальностей стали изучать мозг нашего героя. Они исследовали его долго, вдумчиво, так, что основательно замучили пациента. После медицинских процедур в палату зашел доктор Ястжембский и, мило улыбаясь, поинтересовался, нет ли у больного каких-нибудь пожеланий. После двух дней пребывания в больнице пациент воспользовался случаем, чтобы выразить одно свое соображение.
– У меня просьба, пан доктор.
– Слушаю.
– Здесь у всех есть имена и фамилии, и только я один безымянный пациент. Это вызывает затруднения, когда врачи вызывают меня на обследование. Не могли бы вы меня как-нибудь назвать?
– Хм-м… – Ястжембский задумался. – Имена обычно дают человеку родители, а регистрирует их отдел записи актов гражданского состояния. К сожалению, я не прихожусь вам отцом, что, впрочем, было бы невозможно по причине возраста. Сожалею также, что не являюсь служащим загса.
– Но без имени и фамилии очень сложно жить.
– У вас, определенно, есть имя и фамилия. Я не теряю надежды на то, что вы в скором времени их вспомните.
– Может, мне дать временное имя?
– Я поговорю с заведующим, – сказал Ястжембский. – Не такая уж это нелепая мысль.
И вышел.
На следующий день, когда наш герой лежал на спине, гадая, что подадут сегодня на обед, послышались звонок, затем шаги и приглушенный женский смех. Дверь открылась, в палату вошел доктор Ястжембский в халате, надетом задом наперед, а за ним две прелестные, без конца хихикающие медсестры и пухлый дежурный с пластиковым ведерком.
– Дорогой мой, – выразительно сказал доктор. – Я передал твою просьбу заведующему отделением, и он дал добро. Присядь.
Больной сел на кровати.
– Твоя новая жизнь началась двадцать девятого августа. В этот день почитаются многие святые, но прежде всего Ян и Сабина. Поэтому, как твой лечащий врач, нарекаю тебя Яном.
Дежурный поднес ведро Ястжембскому, доктор опустил в него обе руки и плеснул теплой водой на больного и его кровать, стоящую рядом тумбочку и подоконник. Красавицы медсестры присели на кровать и стали целовать его в мокрые щечки. Любопытные пациенты, стоящие в дверях, хлопали и выкрикивали поздравления. В этой суматохе все прослушали гонг, возвещающий об обеде, никто не обратил внимания на скрип развозящей суп тележки, медленно проплывающей по коридору. Ибо что значит даже самый восхитительный суп по сравнению с рождением человека.
Наш герой лежал в кровати и чувствовал себя счастливым. Он больше не был бог знает кем. На его медицинской карте толстым фломастером были написаны две самые замечательные буквы: ЯН.
Несколько дней спустя прелестная медсестра проводила Яна в кабинет Ястжембского. Доктор, обычно отпускающий добрые шутки, задумчиво разглядывал стопку рентгеновских и томографических снимков. Увидев Яна, он вынул из вороха снимок, на котором выделялось разноцветное пятно, и сказал:
– Это ваш мозг. Что вы об этом думаете?
Ян внимательно посмотрел на изображение.
– Симпатично выглядит.
– Слишком симпатично, – грустно подтвердил Ястжембский. – Вот, взгляните на эти папки. – Доктор указал на забитую бумагам полку. – Здесь информация приблизительно по ста мозгам, и в каждом из них что-то не так. А в вашем ничегошеньки нет.
– Ничего? – испугался Ян.
– Ничего, что могло бы указывать на какое-то отклонение или очаг болезни. Я более десяти лет не видел такого идеального мозга.
– Простите… – пробормотал Ян. – Это вас огорчает?
– Да. Не буду скрывать, я огорчен.
– Почему?
– Видите ли, пан Ян, я вот уже два года ищу мозг для исследования и защиты диссертации. В неврологии это непростая задача, и любой мозг не подходит для этой цели. Я надеялся, что именно ваш мозг настоящая находка. А вы меня подвели.
– Простите.
– Это, конечно, не ваша вина. Вначале с точки зрения неврологии ваш случай представлялся исключительно любопытным. Жаль, дорогой друг, очень жаль.
– И что теперь со мной будет?
– Ну что ж… – Доктор беспечно сгреб бумаги в сторону. – Вам незачем оставаться в нашем отделении.
Ян растерялся. Он привязался к доктору Ястжембскому, а теперь из-за дурацкого мозга все к черту.
– Но куда я пойду?
– Ясное дело, мы не оставим вас в таком состоянии. Вас переведут в психиатрическое отделение.
– В психиатрическое? Но я ведь не сумасшедший.
– С точки зрения поведения и мышления, определенно, нет. Я бы даже сказал, что вы удивительно выдержанный человек. Однако вы ничего не помните. Неврологические изменения исключены, следовательно, ваше состояние имеет психическую подоплеку. К тому же там не так уж плохо. Замечательные врачи, интересные случаи.
– Но здесь мне дали имя, – сказал Ян.
– Послушайте! – воскликнул Ястжембский. – Знаете ли вы, что все наши больные мечтают выписаться отсюда?
– Нет…
– Поэтому вы поедете в психиатрическую клинику. Всего вам наилучшего в новой жизни.
В тот же день Ян покинул неврологическое отделение. Шел дождь, машина «скорой помощи» миновала несколько улиц, въехала за большие металлические ворота, объехала клумбу и остановилась перед белой дверью с зарешеченным стеклом.
В приемном отделении Яна уже ждали. Доктор взял его бумаги, долго заполнял специальную карточку, потом дал знак рукой высокому могучему санитару, который выглядывал в окно и ковырял в зубах, и сказал:
– Отделение 3 «Б».
Дежурный врач, который должен был принять Яна, спал. Худая, нервная медсестра долго хлопала его по плечу, прежде чем врач, протяжно зевая, сел за стол и стал изучать принесенные санитаром бумаги.
– Значит, вы ничего не помните? – спросил он и зевнул так широко, что можно было рассмотреть его миндалины.
– Не помню, – подтвердил Ян.
– Это, без сомнения, истерия, – махнул рукой врач. – Зачем вам нужно закатывать истерику и морочить всем голову?
Ян не знал, что сказать.
– Надеюсь, что вам по крайней мере стыдно?
– Стыдно.
– Это хорошо. Идите в седьмую палату к Пианисту. Полагаю, вы спокойный?
– Я очень спокойный.
– Прекрасно, потому что он, в отличие от вас, не очень спокойный. Лучше его не нервировать.
– Не буду.
– Не следует также затрагивать некоторые темы.
– Не стану.
– Если ночью он будет плакать, не надо его успокаивать.
– Почему? Ведь в таком случае положено утешить человека.
– Напротив. Во-первых, это не имеет смысла, поскольку его невозможно утешить, во-вторых, подобные попытки вызовут лишь большее расстройство чувств и рыдания. Так как, не будете его успокаивать?
– Не буду.
– Для истерика вы слишком рассудительны. Пани Аня, проводите больного в палату и выдайте ему все необходимое.
Худощавая медсестра встала из-за стола и направилась к двери. Они вышли в коридор. Стены были покрашены серой краской, а пол покрыт когда-то зеленым линолеумом. Но не столько обстановка привлекла внимание Яна, сколько многочисленные больные, разгуливающие по коридору.
В отделении 3 «Б» как раз проходила ежедневная прогулка. Мужчины и женщины странного вида с неподвижными, иногда напряженными лицами организованно передвигались по коридору. Некоторые прогуливались группами, другие в одиночку, на большом расстоянии от остальных. У стен на стульях сидели молодые мужчины и женщины, погруженные в свои мысли и сжимающие руки. Это очень заинтересовало Яна, хотя он не мог как следует все рассмотреть, потому что нервная медсестра свернула в узкий боковой коридор и открыла дверь одной из палат. Это была комната под номером семь.
Палата с первого взгляда понравилась Яну. Из зарешеченного окна можно было увидеть дерево и кусочек неба. Вдоль стен стояли три кровати. Две были свободны, а на третьей, лицом к окну, лежал худощавый мужчина.
– Здравствуйте, – сказал Ян.
Мужчина не ответил. Медсестра постелила белье, дала Яну пижаму, затем вытащила из металлического шкафчика небольшой стаканчик и бросила в него несколько таблеток разной величины. Потом она вышла и вернулась с кружкой прохладного горького кофе. Ян выпил таблетки, лег в кровать и как-то странно себя почувствовал. Ему захотелось встать, поговорить с лежащим к нему спиной мужчиной, но его сморил глубокий, тяжелый сон.
Глава вторая
ПИАНИСТ
Когда он проснулся, на улице наступили сумерки. Худощавый мужчина больше не смотрел в окно, он сидел на кровати и с большим интересом разглядывал Яна. Это был молодой человек, по виду лет двадцати двух, с тонкими чертами лица и огромными темными глазами. Увидев, что Ян проснулся, мужчина встал и протянул ему руку.
– Я Роберт, – представился он. – Меня называют Пианистом.
– Ян.
– Я так счастлив, что вы здесь. Я целую неделю был один. В этом есть свои преимущества, никто не беспокоит, можно спокойно размышлять… все, как говорится, прекрасно, но лишь до тех пор, пока не наступят сумерки, а вслед за ними ночь. Это так ужасно, что я с трудом сдерживался, чтобы не закричать. Вы также тяжело переносите сумерки?
– Нет… пожалуй, нет…
– Хорошо, потому что ваше беспокойство могло бы усугубить мое состояние. Вы ведь поможете мне с этим справиться?
– С радостью помогу.
– Как хорошо, что вы здесь. А что с вами? Надеюсь, вы не буйный сумасшедший?
– Нет, конечно, – улыбнулся Ян. – Ничего подобного. Я просто ничего не помню.
– Амнезия… – закивал Пианист. – Наверняка на почве истерии, иначе бы вас сюда не привезли. Печальная история.
– Да, – согласился Ян. – Очень.
Мгновение они сидели молча, потом Пианист сказал:
– Если у вас амнезия, значит, вы ничего не можете рассказать мне о себе, да?
– К сожалению.
– Жаль. Такие разговоры здесь обычно одна из форм развлечения. Ну, раз вы ничего не помните, я буду рассказывать вам свою историю.
– Если вы не хотите, можете этого не делать.
– Я не смогу удержаться, так зачем откладывать? Видите ли, мы, психически больные люди, склонны рассказывать истории. Врачи это любят. А поскольку мы не можем удержаться от того, чтобы не рассказывать, то они не могут не слушать нас. Они очарованы нашими историями и, как дети, ждут новых рассказов. Больной должен изрядно помучиться, чтобы доставить им удовольствие.
Ян молчал, потому что не успел заметить, чтобы врачи особенно интересовались мыслями своих пациентов.
Пианист, ничуть не смущенный молчанием Яна, продолжал:
– Вам нужно знать, что мои родители были музыкантами, играли в скрипичном квартете, мама на скрипке, а отец на виолончели. Может, это и не был выдающийся квартет, но все члены коллектива много работали, целыми днями репетировали, и в конце концов их усилия стали приносить результат. Квартет пригласили сыграть цикл концертов в разных городах Европы. Это известие ансамбль отметил целым ящиком шампанского, и в ту же ночь я был зачат, можно сказать, на гребне успеха.
– Счастливое совпадение.
– Как оказалось, не слишком. Конечно, турне имело успех, за ним последовало новое приглашение, и еще одно. Квартет становился знаменитым. К сожалению, я быстро рос в мамином животе. Квартет переезжал из одного города в другой, за окнами автомобилей проплывали красивейшие архитектурные сооружения, в лучших залах проходили концерты, которые жаждала услышать публика, а мама целыми днями лежала в отелях Европы и тихо стонала. Мое существование мешало ей спать или не позволяло сконцентрироваться. Я доставлял одни огорчения.
– Грустно.
– Тогда, к счастью, я этого не понимал. Узнал об этом много лет спустя. Надо признать, мой отец в то время вел себя очень достойно. Он сидел с мамой в гостиничных номерах, поил ее чаем, держал за руку, по вечерам играл старинные колыбельные. Нужно сказать, что моя мама была лучшим музыкантом и на ней держался успех всего коллектива. Однако по мере того, как я рос, мама утрачивала свою виртуозность. Рецензии на концерты становились все хуже. В конце концов менеджер, организовавший турне, решил отложить выступления ради общего блага. Мы вернулись домой, мама наконец устроилась в своей кровати, и через три месяца я появился на свет.
– Ваши родители ведь могли вернуться в музыку?
– К сожалению, оказалось, что это не так просто. Я почти с первых дней жизни болел. Мама целыми ночами просиживала возле моей кроватки, ее глаза были красными от усталости. Она перестала репетировать, все время прислушивалась к тому, как я дышу, не кашляю ли, не простудился ли, не плачу ли по какому-либо поводу. А я кашлял, простужался, задыхался и беспричинно плакал. Маму в конце концов заменила другая скрипачка, и отец отправился с квартетом в гастрольное турне. Но ему было не по себе. Его ничто не радовало: ни успех концертов, ни красота городов, в которых они выступали. Он скучал по нас, поэтому отказался от следующего турне. Так закончилась музыкальная карьера моих родителей.
– Они перестали играть?
– Нет, но уже было не то. Отец, чтобы не оставлять нас надолго одних, устроился музыкантом в ресторан. Он возвращался с работы под утро, садился возле моей кровати и тихо пел колыбельные. Я несколько раз просыпался, когда он пел, но делал вид, что сплю.
На работе у отца не ладилось. Сначала его приняли с восхищением, затем стали относиться все хуже и хуже. Отец мой – тонкий, ранимый человек, не привыкший идти напролом. Однако в среде ресторанных музыкантов было принято не гнушаться любыми средствами, знать, с кем пить водку, а с кем не пить, кого из гостей выделить, а кого не заметить. Отец погибал в этом окружении. Несмотря на то что он продолжал великолепно играть, коллеги не любили его, а может, именно поэтому. Он начал выпивать. Сначала немного, рюмочку, другую, «для наркоза», как он говорил, а потом все больше и больше. Дошло до того, что он стал возвращаться из ресторана едва держась на ногах, долго спал, а проснувшись, тянулся за бутылкой, чтобы опохмелиться, и неуверенным шагом отправлялся на работу. Во время игры он совершал странные ошибки, путал мелодии, забывал, где находится, ни с того ни с сего останавливался, вставал и требовал от публики аплодисментов. В конце концов – иначе быть не могло – его уволили. Он целыми днями лежал на диване, пил или отсыпался.
К счастью, в то время я перестал болеть, и мама смогла пойти на работу. Она устроилась учителем музыки в школу, и – о чудо! – эта деятельность стала приносить ей радость и удовлетворение. Моя мама – миниатюрная, хрупкая женщина – говорит почти шепотом и выглядит так, будто хотела бы тотчас исчезнуть. Но на ее уроках никто не болтает, не мешает, ученики очарованно слушают маму. Она умеет говорить о музыке так, словно это самая интересная вещь на свете. Ну, и играет она по-прежнему замечательно, но лишь для своих подопечных. Хотя ее многократно просили выступить, она всякий раз отказывалась принять участие в настоящем концерте. Многие ее ученики стали музыкантами, присылают ей письма, иногда приезжают, чтобы рассказать о своих успехах. Мама живет в благословенном мире, ей можно только позавидовать.
Поскольку отец думал только об алкоголе, мама стала брать меня с собой в школу. Я сидел на ее уроках с серьезным выражением лица и слушал. На переменках я подходил к стоящему в классе пианино и что-то наигрывал. Неизвестно, когда из моих чудачеств получилась музыка.
Мама сначала этого не осознала. Учительница польского языка обратила ее внимание на мою игру. Мне было пять лет, и вдруг я стал Моцартом. Конечно, на уровне начальной школы в небольшом городке под Варшавой. Во время одного из выступлений маминых учеников на сцену вышел и я, одетый в коротковатый темный костюм и с бабочкой в большую черную горошину. Увидев меня, зал покатился со смеху, но когда я стал играть, воцарилась тишина. А потом… потом только овации… овации… овации.
Я никогда не забуду тот день. Если ребенок хоть раз услышит такие аплодисменты в свою честь, он всегда будет жаждать успеха и славы и, может, поэтому обречен быть всю жизнь несчастным. Так нередко случается. Но в тот день все было чудесно. Глаза мамы блестели от слез радости, мой отец, почти трезвый, сидел на лавочке в спортзале и тоже плакал. Да, мой дорогой, плакал, не стыдясь, да чего, собственно, тут стыдиться.
Наступило счастливое время. Отец лег в больницу, чтобы пройти лечение от алкоголизма. Маме повысили зарплату. А я стал самым известным человеком в городке. На улице меня все узнавали, приглашали в гости, угощали, одаривали конфетками. Дивная, дивная жизнь.
Мама, однако, была слишком благоразумна, чтобы поддаться всеобщему обожанию. Она начала меня учить, ограничила мои выступления и заставила работать. Какая же замечательная преподавательница моя мама! Я знакомился с новыми эпохами, выдающимися композиторами, родители все свободные деньги тратили на пластинки, чтобы я мог слушать лучших исполнителей, мы ездили на концерты в Варшавскую филармонию. Отец бросил пить Он стал дирижером духового оркестра городской добровольной пожарной охраны, и в доме впервые появились деньги. Родители заняли дополнительную сумму, и посреди нашей захламленной гостиной встал великолепный концертный рояль. С того дня он стал центром нашего маленького мира.
Я целую ночь мог бы рассказывать, что было потом. Начальная, средняя музыкальная школа, училище. Череда успехов. Где бы я ни появлялся, везде был лучшим. Я к этому привык. Но пришло время первого большого конкурса, который должен был окончательно определить мою дальнейшую судьбу.
На конкурсе было пятеро поляков. Кроме меня, двое юношей и две девушки. Я знал их всех по музыкальной школе или концертам. Впервые я был поражен, когда мне в руки попала программка, изданная по случаю проведения нашего конкурса, в которой я прочитал биографии моих конкурентов. Мы были похожи. Все были детьми музыкантов. Четырех-пятилетним, иногда лет в шесть, каждый из нас становился вторым Моцартом. Мы все учились в музыкальных школах, и каждый был лучшим в своей. Но в конкурсе мог быть только один победитель, остальные отходили в небытие. Я был потрясен, потрясен до глубины души.
В день прослушивания, когда я, дрожащий, стоял у запыленного занавеса, ко мне подошла мама. Она встала рядом, очень близко, и шепнула мне на ухо:
– На самом деле никого из тех людей в зале нет. Они тебе снятся. В зале буду только я.
– Только ты?
– Да. Даже отца не будет. Только мы двое. Ты и я. В то же мгновение кто-то на сцене громко и отчетливо произнес мою фамилию. Мама легонько подтолкнула меня, и я, спотыкаясь от волнения, пошел в сторону сияющего в свете прожекторов рояля.
Я закрыл глаза и играл только для нее. Со всей любовью, которая во мне накопилась за эти годы. Я заслушался, забылся, в реальность меня вернули аплодисменты. Долгие, неумолкающие овации. Я кланялся бог знает сколько раз, пока не убежал за кулисы, счастливый, словно уносящийся в небеса. На предназначенной для хора скамье сидели мои соперники. Они знали, что я победил. В их глазах была ненависть. Тогда я не обратил на это внимания, пробежал мимо них к выходу, легкий, счастливый, победитель.
Благодаря конкурсу я стал знаменитым. Выступал в разных городах, публика продолжала восхищаться моей игрой. Я забыл о соперниках. Они, вероятно, затерялись на концертах в провинции. Я был королем. Подписывал контракты, записывал пластинки, начал строить комфортабельный дом для родителей. И тогда соперники неожиданно вернулись.
Это случилось в Штутгарте. Был знойный день, и я с самого утра чувствовал усталость и странное волнение. Я пораньше вышел на сцену, чтобы немного поиграть и успокоиться, но это не помогло. Наконец пришла пора концерта. Я старался играть так хорошо, как только способен, но чувствовал, что интерпретация мне не удается. Публика тоже это поняла, аплодисменты были короткими и лишенными энтузиазма. Анджей, мой менеджер, похлопал меня по плечу в знак утешения и заметил, что у каждого случаются такие дни. Я уселся в кресло в артистической гримерке. Мне не хотелось шевелиться. Затих шум за дверью, я на мгновение вздремнул, а когда очнулся, уже совсем стемнело. Я вышел из гримерки и увидел их. На скамье в другой половине коридора, как и тогда, во время конкурса, сидела та самая четверка. Они выглядели так, словно на них осела изрядная доля пыли, только глаза, по-прежнему полные ненависти, горели в полумраке. Секунду я думал, не подойти ли к ним, не поинтересоваться ли, как у них идут дела, но потом, сам не знаю почему, молча прошел мимо и вышел в привратницкую, где портье при свете лампы читал газету. Я попрощался с ним и с облегчением выбежал на улицу.







