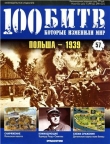Текст книги "Белый флаг над Кефаллинией"
Автор книги: Марчелло Вентури
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)
2
Желали они этого или нет, но немцам тоже пришлось дожидаться рассвета.
«Надо выиграть время», – решил подполковник Ганс Барге.
Между тем, сидя в одной из комнат штаба, расположившегося в Аргостолионском коммерческом училище около площади Валианос, он отдал приказ перебросить некоторые средства усиления в другое место; по мнению подполковника, на случай атаки итальянцев дислокация была неудачной. Зазвонил полевой телефон, и несколько (из десяти имевшихся в распоряжении подполковника) танков двинулись вниз по дороге Ликсури – Аргостолион. Неуклюжие приземистые громадины с вырисовывающимися на фоне утреннего неба башенками и устремленными к звездам жерлами пушек со скрежетом поползли по безмолвным лугам и оливковым рощам.
Немецкий гарнизон, ничтожно малый по сравнению с итальянской дивизией, действовал, однако, как отлично слаженный механизм.
Последовала команда «стоп». Танки остановились и заняли позицию у старой мельницы, направив пушки в сторону моста. На острове вновь воцарилась тишина; это почувствовали все – Карл Риттер, капитан Пульизи, Катерина, фотограф, итальянские и немецкие солдаты, жители. Все вздохнули с облегчением, словно избавились от какого-то кошмара: «Нет, ничего не произошло».
Подполковник Ганс Барге просидел до самого утра в серой аудитории ремесленного училища. Он наблюдал в окно, как карабкался на гриву холмов сизый рассвет.
Наблюдал, как забрезжил рассвет, и генерал, командовавший итальянской дивизией. Всю ночь он безуспешно пытался связаться с «Супергрецией» или с Бриндизи, где находилось правительство. К утру он обессилел и сник: ни «Супергреция», ни Италия не отвечали на его многочисленные запросы.
Сейчас, учитывая положение, создавшееся после перемирия, он твердо придерживался мнения: надо избежать стычки, не допустить еще одного кровопролития. Это он знал твердо.
Море крови, люди, погибшие во цвете лет, солдаты, которые остались у него позади, полегли на дорогах войны, – вот что вставало кошмаром перед его покрасневшими от бессонницы глазами, когда он смотрел на ослепительный свет зари, которая загоралась все ярче и ярче над прерывистой линией холмов.
Остались лежать там, позади его генеральской машины, на полях и горах Греции, но зачем, ради чего? – спрашивал он себя. Ради кого погибли эти парни? Сегодня они вспомнились ему особенно отчетливо: они стояли здесь, рядом, как живые, на виду у этой неуютной холодной зари, которая занималась над Кефаллинией и за которой, казалось, больше нет ничего. Рушились привычные ценности: настоящего правительства нет; король бежал; союзы нарушены; кто враги, кто друзья, – не известно; осталось одно – пролитая кровь.
Видели, как занимается рассвет, и солдаты Франца Фаута, и артиллеристы капитана Пульизи. Рассвет наступал с востока и на пути своем высветлял, смывал звезды.
В эти минуты неопределенности – перехода от ночи к свету – и те, и другие зябко ежились.
Потом пришли в движение: развели огонь в полевых кухнях. Запахло суррогатным кофе – то ли из своей кухни, то ли из соседней, немецкой. После бессонной ночи приятно выпить несколько глотков горячего кофе. Громко зевая, потягиваясь, все старались разогнать усталость, размяться.
Капитан собирался ехать в штаб. Солдаты вели себя, как обычно: расхаживали вразвалку с полотенцем на шее и с котелком в руке; умываясь, фыркали, обменивались шутками.
Стоя с намыленными щеками перед зеркальцем, прикрепленным к столбику, капитан на минуту застыл, наблюдая за этими сложными и разнообразными движениями, повторявшимися бесконечное количество раз на всем острове, во всем мире, как будто увидел это впервые лишь в это памятное утро 9 сентября. «Тем же заняты сейчас и немецкие солдаты, – подумал он, – и обер-лейтенант Карл Риттер, и лейтенант Франц Фаут. И сам генерал тоже, наверное, выпив свой глоток кофе, испытал такое же физическое удовольствие, как и все. И подполковник Ганс Барге – тоже. Неужели и там, и здесь люди думают одно и то же, испытывают одинаковые чувства, одинаковый страх?»
– Синьор капитан, не отпустите ли меня навестить старуху? – попросил Джераче, вытянувшись перед начальником. В руке он держал котелок с кофе, от которого еще шел пар. Он был небрит, и белки глаз на фоне густой черной щетины выделялись больше обычного.
«Ага, – сказал себе капитан, – значит, не все думают об одном и том же». Он был доволен, что при всей схожести и синхронности движений и мыслей кто-то, например, Джераче, подумал о другом, о своей возлюбленной. Но разве сам он не думал о Катерине Париотис? Думал о ней всю ночь и желал ее. И в то же время помнил о жене, томился по ней… Какое двойственное, странное, непостижимое чувство! Но то, что он испытывал к Амалии, было больше похоже на угрызения совести, на чувство долга. Он заставлял себя думать о ней. Как будто хотел избавиться от сознания вины…
Капитан спустился в город. Джераче он оставил по дороге, возле небольшого крестьянского домика, одиноко белевшего посреди огорода и казавшегося необитаемым. Не замедляя шага, прошел мимо Виллы (ставни прикрыты, тихо, должно быть, спят еще). Добрался до площади Валианос.
Здесь он и провел первый день мира – на солнышке за столиком кафе, в прокуренных канцеляриях штаба, со стороны наблюдая суетящихся людей и развитие событий.
Вот в полном боевом облачении, сверкая новым снаряжением и пряжками, в сопровождении целого роя вооруженных автоматами мотоциклистов, появился на площади подполковник Ганс Барге. Он спокойно направился в итальянский штаб. В ответ на многочисленные приветствия он или прикладывал два пальца к козырьку, или козырял, не донося руку до фуражки. У подполковника был такой вид, будто перемирие вовсе не застало его врасплох и нисколько не настроило против бывших итальянских союзников. Дойдя до стола генерала, он щелкнул каблуками… Что было дальше, капитан не видел, так как дверь за подполковником захлопнулась.
«Скажет какую-нибудь вежливую фразу, вроде «Вижу, вы немного устали, господин генерал» или «Не желаете ли вы что-либо сообщить мне, господин генерал?» – мысленно представил себе Альдо Пульизи.
Солдаты из эскорта подполковника, не слезая с мотоциклов, остановились по обе стороны от входа, тут же, возле двух итальянских часовых.
В толпе офицеров кто-то произнес:
– Приступили к переговорам.
Около штаба, точно на базаре, толпились итальянские офицеры всех чинов и званий. Здесь тоже повторялись одни и те же жесты, мысли, слова. То, что говорилось за столиками кафе, как бы проецировалось на канцелярские столы штаба, на походные палатки на горе.
«И так не только среди итальянцев», – подумал Альдо Пульизи.
Немецкие офицеры тоже курили, улыбались; нетерпеливо, мелкими шагами расхаживали около своих автомобилей и мотоциклов, вытирали со лба пот (становилось жарко), беседовали, размышляли, думали о своем подполковнике Гансе Барге, который задерживался у генерала.
Наконец подполковник вышел из генеральского кабинета, каблуки его сапог гулко простучали по коридору. На площади раздались выкрики – приказы, заработали моторы.
Старшие офицеры принесли из штаба очередные новости:
«Соглашение достигнуто, немцы завтра покидают остров».
«Подполковник обещал содействовать соблюдению спокойствия на острове».
«Генерал пригласил офицеров немецкого штаба на завтрак».
Почти никто не заметил, как генерал сел в машину и уехал – мелькнула белая фигура, белая тень – и все. Лицо его расплывчатым пятном маячило за закрытыми стеклами. Сейчас он снова встретится с офицерами немецкого гарнизона, но на сей раз за обеденным столом. Он будет есть и пить, сидя бок о бок с бывшими союзниками, будет произносить традиционные тосты за успехи вермахта, стараясь выглядеть как можно более естественным, а про себя изыскивая способ скорее избавиться от этого противоестественного содружества. Он сейчас между двух огней: тут немцы, там – англо-американцы; там – воззвание маршала Бадольо, а рядом, в гостях, – подполковник Ганс Барге.
«Нет, не хотел бы я быть сейчас на месте генерала», – подумал Альдо Пульизи, глядя вслед генеральской машине с трепетавшими на ветру флажками.
«А может быть, – да? Оказаться на месте генерала и в разгар банкета, когда все разомлеют от обильной еды и питья, вполголоса отдать приказ об аресте немецкого командования в полном составе?»
При этой мысли он улыбнулся.
«Того и гляди, обнаружится, что Альдо Пульизи – герой, – усмехнулся он про себя. – Не лучше ли вернуться в лагерь, к своим артиллеристам, и там смирненько дожидаться дальнейших распоряжений, как тебя всегда учили? Вернись в лагерь, – сказал он себе. – Капитан Альдо Пульизи, возвращайся в лагерь и жди распоряжений вышестоящего начальства. Там, наверху, за тебя подумают; ведь всегда было кому за тебя подумать».
А сам не мог тронуться с места. Ему все еще думалось, что он может оказаться полезным здесь, на площади Валианос, даже в роли наблюдателя; опасался, что стоит ему уйти, как здесь произойдет нечто очень важное.
Кроме того, он лелеял надежду, что из-за угла вдруг покажется Катерина Париотис и пойдет через площадь…
Если она не появится, он ее навестит. Попозже, к вечеру. И свозит на мотоцикле к маяку, туда, к морским мельницам.
Однако к вечеру пришел приказ «Супергреции». Ошеломил, точно обухом по голове, мгновенно разнесся по площади, достиг столиков кафе, докатился до солдат.
Все узнали, что штаб XI армии прислал из Афин за подписью генерала Веккьярелли радиограмму, которая обязывала дивизию «Аккуи» сдать все вооружение немцам.
3
«Что же это такое – судьба?» – хотелось мне спросить Катерину Париотис.
Я хотел сказать ей, что никакой судьбы нет, а есть только приятие свершившегося факта. И не могут быть орудием судьбы ни немцы, ни народ, ни отдельно взятая личность – скажем, генерал или подполковник.
Судьба, если она действительно существует, есть не что иное, как душевное состояние человека «пост фактум» – после того, как деяние совершено. Это значит рассматривать событие по истечении известного времени, когда оно, свершившись, дает бесконечно богатую пищу для догадок о том, во что оно могло бы вылиться. Но изменить ход событий уже нельзя, и мы сознаем, что бессильны что-либо сделать.
Вот что такое судьба, хотел я ей сказать.
Признание собственного бессилия.
Но я промолчал. Крепко сцепил пальцы. Прислушался: за окном звенел детский голос, по дороге шла и что-то говорила маленькая девочка; ей отвечал мальчик, – наверное, он ехал на велосипеде, а может быть, на велосипеде ехала она: ликующий трезвон велосипедного звонка сперва приближался, потом стал отдаляться.
Катерина Париотис села, одной рукой облокотилась на стол, другой вяло приглаживала волосы.
Фотограф, выговорившись, немного угомонился. (Он долго ругал генерала за нерешительность и даже высказал предположение, что тот действовал заодно с немцами.) Устав наконец лавировать между столом и стульями, на которые он в тесноте то и дело натыкался, он уселся рядом со мной на диване, зажал свою палку в коленях и устремил взгляд вдаль, бледный от сдерживаемого возмущения.
Мы сидели вокруг чего-то, чего не было, как сидят у смертного одра.
И я понял, что в эту минуту все мы думали уже не о моем отце, а о генерале, командовавшем дивизией. Как бы там ни было, но ведь его тоже расстреляли где-то здесь, на этом острове. Ведь его кости тоже превратились в землю Кефаллинии, так же, как прах его солдат и прах моего отца. «Значит, – думал я, – никто не имеет права его осуждать. – Все мы задним умом крепки…»
Но, отвергая нападки Паскуале Лачербы, я спрашивал себя: «А как же иначе судить о человеке, если не по тому, что и как им содеяно?»
Впрочем, не мне быть судьей – ни своему отцу, ни генералу; не для того я сюда приехал.
Я поднялся, извинился за беспокойство, сказав, что не хочу злоупотреблять гостеприимством и терпением хозяев. Услышав мои слова, Катерина очнулась, взглянула на меня с удивлением, – по-видимому, тени прошлого обступили ее со всех сторон. И я почувствовал, что сейчас, здесь, в этой маленькой гостиной из душистого дерева, похожей на капитанскую рубку старого парусника, закончился краткий, а быть может и не такой уж краткий, эпизод ее жизни и что, по-видимому, виной тому я. Мое появление не было подобно шквалу: бывший капитан и его жена знали бы, как с ним справиться. Со мной в их дом проникла атмосфера штиля, подавившая их грузом своей неподвижности – неподвижности смерти.
Бывший моряк схватил меня за рукав. Глаза его, до этого такие печальные, засияли детской радостью, как у человека, счастливо избежавшего опасности.
– Послушайте, – сказал он.
И закинув кверху побуревшее от морских ветров и солнца лицо, натужив, точно индюк, шею, фальцетом запел итальянский романс.
– «Как холодна твоя ручонка», – пропел он. Потом умолк и лукаво, с хитрецой взглянул в мою сторону. Паскуале Лачерба в знак одобрения захлопал в ладоши, получился такой звук, точно стукнулись друг о друга две деревяшки. «Браво, Агостино!» – крикнул он. Я скрепя сердце тоже поаплодировал. Что капитана звали Агостино, я слышал впервые. От выпитого узо у меня слегка закружилась голова, и я машинально ухватился за край стола. Катерины Париотис уже не было: она выскользнула в соседнюю комнату и рылась в ящиках комода, потом что-то делала около зеркала. Краем глаза я увидел, что она причесывается, поправляет волосы на затылке.
Агостино откашлялся и запел другой романс, на этот раз во весь голос, сопровождая пение жестами, изображая объятия и ласки. Потом он встал с дивана и показал рукой на залив, на горизонт.
Звуки его голоса заполнили небольшую гостиную – у него был тенор, высокий и серебристый, как у юноши. Когда он кончил, Катерина тоже похлопала. Она остановилась в дверях и смотрела на меня так, словно хотела предстать передо мной в наилучшем виде, такой, какой, наверное, видел ее мой отец. Щеки ее были слегка припудрены, что немного скрывало желтизну кожи, губы подкрашены. Но мне больше всего нравились ее глаза, их мягкое страдальческое выражение. Встал во весь рост и Паскуале Лачерба. Он поднял руки – палка осталась висеть на левом запястье – и густым баритоном, оборачиваясь вокруг, пропел: «Разрешите представиться…»
Меня удивило, что у этого тщедушного человека такой сочный и сильный голос; просто не верилось, что он принадлежал ему, а не кому-нибудь другому.
Бывший капитан рассмеялся, повторяя:
– Ну-ка, ну-ка, давайте!
Паскуале Лачерба, не прерывая длинной ноты, сделал несколько шагов к воображаемой авансцене, то есть к выходившей на кухню двери, и, широко расставив руки и выпучив глаза – за толстыми стеклами очков, они казались огромными, – громко запел:
«Синьоры, разрешите представиться… Сейчас мы начинаем».
Рассеянно слушая пение Паскуале Лачербы, я думал, что пора уходить. Раз уж мы все равно оказались на дороге к мысу Святого Феодора и раз ветер и дождь утихли, то хотелось бы добраться до Красного Домика. Это, наверное, где-то здесь, неподалеку. Кроме того, мне было полезно пройтись, проветриться.
Я приготовился прощаться с Катериной Париотис и с бывшим капитаном Агостино. Странно: только что познакомились и уже надо прощаться, навсегда. У меня было такое чувство, что они играют (или сыграли) важную роль в моей жизни.
И мне стало почему-то очень грустно.
Глава девятая
1
Над Ликсури и над Аргостолионом кружили «юнкерсы». Громоздкие черные транспортные немецкие самолеты медленно подлетали, делали несколько больших кругов и садились на зеркальную морскую гладь. Подполковнику Гансу Барге шло подкрепление. Это было утром десятого.
«Неужели нам придется сдать оружие?» – спрашивал себя капитан Пульизи. Он следил за полетом «юнкерсов», оглянулся назад, на горы, направил бинокль на улицы и крыши Аргостолиона. Незадолго до этого командиров подразделений известили по телефону, что подполковник, явившись к генералу, потребовал, чтобы дивизия сдалась немцам.
Он потребовал, чтобы завтра, в 11 часов утра, на площади Валианос дивизия сложила оружие.
Капитан прислушался к голосам на холме: артиллеристы толковали о «Супергреции», о правительстве Бадольо, о том, что сейчас самое время атаковать немцев. Прислушался к рокоту самолетов в небе, к гулу автомобилей и немецких мотоциклов, разъезжавших по дорогам острова. На пыльных дорогах Кефаллинии царило необычное оживление.
«Неужели мы действительно выстроимся завтра в одиннадцать ноль-ноль на площади Валианос, будто на параде, и сложим оружие?»
Не хотелось об этом думать. Война окончена, скоро всех распустят по домам. Сейчас надо восстановить нить, которая оборвалась на все эти долгие годы. Прислушиваясь к голосам и звукам острова, он пытался вспомнить голоса и звуки родных улиц, вспомнить комнаты своего дома – такие далекие, что не верилось в их реальное существование, – представить себе лицо и глаза Амалии. Он вспомнил сына. Сколько раз он его видел с момента рождения? Облик мальчика расплывался и был таким же чужим, как голос Амалии. Перед его глазами вырисовывалось лицо Амалии – холодное, суховатое, хотя и красивое, – но представить себе ее голос, воскресить его в памяти он не мог.
Его разбирала злость: неужели так и не удастся вспомнить, какой у Амалии голос? Это была даже не злость. Его охватило какое-то смятение. Он снова и снова пытался восстановить в памяти забытый тембр, пожалуй, сам не совсем сознавая, зачем ему это.
Голос у нее был мягкий, хотя и сильный; по мере того как она говорила, он становился нежнее… Но как только ему начинало казаться, что он вспомнил, он в отчаянии спохватывался: это был вовсе не голос жены, а голос Катерины.
«Катерина… Прежде, чем покинуть остров и вернуться домой, надо зачеркнуть целый кусок жизни – долгие годы войны. Надо вычеркнуть из памяти Катерину».
Силясь воскресить прошлое, он устремлял застывший взгляд куда-то вдаль, в пустоту, и в памяти возникали тройники в Ломбардской долине, неподалеку от Милана, где он гулял со своей девушкой, – в ту пору Амалия еще была его девушкой; вспоминал, как они сидели у каменной ограды возле старой фермы. В то же время он видел дороги, которые вели на Аргостолион и по которым катились маленькие, сверкающие, точно игрушечные, автомобили; их становилось все больше и больше, и все они устремлялись к городу.
Он мысленно воспроизводил разговоры, которые они вели с Амалией, сидя под увитой плющом каменной оградой, но и это не помогло – вспомнить ее голос не удавалось. Она являлась перед ним либо совсем немая, либо с голосом Катерины. Одновременно он слушал своих офицеров – они докладывали о полученных по телефону распоряжениях командования.
«Всем старшим офицерам дивизии надлежит явиться к генералу для участия в военном совете. Генерал намерен обсудить требования подполковника Ганса Барге».
«Неужели сдадимся?» – спрашивал себя капитан.
«Командирам подразделений оставаться на местах».
Капитан направил бинокль на город, пытаясь отыскать среди нагромождения домов знакомый фасад итальянского штаба. Ему показалось, что он его узнал и даже увидел в окно сидевшего за письменным столом генерала в тот самый момент, когда тот, не отрывая глаз от листа бумаги, белевшего в его бессильно упавших на стол руках, выслушивал соображения старших офицеров. Капитану почудилось даже, что он может различить, что написано на листе, который держит в руках генерал: это был приказ «Супергреции» о сдаче оружия подполковнику Гансу Барге.
Капитан перевел бинокль на «юнкерсы». Они по-прежнему летали в поле действия зениток. И он снова подумал, что из-за этого проклятого мундира приходится ждать, пока кто-то примет решение и за тебя, капитана Пульизи. «Что ж, в конце концов это даже удобно – пускай за меня решают генерал или созванные на военный совет старшие офицеры».
«Какое, однако, они примут решение?» – спрашивал он себя.
Вскоре крохотные автомобили выехали из Аргостолиона и устремились по дорогам острова в обратном направлении: старшие офицеры возвращались на свои командные пункты. По склонам холмов и гор, среди сосновых лесов вновь замелькали яркие блики – отсветы автомобильных стекол и полированных крыльев машин. Зазвонил полевой телефон, и незнакомый телефонист произнес:
– Все старшие офицеры, кроме двух, высказались за сдачу оружия немцам.
«Завтра, в 11 часов утра, на площади Валианос», – машинально повторил про себя капитан Альдо Пульизи. Встретив вопрошающий взгляд Джераче, офицеров, солдат, чтобы не видеть их глаз и не отвечать на их вопросы, он отошел подальше от палатки и сел под оливой, откуда был виден залив и весь Аргостолионский полуостров до самого мыса Святого Феодора – широкая пустынная морская гладь.
«Правильно ли это решение?» – спрашивал себя Альдо Пульизи.
«Ведь правительство Бадольо требует беречь оружие и в случае нападения противника защищаться. Дивизия в состоянии не только обороняться, но и разоружить солдат Ганса Барге; она может это сделать за несколько часов. Так почему же решили сдаваться? Почему предпочли подчиниться «Супергреции», а не приказу законного правительства?»
Он встал, как бы пытаясь бежать от самого себя, чтобы не отвечать на собственные вопросы. Злости больше не было: наступила апатия. Где-то позади него возбужденно говорили, кричали артиллеристы.
– Нас десять тысяч, а их – три, – то и дело повторяли они, и приходили все к той же мысли: стоит генералу и старшим офицерам подчиниться приказу правительства, и немцы сдадутся без единого выстрела. Солдаты задавали тот же вопрос, что и он: «С какой стати мы должны сдаваться?»
– Чтобы вернуться домой, – ответил кто-то. – Если мы сдадим оружие, немцы отпустят нас по домам.
Но эти слова утонули в хоре возмущенных возгласов. Никто не верил, что после сдачи оружия немцы отпустят их на все четыре стороны.
Альдо Пульизи прикрикнул:
– Вы что, военного трибунала захотели?
Голоса стихли, на холме воцарилась тишина; еще отчетливее стало слышно гудение автомобильных моторов и рокот «юнкерсов». Но стоило капитану отвернуться – он опять ушел под оливу, – как солдаты снова заговорили.
Он сидел, прислонившись к стволу дерева (в памяти опять возникла каменная ограда старой фермы); солдатские голоса, так сильно отличавшиеся от голосов Амалии и Катерины, не доходили до сознания. Он говорил себе: «Сейчас, после того как я переменил столько мундиров, важно одно: снять мундир навсегда, вернуться к себе домой, получить возможность ходить по улицам родного города под руку с Амалией, узнать наконец своего сына. Иными словами, оставить Кефаллинию ее обитателям, оставить Грецию и все остальные оккупированные итальянцами земли их народам. Предоставить Катерине Париотис самой решать свою судьбу. Вот что сейчас важно. А будет ли окружен немецкий гарнизон и кто сильнее – итальянская дивизия или немецкие солдаты, генерал или подполковник, – это меня не касается. Хорошо бы сесть на первый попавшийся пароход, направляющийся в итальянские воды, и уехать – с оружием или без оного, не все ли равно. Если как следует вслушаться в разговоры солдат, то и в них сквозит та же мысль. В конце концов все их рассуждения о том, надо ли разоружить немцев или разоружиться самим, подсказаны только желанием вернуться домой».
Он встал и направил бинокль вверх, туда, где вилась узкая дорога на Кардахату.
– Капитан, смотрите! – крикнул кто-то.
По узкой открытой тропе двигалась колонна солдат и машин: это спускался в долину, направляясь в Аргостолион, третий батальон 317 пехотного полка.
«Что происходит? – удивился капитан, – почему пехота покидает такое важное в стратегическом отношении пересечение дорог?»
– Идут сдавать оружие! – крикнули ему артиллеристы.
– Скоро и мы получим приказ. Все пойдем на площадь Валианос.
«Все может быть», – подумал капитан.
Части начали подтягиваться к городу для сдачи оружия. Вдруг все происходящее показалось ему невероятным, как будто лишь сейчас, увидев эту колонну солдат на марше, он понял всю нелепость создавшегося положения. Он опустил бинокль и продолжал вглядываться вдаль. Солнце слепило глаза.
Позади послышался голос Джераче.
– Это все генерал, – проговорил он. – Это он распорядился оставить Кардахату.
Кто-то крикнул:
– Генерал нас предал!
Альдо Пульизи не мог оторвать глаз от горной тропы, кишмя кишевшей солдатами и машинами. «Через несколько часов, а может быть и минут, его тоже позовут к полевому телефону, и он, капитан Альдо Пульизи, наверняка тоже получит приказ спускаться со своими артиллеристами в город. А завтра в одиннадцать ноль-ноль пехотинцы и артиллеристы дивизии «Аккуи» с развевающимися знаменами выстроятся в каре на площади Валианос и под музыку и аплодисменты многочисленной публики сдадутся немцам. Какой смысл во всем этом?»
Но ответить он пока не мог. Ему все еще не удавалось восстановить в памяти голос Амалии: в ушах по-прежнему звучал голос Катерины. «Он будет ждать приказа командования. Скорее бы дошла до них очередь. Чем сидеть здесь и ждать, лучше уж спуститься в долину до наступления темноты».
Он почувствовал себя бесконечно одиноким, отрезанным от всего мира. «Наверное, то же чувство одиночества испытывают сейчас и мои солдаты, все итальянцы, находящиеся на острове, – подумал он. – Бросили нас здесь, посреди моря, и не пришлют из Италии даже паршивенького самолетика, узнать, как мы тут… Генералу сейчас тоже, наверное, одиноко».