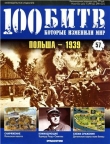Текст книги "Белый флаг над Кефаллинией"
Автор книги: Марчелло Вентури
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
5
– Почему же вы не входите? – спросила наконец Катерина Париотис, давая им дорогу.
Она улыбнулась. Улыбка у нее тоже была свежая. Красивая и свежая, как ее голос.
Мы вошли. Паскуале Лачерба шел первым и что-то говорил по-гречески.
Глава шестая
1
Точно такую гостиную можно увидеть в любом провинциальном городке Италии. Мы сели на красный плюшевый диван. Посреди комнаты – стол; на столе, на круглой салфеточке – стеклянная ваза с букетом из листьев. Стены дощатые (в этом доме все деревянное, по-видимому, из готовых деталей, полученных в дар от шведского Красного Креста); на стенах портреты: старик крестьянин с усами, в праздничном костюме и наглухо застегнутой рубашке без галстука; на другом, широко раскрыв глаза, напряженно смотрит в объектив морщинистая старушка в черном платке, прикрывающем плечи.
С потолка на коротком шнуре свисает электрическая лампочка; но вместо традиционного абажура с бахромой из бисера – колпак из ребристого голубоватого стекла. У нас в Италии можно часто увидеть такие.
Всю противоположную стену занимает буфет, почти такой же, как у меня дома, только немного поменьше; за зеркальными стеклами с узорным рисунком стоят в ряд чашечки, бутылки, стопки тарелок. За стеклами буфета – так же как в любом деревенском доме в Италии – бумажные образки, семейные фотографии, изображающие свадьбы, причастия и тому подобное, и открытки с видами городов и портов, с непременным пароходом, который разрезает морскую гладь на два пенистых крыла.
В комнате приятно пахло выдержанной древесиной и свежим лаком. Сквозь открытое окно слева проникал влажный запах леса – стволы сосен виднелись тут же, рядом; верхушки зеленели поодаль. Из окна позади нас было видно море за мысом Святого Феодора; волны по-прежнему катились в сторону залива.
Из кухни приятно пахло турецким кофе. В соседней комнате, по-видимому спальне, кто-то подвинул стул, послышались шаги.
Домик был крохотный, но он мне нравился… «Хорошо бы пожить здесь немного», – подумал я. Было в нем что-то родное; казалось, я его уже видел где-то, уже бывал в такой же вот гостиной. Но где, когда?
Из соседней комнаты появился мужчина в рубашке без пиджака; через открытую дверь я успел заметить спинку кровати из кованого железа, неприбранную постель. Мужчина сел рядом со мной и пожал мне руку.
– Это мой муж, – сказала Катерина Париотис.
– Итальянец? – спросил он. – Я говорить по-итальянски.
У него было красивое загорелое лицо, голубые, хрустально прозрачные глаза. От него пахло хорошим одеколоном; видимо, он только что побрился. Он рассказал, что знает Италию: бывал в Ла Специи, Бриндизи, Генуе, Неаполе. Я без дополнительных объяснений понял, что он служил во флоте.
– Да, – подтвердил он, – служил. А сейчас на пенсии. Кончено.
Он показал на открытку с изображением парохода; это был его пароход, объяснил он, его «Эгнатиа». Прозрачная голубизна его глаз засветилась, на губах заиграла улыбка, словно он говорил о любимом сыне.
– Не хотите ли чашечку кофе? – предложил он. Кофейник уже на плите.
– Разумеется, – ответил Паскуале Лачерба.
Я отказался. Турецкий кофе мне надоел; но бывший моряк, дружески взяв меня за плечо, настаивал. Покрытая рыжеватыми волосами рука была широкая и сильная, точно лопасть ветряной мельницы.
– Каффэ, каффэ, – повторил он на итальянский лад.
Вынув из буфета коробку печенья, он стал нас настойчиво угощать. Паскуале Лачерба взял целую горсть, а я – только одно: мне не хотелось есть.
Катерина Париотис вернулась, держа в руках никелированный поднос, который она поставила на стол. На подносе стояли четыре чашечки с дымящимся кофе и столько же стаканов с водой. Она села в плетеное креслице у окна, выходившего в лес, – так, что я видел ее в профиль.
«Может быть, живя с ней столько времени под одной крышей, отец в нее влюбился? – спрашивал я себя. А почему бы и нет?» Я слушал, что говорил ее муж, а сам краешком глаза наблюдал за Катериной. Она была еще по-своему хороша, несмотря на поблекшее лицо и грязновато-серую седину волос. Помнится, капитан рассказывал о каких-то ливанских портах с экзотическими названиями, но я слушал его лишь наполовину; вторая половина моего «я» была обращена к Катерине Париотис, которая медленно потягивала свой кофе. Рука у нее была худая, изящная: чашечка с кофе казалась в ней еще меньше. Она заметила, что я на нее смотрю, но в первый момент не подала вида. Потом оглядела меня долгим взглядом с ног до головы, не упустив ни одной детали моей внешности, – от вымазанных глиной ботинок до волос, – и лишь тогда отвела глаза. Я почувствовал себя так, словно она вывернула меня наизнанку, чтобы посмотреть, чтя у меня внутри.
Капитан и Паскуале Лачерба разговаривали по-гречески. Я догадался, что они говорили обо мне, обсуждали, зачем мне понадобилось навещать Катерину Париотис, – в потоке непонятных слов я несколько раз уловил имя моего отца Альдо Пульизи. Лицо капитана стало задумчивым и печальным, его голубые глаза смотрели на меня ласково.
«Боже мой, – подумал я, – что этот Паскуале Лачорба ему плетет? Капитан того и гляди заплачет».
Катерина собрала чашки и понесла их на кухню.
Я слышал, как она там возилась, – должно быть, мыла посуду под краном. Она появилась снова лишь после того, как Паскуале Лачерба окончил свой рассказ, и что-то сказала фотографу по-гречески, но что именно?
Я чувствовал себя здесь чужим, будто в западне; хотелось убежать. Зачем мне понадобилось сюда приезжать, копаться в прошлом?!
– Ваш отец умереть здесь, – произнес капитан. И, показывая на жену, добавил: – Катерина знает.
И тогда мне стало не по себе. Я уже готов был предложить ему: «Давайте поговорим о кораблях, об Италии!» или спросить: «Скажите, капитан, вы никогда не бывали в Милане?»
Но глаза Катерины Париотис пригвоздили меня к месту и лишили дара речи.
2
Однако и на этот раз в памяти возникла не сцена смерти; вспомнилось продолжение той ночи на мельницах. Это был облачный день, какой именно, она не помнила, – то ли святого Христофора, то ли святого Николаоса, во всяком случае до перемирия, это уж точно; впрочем, иначе и быть не могло. Это было до кровавой расправы, во время одной из встреч на берегу, на каменистом пляже около маяка.
3
– Почему ты не купаешься? – спрашивал Альдо Пульизи. Ему хотелось приучить ее к воде, как будто плавать и нырять в одиночку ему было неинтересно. Катерина даже не раздевалась. Ей нравилось сидеть и смотреть на неподвижное плоское море, дышать солоновато-горьким воздухом, слушать крик чаек.
Там, за маяком, начиналось открытое море, открывался весь мир. У Катерины было такое ощущение, будто, сидя здесь, на берегу, она смотрела в окно, распахнутое во вселенную.
Самое большее, на что она решалась, чтобы доставить ему удовольствие, это подойти к воде и, приподняв юбку выше колен, окунуть ноги. Сколько раз она ему объясняла, что от морской воды у нее шелушится кожа, а на спине появляются волдыри, но он не унимался и всякий раз возобновлял уговоры.
Бродить босиком вдоль берега ей нравилось до дрожи, но зайти в воду глубже, чем по щиколотку, она не могла, это было выше ее сил. Она стояла и смотрела, как обступавшие ее маленькие волны просачивались сквозь пальцы ног, потом снова убегали. Катерине казалось, что она скользит назад, хотя в действительности она стояла на месте. Ей нравилось это ощущение, от него приятно кружилась голова.
Потом они снова садились на камень в тени агавы. В воздухе стоял нежный пряный аромат цветов, которые росли на каменистой почве между колодцами. Капитан закуривал сигарету и начинал говорить, думая о чем-то далеком-далеком, и в голосе его появлялись горькие нотки. Но он все вспоминал, вспоминал, проникал в самые глубины памяти, как будто сознательно старался оживить самые горькие воспоминания.
Катерина слушала. Ей хотелось, чтобы он что-нибудь рассказал о своей жене, какая она. Глаза – это он ей говорил – такие же, как у нее, но она хотела знать, какие у нее волосы, светлые или темные, какого она роста, высокая или маленькая, и как ее зовут. Он даже не сказал, как ее зовут. Но капитан этой темы не касался, он говорил об униформе, о том, что их, итальянцев, одевали в форменную одежду чуть ли не со дня рождения. Или рассуждал о войне. Он твердил, что люди его поколения носили униформу чуть не с пеленок, что за всю свою жизнь ничего, кроме униформы, они не видели и в ней умрут. В голосе его слышалась грусть, чувствовалась какая-то обреченность.
– Одним мундиром больше, одним меньше, какая разница? – сказала Катерина, стараясь свести разговор к шутке, подбодрить его.
– Разница в еще одной войне, – ответил он.
И надолго замолкал. В такие минуты Катерина начинала его внимательно рассматривать. Черты лица у него были отнюдь не тонкие, а скорее тяжелые, грубоватые; их смягчал только свет лучистых глаз, едва приметный, неяркий, как бы доходивший издалека, приглушенный.
Она смотрела на него, стараясь истолковать причину этого внезапно затянувшегося молчания и не решаясь нарушить ход его мыслей. Теперь их разделяло только это, только в такие минуты воспринимала она его как чужого, как пришельца, не в силах сказать ему, чтобы он ей доверился, чтобы, не стыдясь, излил ей свою душу, поплакал у нее на плече, если ему будет от этого легче.
Или ему, победителю, не подобает плакать на плече побежденного?
Может быть, его терзала мысль о том, что англо-американские войска идут по его итальянской земле, идут завоевывать итальянские города, и что скоро они дойдут и до его города, и он разделит судьбу Аргостолиона и Кефаллинии, всех городов и деревень Греции. Или, может быть, он представил себе, как его жена выпрашивает буханку хлеба и коробку консервов у своего постояльца – американского офицера и кладет его спать рядом с собой на супружеское ложе?
При желании Катерина могла бы напомнить ему, как они напали на Грецию, – сейчас для этого был самый подходящий момент, – но острая материнская жалость (хотя ей было немногим более двадцати лет) туманила глаза, сжимала горло. С ней происходило что-то такое, чего раньше не бывало: ей казалось, будто она старше его на много-много лет и даже столетий, и что, умудренная вековым опытом, она может ему помочь; достаточно сказать ему несколько слов, положить руку на глаза…
Капитан отбрасывал в сторону окурок, который начинал жечь пальцы, и, будто очнувшись от тяжелого сна, приходил в себя; он сидел, подперев голову рукой, теперь совсем близко от нее. Катерине было видно, как лучились неярким светом его глаза.
– Спасибо тебе, – говорил капитан.
– За что? – спрашивала она, поглядывая на него снизу вверх.
Взгляд Альдо Пульизи блуждал далеко, в море.
– За твою доброту. Катерина смущенно смеялась.
– Это неправда. Откуда ты взял, что я добрая?
– Мы причинили вам много зла, – продолжал капитан, как бы разговаривая сам с собой. Он говорил об аргостолионских девушках и солдатах-победителях, о том, что, ополчаясь друг против друга, все причиняли друг другу зло, и в итоге все оказались побежденными.
– И мы тоже, – заключал он.
Катерина отворачивалась. Взгляд ее устремлялся на вершину Эноса, при ослепительно ярком свете дня пламеневшую зеленым пожаром. В душе ее не было больше ни ненависти, ни жажды мести.
«Как же так, ведь я гречанка!» – удивлялась она себе.
– Катерина, ты меня любишь хоть немного, как брата? – спрашивал он у нее.
Катерина бросала камешек, прислушиваясь к жужжанию гидросамолета, отправлявшегося из порта в разведывательный полет. Воздух над колодцами был неподвижен.
– Скоро вы вернетесь в Италию, – говорила Катерина. – Война для вас, итальянцев, скоро кончится. Независимо от того, кем вы вернетесь – победителями или побежденными, – вам надо радоваться.
Альдо Пульизи что-то невнятно бормотал сквозь зубы; он силился улыбнуться, но улыбки не получалось.
– Ты добрая, ты простила.
– Что?
– Обиду, которую я тебе нанес.
– Когда, когда ты меня обидел? – Она не понимала, не знала, чем он ее обидел. Тем, что оставлял на столе хлеб и консервы? Или тем, что сравнил ее глаза с глазами жены? Она устала от раздумий. Хотелось сидеть вот так, спрятав лицо в тени агавы, прикрыв глаза рукой от палящего солнца, и ничего не делать. Не хотелось ни о чем думать.
4
Я не знал, как истолковать ее долгое молчание; она стояла в дверях кухни, муж – рядом со мной, тоже чего-то ожидая; фотограф грыз печенье и ложечкой сосредоточенно скреб по дну чашки. Небо в квадратах окон по-прежнему хмурилось, облака мчались в ту же сторону, к континенту; все было залито тем же серовато-опаловым светом.
– Катерина может рассказать, – повторил муж, как бы желая вернуть ее к действительности, напомнить, что перед ней он, ее муж, Паскуале Лачерба, и я, сын расстрелянного капитана.
«Ведь сейчас сегодня, а не вчера. Вчера ушло в прошлое, а прошлого не вернешь», – хотелось мне сказать ей, чтобы приободрить. Но Катерина уже взяла себя в руки и улыбнулась; лицо ее было печально, глаза запали, потускнели, но все-таки она улыбалась.
– Он пришел ночью, – сказала она. Я услышала – стучат и побежала открывать. Вдали, у мыса святого Феодора, горели костры.
Капитан Альдо Пульизи стоял, прислонившись к дверному косяку, как будто пришел на свидание, и странно улыбался. Расстегнутый френч и распахнутая на груди рубашка были в каких-то темных пятнах, которые Катерина в темноте приняла за пятна пота. Впустив капитана, она заперла дверь.
Он, шатаясь, сделал несколько неуверенных шагов. По тому, как он выставлял вперед руки, можно было подумать, что он не видит, ослеп. Катерина испугалась, хотела его поддержать, но капитан, уцепившись за край стола, удержался на ногах. И долго стоял под электрической лампочкой, уставившись куда-то перед собой невидящими глазами.
– Капитан, – позвала Катерина. Ей показалось, что она зовет человека, который физически здесь, а мыслями витает в другом месте. Тогда она поняла, что капитан уже мертв: он еще держится на ногах, сердце его под расстегнутой, забрызганной кровью рубашкой, еще бьется, но сам он умер. Его расстреляли вместе с остальными офицерами первого эшелона – поставили к стене Красного Домика, лицом к морю, и расстреляли.
«Море, море, море»… – смутно пронеслось в его голове, когда дула немецких автоматов, эти маленькие черные кружочки начали метать огонь. Он упал на землю, почувствовал, как к горлу подступает горячая волна, ощутил едкий вкус гари, потом запах армейского сукна, кожи и больше ничего. Когда он открыл глаза, вокруг царила странная тишина, ночь… Вернее, нет, где-то стреляли, а рядом, среди скал, колодцев и агав, валялись тела. Внизу белела какая-то дорога… ах да, вспомнил: это дорога в Аргостолион, к дому Катерины, на батарею. Теперь он вспомнил, что произошло: всех их – тех, кто лежал здесь, и его тоже, распростертого рядом с этими френчами и кожаными крагами, расстрелял Карл, Карл Риттер.
Карл Риттер или кто-нибудь другой? Этого он не помнил, никак не мог припомнить, и к горлу подступили слезы ярости и бессилия.
Руки его, распластанные на голой земле, зашевелились, ухватились за кустик травы, потянулись к чьему-то ботинку, нащупали что-то: это была фуражка. Значит, он не умер. Он чувствовал только жжение в затылке, хотелось пить. Это очень странно. Ведь сейчас ночь, прекрасная звездная ночь, и где-то совсем рядом должно быть море, он слышал его тихий шепот, отдававшийся звоном в ушах. Впрочем, может быть, это стучит кровь.
По аргостолионской дороге прошел грузовик. Его черный силуэт отчетливо мелькнул на светлом гравии шоссе; замаскированные фары светились двумя едва заметными голубыми точками; в кузове чернели молчаливые тени: еще одна партия смертников или немецкие солдаты.
Альдо Пульизи перестал шевелить руками. Теперь он ясно понимал одно: он не умер, его считают мертвым, но он жив. Надо добраться до дома Катерины Париотис, она его спасет. Добраться до нее: перелезть через этот барьер из мундиров, из тел, валяющихся на земле, точно пустые мешки, потом двинуться вдоль шоссе – не по обочине, а ниже, чтобы не осветили фары проходящего немецкого грузовика, чтобы не нарваться на немецкий патруль; может быть, придется ползти – медленно, метр за метром, до самого дома. И только тогда он перейдет на другую сторону. Это будет нетрудно, шоссе в том месте неширокое, метра два. В саду, в темноте, он немного постоит, отдышится, чтобы не напугать маленькую славную Катерину Париотис. Она непременно его спасет, ведь она его любит, хоть немножко, да любит своего старого друга – капитана.
– Правда, Катерина? Ведь правда? – не раз спрашивал он ее.
Катерина отвела его в свою комнатушку, в ту самую, которую он раньше снимал. Он узнал кроватку, зеркальце на комоде, перед которым он брился, икону с ликом Агиоса Николаоса над изголовьем – все узнал, даже потолок, в тот момент, когда Катерина и еще кто-то, наверное ее отец и мать, помогали ему улечься в постель; он потерял много крови и обессилел, это мешало ему разглядеть их лица.
Узнал выкрашенный в розовый цвет потолок, электрическую лампочку на шнуре, икону с ликом Агиоса Николаоса, висевшую как раз над головой.
– Катерина, – позвал он.
И произнес еще одно имя, которое Катерина не расслышала, – должно быть, имя жены.
Потом он стал шептать ей на ухо какие-то другие слова, но она их не поняла, хотя наклонилась совсем близко к губам. Потом он умолк и закрыл глаза.
Глава седьмая
1
Рассказывая, Катерина Париотис так и не присела – продолжала стоять в дверях кухни. Мы же сидели в этой гостиной, словно в миниатюрном театре, сидели и слушали монолог о смерти.
Рассказывая, Катерина смотрела перед собой: казалось, она видит минувшее – то, что я заставил ее воскресить и теперь уже не мог бы отогнать прочь. Катерина Париотис говорила неправду, это было очевидно.
От меня не ускользнуло, что она старалась придать бесстрастность своему голосу, своему взгляду и поведать только о печальном. Однако вспоминая какие-то конкретные вещи, она не могла умерить яркий блеск своих глаз, в голосе ее слышались то тихие, то глубокие грудные ноты, перемежавшиеся подобно игре света и тени в долине.
Свой рассказ она закончила словами:
– Капитан Альдо Пульизи умер, и последнее, что он произнес, умирая, было имя вашей матери.
Взгляд Катерины по-прежнему блуждал где-то далеко-далеко.
Я представил себе, как он мечется в агонии на узкой кроватке Катерины Париотис: лицо в крови, грудь обнажена, голова на высокой подушке… Но я чувствовал, что не имя моей матери, а чье-то другое имя произносил он тогда. И почему глаза Катерины обращены в пол, избегают моего взгляда?
Слушая ее, я все время старался представить себе, какой она была до замужества, двадцать лет тому назад, и чем внимательнее я к ней приглядывался, подмечая все оттенки ее взгляда и голоса, тем больше убеждался в том, что между ними что-то было.
Это меня не огорчало. Не потому, что у меня были причины обижаться на мать, которая воспитала меня в духе преклонения перед памятью отца, и не потому, что я воспылал симпатией к Катерине Париотис. Я обрадовался другому: предположение, что у отца был роман с этой женщиной, помогло бы мне развеять легенду, воссоздать истину. Скажу больше: подсознательно я хотел, чтобы мое предположение подтвердилось. Но стоило мне признаться себе в этом, как я испугался – испугался, как человек, совершивший святотатство. И чтобы скрыть от окружавших меня людей свои мысли, как бы почувствовав свою вину, я улыбнулся.
Дело в том, что смакование смерти, острый интерес к таинству смерти, к легенде с годами вошли в мою плоть и кровь; повзрослев, я понял, что этот мой повышенный интерес к смерти иррационален, разумом я его осуждал; и все же в конечном итоге он обусловил формирование моей личности, мое мироощущение и даже мировоззрение.
Я родился и вырос в атмосфере культа отца – отца, который умер стоя со словами: «Да здравствует Италия!» – и чья легендарная судьба была связана с островом Кефаллинией – далеким от мира и нереальным, как все острова и события, о которых рассказывается в легендах. Он был образцовым отцом и воином – во всяком случае, таким его рисовала в своих рассказах мать, – настолько безупречным, что мне так и не удалось воссоздать его облик. Он ускользал от меня, должно быть, оттого, что был каким-то бестелесным, неправдоподобным. И только здесь, в этой маленькой дощатой гостиной, глядя на стоявшую передо мной в тапочках и халате Катерину Париотис, на бывшего капитана торгового судна и на фотографа Паскуале Лачербу, который, развалившись на диване, грыз печенье, только сейчас я начинал, по-моему, понимать, что за человек был мой отец, – здесь, среди конкретных вещей и живых обитателей этого пусть отрезанного от мира, но все же реально существующего острова. А Катерина Париотис при всем ее своеобразии была настоящей женщиной – в большей мере, чем моя мать (почему, я не понимал и не хотел понимать); в ее взгляде, в голосе и даже в ее сухощавой фигуре было больше истинно женского, чем у моей матери. Я гораздо лучше различал черты отцовского лица, мысленно вписывая его фигуру рядом с ней, чем рядом с матерью.
Речь идет, конечно, о вымышленном образе, который я нарисовал в своем воображении, основываясь только на фотографии, стоящей у матери на комоде, и разглядывая выцветшие моментальные снимки, сделанные в молодые годы.
Когда я смотрел на Катерину Париотис (по просьбе мужа и Паскуале Лачербы она принесла три рюмки узо с водой), мне вдруг пришла в голову мучительная мысль: ведь она, Катерина Париотис, была моему отцу ближе, чем мать; это она, а не моя мать была его настоящей избранницей.
«Почему?» – спрашивал я себя.
Может быть, потому, что в ту ночь, когда он выбрался из-под груды мертвых тел и полз по земле этого острова, он рвался сквозь ночную мглу и пелену крови к Катерине Париотис как к единственной путеводной звезде на своем смертном пути…
Нет, не поэтому, вернее, не только поэтому. Не мог же он, находясь на Кефаллинии, рваться к моей матери, чтобы умереть на супружеском ложе! Нет, меня наводило на эту мысль что-то более существенное, нечто такое, что в Катерине Париотис было скрыто глубоко-глубоко, но не угасло и ощущалось по сей день.
Я чувствовал себя вдвойне виноватым. Взяв предназначенную мне рюмку узо, я долил в нее воды. Это была вторая, а возможно и третья, рюмка в то утро, Паскуале Лачерба заговорил о войне.
Катерина время от времени уточняла подробности или поправляла его – она все время ходила из кухни в гостиную и обратно, а если и присаживалась ненадолго, то беспокойное состояние все равно не покидало ее ни на минуту. Бывший капитан тоже принимал участие в беседе.
Однако смысл разговоров до меня почти не доходил. Они, казалось, забыли о моем существовании и говорили по-гречески. Речь зашла о перемирии.