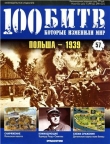Текст книги "Белый флаг над Кефаллинией"
Автор книги: Марчелло Вентури
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц)
Глава четвертая
1
Паскуале Лачерба, очнувшись от сокровенных мыслей, смотрел на меня потухшими глазами и, казалось, не сразу сообразил, кто перед ним.
– Нет, – сказал он, – не помню. И после паузы, как бы оправдываясь, добавил: – Разве всех упомнишь?
Он нервно вскочил и сделал резкое движение рукой, как будто хотел отогнать призрак.
За стеклянной дверью свинцовые облака по-прежнему мчались над низкими крышами-террасами. Под напором туч, которые ветер гнал с моря, к Пелопоннесу, город Аргостолион, казалось, отступал назад. Жемчужный свет, яркий и вместе с тем матовый, снова предвещал дождь. Несколько прохожих, женщина в черном, мальчишка, велосипедист двигались, будто на стеклянном экране в китайском театре теней. Улица принца Константина тоже была безлюдна. Только не смолкая завывал ветер – носился по аргостолионским улицам, чисто подметая террасы.
– В неподходящую пору вы приехали, – твердил Паскуале Лачерба, зло поглядывая на небо.
– А ведь Кефаллиния хороша, смотрите. – Он направился к прилавку, открыл ящик и вынул пачку фотографий. Открытки рассыпались веером. Я тоже встал и взял наугад несколько из них. Паскуале Лачерба смотрел на меня ожившими глазами, стараясь уловить на моем лице признак приятного удивления.
Вот панорама города, каким он был до землетрясения: улицы и дома карабкаются вверх по склону горы, чуть ли не до самого гребня. Вот запруженная гуляющими набережная: торговый пароход у причала, а вдалеке, в темных водах залива, отражаются паруса шлюпок. Вот вершина горы, сосны и ели, сквозь ветви которых просвечивает утреннее небо; внизу, в долине, монастырь Агиоса Герасимосса. А здесь мост, карниз старинной виллы и дети – мальчики и девочки, – вереницей выходящие из школы на вымощенную белыми плитами улицу.
– Вот видите, – торжествующе приговаривал фотограф.
Эти его открытки с видами Кефаллинии нисколько меня не волновали, но если я хотел от него чего-нибудь добиться, надо было его задобрить. Ведь я рассчитывал, что он поводит меня по острову, покажет памятные места и, возможно, познакомит с Катериной Париотис.
– Хороши! – воскликнул я. – Вы – мастер своего дела. Фотограф что надо!
– Нравятся они вам? – спросил он, взглянув на меня снизу вверх; при этом глаза его оживились. – Если хотите, могу продать. Недорого.
– Пожалуй, возьму на память, – ответил я.
– Тогда же, когда и иконы?
– Да, перед отъездом.
Паскуале Лачерба с видимым удовольствием уложил открытки обратно в ящик и снова вышел на середину комнаты; двоим здесь негде было повернуться; к тому же мы оба курили. Мы побыли еще немного в тесной комнатушке, увешанной образками, время от времени поглядывая на улицу.
– Да, до войны и до землетрясения Кефаллиния, должно быть, действительно была красива, – заметил я, чтобы вернуться к прерванному разговору.
– Скажите, а вы все время работали фотографом, и во время оккупации тоже?
Паскуале Лачерба улыбнулся.
– Я с пеленок живу среди фотоаппаратов и фотопластинок, – ответил он. – Мой отец тоже был фотографом, бродил с треногой на плече по деревням, старался подоспеть к празднику, и меня таскал с собой, приучал к делу. Кого только он ни снимал: и молодоженов, и девочек в день первого причастия, и даже покойников. Как сейчас помню, лежит мертвец на кровати в праздничном костюме, скрестив руки на груди… Как я боялся покойников! Они мне по ночам снились.
Я снова пошел в атаку:
– А во время оккупации?
Паскуале Лачерба осекся; мы молча смотрели друг на друга: я – стараясь придать своему лицу выражение дружеского участия, он – пытаясь понять, куда я веду.
– Я работал переводчиком, – наконец выговорил он. Иначе было нельзя, ведь на всей Кефаллинии я был единственным человеком, который умел говорить по-итальянски. А как бы вы поступили на моем месте?
– Работал бы переводчиком.
– Вот видите.
Паскуале Лачерба развел руками, как бы желая подчеркнуть, что от судьбы не уйдешь.
– Когда кончилась война, – продолжал он, мрачнея, с гор пришли партизаны – «андарты», и я был арестован. Но местные жители заявили протест, – меня здесь все любили и любят, – потребовали, чтобы меня оставили в покое.
Голос его звучал сейчас глухо, невыразительно, и взгляд снова ушел куда-то в глубь воспоминаний. Но ненадолго. Сделав опять свой резкий жест, как бы рассекая рукой сизый от дыма воздух, он дал понять, что войной сыт по горло, – дескать, лучше поговорить о чем-нибудь другом.
– Теперь я грек, – добавил он. – И женат на гречанке.
Мне хотелось спросить, чего он ждет, почему не бежит с этого безвестного злополучного острова, который немцы предали огню и мечу, а землетрясение сравняло с землей, почему упорно остается здесь, врос в него, точно растение корнями, хотя против этого вопиет сама природа – небо, море, земля; почему с таким упрямством цепляется за этот битком набитый мертвецами плавающий клочок земли, который с минуты на минуту может взлететь на воздух или пойти ко дну. Но я промолчал. Он жил в этой побеленной известью комнатке, перегороженной фанерной переборкой, под взглядами святых угодников, вспоминал, каким остров был прежде, смотрел на небо в ожидании весны или зимы; с внешним миром его связывал только паром – тонкая ниточка пены за кормой парохода, курсирующего по маршруту Патрас – Сами и обратно.
Я заранее знал, что он мне ответит; в сущности, он уже дал ответ, когда показывал пачку своих фотографий. А может быть, его удерживало на острове что-то другое, может быть, втайне что-то влекло его к смерти; возможно, он смаковал мысль о смерти или смирился с ее неизбежностью?
– Вы уже пили кофе? – спросил он.
Мы вышли из дома и, борясь с ветром, направились к площади Валианос. Остров казался угрюмым, мрачным, и не только из-за дождя, ветра и туч. Наверное, он произвел бы на меня такое же впечатление и в разгар лета, при ярком солнце и чистом небе. И не удивительно. Ведь я знал его историю.
Мы шли мимо выстроившихся в два ряда жалких лавчонок и белых витрин, по раскисшим от дождя земляным тротуарам.
Посередине улицы текли ручьи; из воды выглядывали то камень, то кустик вырванной с корнем травы, то веточка оливкового дерева – их принес сюда ночью горный поток. Но, несмотря на ветер, было не холодно, воздух был мягок и приятен, пахло морем.
– Если ветер не стихнет, – заметил Паскуале Лачерба, придерживая одной рукой надвинутую на лоб старую серую шляпу, – то паром не придет.
На перекрестках, в конце улиц, выходивших на набережную, виднелся залив; вода пенилась, и казалось, она вот-вот закипит. Волны бежали, как будто кто-то их гнал на середину, заливали узкую полоску моста. В том месте берег описывал полукруг; там не было ни пляжа, ни прибрежных скал, а сразу начиналась зелень и море наскакивало на нее с разбегу.
Паскуале Лачерба остановился и, по-прежнему держась за шляпу, показал палкой в просвет улицы:
– Видите – мост? Это единственное сооружение, уцелевшее после землетрясения.
Я думал о том, что в устье залива, там, где начинается открытое море, сейчас наверняка бушует шторм и что, стало быть, паром, курсирующий между Сами и Патрасом, будет стоять. Ниточка, которая тянется за пароходом, порвется, и в течение суток, недель, а то и года Кефаллиния будет отрезана от мира. «Все-таки это – ужасный остров», – думал я и еще раз задал себе вопрос, как бы я его воспринял, не зная его истории.
– Пошли к Николино, – предложил фотограф и, прихрамывая, заспешил мимо газонов и скамеек к кафе, как будто вид столиков придал ему бодрости. На скамейках сидели несколько старичков: в одних пиджаках, без плащей и пальто, только шляпа на голове да неказистый шарфик на шее.
На углу стояли два такси: длинные крылатые американские машины яркого цвета. Из одного из них высунулась голова и рука. Я узнал Сандрино. Он крикнул мне «С добрым утром!» и, подойдя, спросил:
– Чем могу служить?
Сандрино пошел с нами пить кофе. Мы сели втроем за один столик – в укромном местечке, на улице.
– Давайте выпьем по рюмке узо, – предложил мне Паскуале Лачерба. Он всячески давал понять Сандрино, что в его услугах не нуждаются и что он здесь лишний, но Сандрино долго нас не оставлял. Он продолжал твердить, что за несколько драхм может прокатить меня по всему острову и показать самые красивые места. Утром он уже побывал в Сами – возил груз на паром и видел, что, несмотря на шторм, паром все-таки отправился в рейс.
– Поехали в крепость! – предлагал он, обращаясь то ко мне, то к фотографу. Присутствие Сандрино явно раздражало Паскуале Лачербу. Он смотрел куда-то поверх его головы, не разжимая челюстей и не отвечая ему, как будто перед ним было пустое место. Что касается меня, то, прежде чем кататься по острову, мне хотелось выжать еще что-нибудь из фотографа.
– Давай завтра или сегодня во второй половине дик, – предложили Сандршю.
– Идет, я буду там, – ответил он, показывая на свой желтокрасный студебеккер.
– А как насчет Катерины Париотис? – громко спросил он, уже дойдя до середины площади.
Я пожал плечами.
– Я ее поищу, – крикнул Сандрино.
Паскуале Лачерба улыбнулся, на губах застыла гримаса.
Мы пили узо – нечто вроде анисовой водки, очень крепкий напиток, прозрачный, как хрусталь, если пить его неразбавленным; если же добавить хоть каплю воды, то он тут же на глазах превращается в воздушное облачко, становится мягче и начинает благоухать какими-то травами и цветами.
– Ну, а что произошло на острове после того, как здесь высадились немцы? – без обиняков, напрямик спросил я фотографа, разглядывая белое облачко узо в своей рюмке. – Как себя вели итальянские солдаты? Иначе говоря, – продолжал я, – чувствовалось ли, что между немцами и итальянцами зреет вражда, или же взаимоотношения были нормальными?
Паскуале Лачерба взглянул на меня с удивлением.
– Ничего не произошло, – ответил он. Ведь немцы и итальянцы еще были союзниками. Насколько я помню, не произошло ничего особенного.
2
Немцы – пехотные и артиллерийские части – высадились в первых числах августа. Как-то утром со стороны Ликсури на дороге в Аргостолион послышался необычный гул: приближалась немецкая автоколонна (шум итальянских машин был совсем другой, к нему здесь уже привыкли). Все подбежали к окнам – полюбопытствовать, что делается внизу, у поворота шоссе, где в мареве дрожит раскаленный воздух. По мере приближения гул усиливался, и чем он был ближе, тем явственнее отличался от привычных звуков.
Первыми показались низко накренившиеся на повороте два военных мотоцикла. Прорвав горячее марево, они выпрямились и поехали на умеренной скорости, сверкая стеклом и металлом. За ними следовал грузовичок с низким носом – он, казалось, заглатывал дорожную пыль, – а дальше – еще мотоциклы, которые тоже сначала ехали накренившись, а потом, как по команде, выпрямлялись. Блеск металла, блики солнца на прикрытых маскировочными козырьками фарах стали еще ослепительнее; в воздухе распространился едкий запах бензинного перегара.
– Немцы! – лаконично объявила синьора Нина. Широко раскрыв глаза, нервно покусывая длинный мундштук из черной кости, она смотрела поверх ограды. Немцев она никогда не любила, не выносила их за неотесанность и грубость.
«Они не джентльмены», – говорила она.
На шоссе бесновались огненные блики; пятна света и небольшие тени мчались вперед. Их видели и слышали жители острова, работавшие в поле крестьяне.
Видела их и Катерина Париотис, с бьющимся сердцем подбежавшая к окну.
Немцы промчались мимо Виллы с быстротой молнии. На машине, выкрашенной в маскировочные цвета – желтый, коричневый, зеленый – и потому походившей на чудовищную полевую жабу, ехали четыре офицера. Все четверо блондины. Адриане показалось, что она поймала их взгляд, холодный голубой немецкий взгляд. Но впечатление было обманчивым: офицеры даже не взглянули в сторону Виллы. Они смотрели прямо перед собой, на Аргостолион. Вот они выехали на мост и скрылись за первыми домами.
Все это произошло мгновенно, промелькнуло, подобно видению. Катерине Париотис тоже показалось, что перед ее глазами пронесся какой-то призрак, но при виде его ее оставили последние силы, и она застыла у окна с ощущением полной опустошенности.
Из аргостолионского порта выскочил маленький белый торпедный катер с двумя длинными усами у носа. Он заскользил по морской глади, рассекая ее, точно лезвием ножа, оставляя позади себя тонкий прямой след, – туда, к линии горизонта. Потом повернул направо, налево, как бы не зная, какую выбрать дорогу на этом бескрайнем просторе, заметался из стороны в сторону, зигзагами, точно обезумел или решил позабавиться. В конце концов он направил свои усы в сторону порта и, отдуваясь, покорно вернулся в гавань, исчез за серой полосой мола.
– Девушки, давайте-ка сходим в город, посмотрим, что там делается, – предложила синьора Нина, поспешно надевая шляпку с вуалькой.
И, не дожидаясь ответа, пуская дым через нос, зашагала вниз по лестнице. Вслед за высокой тощей синьорой Ниной (платье висело на ней, как на вешалке), точно цыплята за наседкой, послушно выбежали девицы, озираясь, нет ли поблизости коляски Матиаса.
В городе все было спокойно, только вокруг площади Валианос царило большее, нежели обычно, оживление да прибавилось машин. Немецкий грузовичок стоял около виллы, где находился итальянский штаб, а под деревьями выстроились в ряд мотоциклы. Немецкие солдаты, сидя в седле, курили, разговаривали, пересмеивались, но негромко.
Синьора Нина уселась вместе с девицами в кафе Николино; Николино подошел к ним на цыпочках; с трудом можно было понять, что он говорит: у него перехватило дыхание.
– Мадам, – пролепетал он.
Принимая заказ, он непрерывно наблюдал за площадью. Потом сбегал на кухню, тотчас вновь появился среди столиков, держа на кончиках пальцев свой жестяный поднос, и опять уставился на немцев.
Немцы же продолжали сидеть, расставив йоги, на своих мотоциклах и не проявляли никакого любопытства, даже не смотрели на девиц, как будто на площади, кроме них самих, никого не было. Они ждали своих офицеров, – те зашли в итальянский штаб. Ждали терпеливо, как люди, для которых ожидание – самое привычное дело.
– Мадам, – произнес Николино, наливая раки.
Его маленькая волосатая лапка дрожала: не было ни одной рюмки, которую бы он не перелил через край.
– В Ликсури, – прошептал он, – они высадились в Ликсури.
Синьора Нина даже не посмотрела на Николино; ее взгляд был тоже прикован к мотоциклам в углу площади. Покусывая кончик мундштука, она пристально смотрела на немецких мотоциклистов, внимательно следила за каждым их движением, будто гипнотизировала.
– Сколько их? – спросила она.
Николино наклонился, делая вид, что вытирает стол.
– Тысячи. Они оккупируют остров.
Синьора Нина бросила на Николино возмущенный взгляд, точно это он был виноват во всем.
– А что итальянцы? – спросила она.
Николино пожал плечами, улыбнулся, нахмурился, провел намокшей от узо тряпкой по лбу.
– Ведут переговоры, – сказал он.
В этот момент на площади появился обер-лейтенант Карл Риттер.
Стоявшие вокруг люди сначала увидели, как немецкие солдаты соскочили с мотоциклов и вытянулись в струнку, и только потом заметили освещенную солнцем фигуру обер-лейтенанта: пока никто не знал, кто он такой, каковы его чин и звание. Медленно пересекая площадь, он чувствовал, что все на него смотрят, и движения его были скованны.
Он оказался в роли актера, очутившегося на совершенно голой сцене, вокруг которой тянулись жалкие домишки, лежали неуютные пятна света и утренние тени.
Карл Риттер, бывший студент философского факультета Веймарского университета, пройдя через площадь, поколебался секунду и повернул в сторону открытого кафе Николино. Лишь подойдя к кафе, он заметил сидевших за столиками девиц.
Карл Риттер едва взглянул на них, на этих дам из казино – отраду итальянских союзников; сын железнодорожника и крестьянки, он считал себя аристократом и не мог скрыть своего презрения.
На темной железной пряжке его офицерского кожаного пояса, плотно стянувшего талию, были отчетливо видны слова «Gott mit uns» – «с нами бог», а на боку висела массивная кобура из темной кожи, откуда высовывалось невероятно длинное тонкое дуло пистолета.
Он сел за свободный столик, лицом к площади, к ним в профиль. Они тотчас оценили его незаурядную красоту и лишились дара речи: в его облике они улавливали нечто знакомое, виденное когда-то, давно забытое, но оставившее неизгладимый след в памяти. Этот профиль, хотя и новый для них, был им знаком; у них было ощущение, словно сбылась затаенная мечта.
Немецкие солдаты снова сели на свои мотоциклы; некоторые бродили рядом, курили и тихо переговаривались.
На груди у каждого покачивался небольшой черный автомат. Они производили впечатление безобидных парней из кемпинга.
Впрочем, с момента появления на площади обер-лейтенанта мотоциклисты утратили всякую притягательную силу. Сейчас все внимание было приковано к Карлу Риттеру. Николино подошел к нему сзади, с трудом изобразил на лице улыбку и, смешно щелкнув каблуками, произнес:
– Месье!
Обер-лейтенант тоже заказал рюмку узо. И эта рюмка тоже перелилась через край в руке Николино, когда он переставлял ее с подноса на стол, но обер-лейтенант не обратил внимания, взгляд его был устремлен вдаль.
Подошел Паскуале Лачерба. Он поклонился издали, до того как приблизился к синьоре Нине. Та, на мгновение оторвав взгляд от площади, улыбнулась и протянула ему руку. Фотограф поднес эту руку, затянутую в ажурное кружево перчатки, к губам; на людях он сделал это впервые. В это утро он вел себя подчеркнуто корректно, учтиво и был еще бледнее, чем обычно.
– Видели? – спросила синьора Нина, приятно возбужденная любезным обращением; на лице ее заиграла всегдашняя улыбка. Что-то блеснуло на губах и за очками фотографа, лицо его заострилось, на нем появилось хитрое, почти счастливое выражение.
– Этого следовало ожидать, – ответил он. – Они больше не доверяют итальянцам.
Теперь обер-лейтенант Карл Риттер разглядывал девиц – разглядывал неспеша, одну за другой.
Под взглядом его голубых глаз они чувствовали себя, точно на витрине, и им было от этого не по себе. Он смотрел на них без всякого выражения, без интереса, с полным равнодушием. Оглядел синьору Нину, Паскуале Лачербу. Над столиками скрестились их взгляды – черный, горящий и тусклый, голубой.
– Почему? – спросила синьора Нина. – Из-за Бадольо?
– Ну разумеется, – ответил Паскуале Лачерба. Фотограф поправил очки. Он казался совершенно спокойным, – видимо, решил: немцы тут, ничего не поделаешь.
– Ясно, что итальянцы скоро заключат перемирие, – заметил он.
Обер-лейтенант ерзал на стуле. Он замечал, что с момента его появления на площади к нему были прикованы все взгляды, чувствовал себя объектом всеобщего внимания. Он сидел, положив ногу на ногу, пристально глядя перед собой, и старался принять невозмутимый вид. Он вынул из кармана белую коробку, рассеянно положил ее на стол. Потом легким толчком открыл крышку, осмотрел нетронутый ровный ряд сигарет. Казалось, глядя на сигареты, он о чем-то мучительно размышлял.
Вдруг, неожиданно для всех, Карл повернулся к девицам и, протягивая открытую коробку сигарет, спросил:
– Курите?
– Возьмите, – посоветовал фотограф Паскуале Лачерба, заметив их замешательство.
Проворные белые руки потянулись к коробке: замелькали покрытые огненно-красным лаком ногти, пальцы нарушили ряд ровно уложенных сигарет, коснулись широкой загорелой кисти лейтенанта.
«Danke schön», – первой поблагодарила Адриана и первой улыбнулась немцу.
Только синьора Нина не взяла сигарету; это заметили, когда стали закуривать. Заметил и обер-лейтенант. Он на нее посмотрел, нагнулся в ее сторону, поднес ей коробку под самый нос и стал ждать.
– Не ломайтесь, – сказал Паскуале Лачерба, улыбаясь, как будто говорил о чем-то постороннем. И тоже взял сигарету, произнеся «danke schön» с таким видом, словно благодарил и за себя, и за синьору Нину.
Взгляд еще ярче окрасившихся голубых глаз обер-лейтенанта был устремлен то на дом, где находился итальянский штаб, то на девиц – на длинные худые ноги Адрианы, на пышную полуобнаженную грудь Триестинки. Та, чтобы задержать его внимание на своем бюсте, глубоко вздохнула.
Этот голубой холодный взгляд щекотал ей нервы. Лейтенант нравился и Адриане, нравился всем. Исключение составляла только синьора Нина.
Катерина Париотис тоже прибежала на площадь посмотреть на немцев. Она переводила взгляд с итальянского штаба на кафе Николино и обратно. Катерина понимала: несмотря на то что итальянки улыбаются, по-прежнему светит солнце и город спокоен, происходит непоправимое. Она понимала, что теперь война так скоро не кончится, – по крайней мере для них, жителей Кефаллинии. Если даже итальянцы уйдут, а там, в штабе, речь идет, конечно, об этом, то все равно останутся немцы.
(Да, итальянцы и капитан Альдо Пульизи уйдут, оставив остров немцам, она это чувствовала.)
– Меня от них тошнит, – сказала синьора Нина. – От этих сигарет меня тошнит, – уточнила она, переводя взгляд полузакрытых глаз на обер-лейтенанта. И, стиснув зубы, выдавила улыбку. Карл Риттер улыбнулся в ответ; взгляд его скользнул с бюста Триестинки на ноги Адрианы.
Из-за угла в платьях из легкой прозрачной ткани появились сестры Карамалли. Обе черненькие, они шли в ногу, точно пара лошадок в упряжке, и поворачивали голову то в сторону немецких мотоциклов, то в сторону обер-лейтенанта. Они тоже были сражены его красотой.
– Но что там происходит? – спросила синьора Нина. – Почему наши не идут?
– Ведут переговоры, – объяснил Паскуале Лачерба. Синьора Нина бросила сигарету, выкурив меньше чем до половины, – бросила не на тротуар, а на мостовую, и с асфальта поднялась тонкая струйка дыма, едва заметная при ярком солнечном свете.
– Но договорятся ли они? – продолжала синьора Нина.
– Да, – ответил обер-лейтенант. Девицы повернулись в его сторону. Пристально глядя на синьору Нину, Карл Риттер улыбался. Он смотрел куда-то за Триестинку с ее пышным бюстом, дальше ног Адрианы.
– Конечно, – подтвердил Паскуале Лачерба. Синьора Нина не сумела скрыть свое удивление, по лицу ее было видно, что она удручена, устала.
– Вы так считаете? – проговорила она.
– Мы – товарищи по оружию, – разъяснил Карл Риттер, кивнув в сторону штаба.
По-видимому, он хотел внести ясность в создавшееся положение, чтобы никто не строил напрасных иллюзий. Он с явным удовольствием повторил:
– Итальянцы и немцы – товарищи по оружию.
Тут снова послышался голос фотографа; он примирительно поддакнул.
– Конечно, конечно.
– А как же Бадольо? – спросила синьора Нина; в голосе ее звучала нотка надежды.
Обер-лейтенант сделал резкий жест рукой; сверху вниз.
– Scheisse – сказал ой.
– Что это значит? – спросила синьора Нина, обращаясь к Паскуале Лачерба.
Фотограф кашлянул. Видимо, он колебался, переводить или нет.
– Это значит дерьмо, синьора Нина.