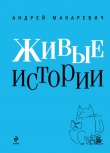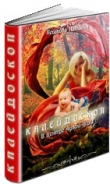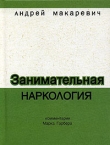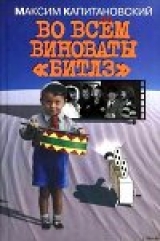
Текст книги "Во всем виноваты «Битлз»"
Автор книги: Максим Капитановский
Жанры:
Юмористическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
– Что, попался?!
Было очень жаль ни в чём не повинного рядового, и мы со всех сторон начали кричать, что очень верим в роскошное разнообразие солдатского меню.
– А-а, точно, вспомнил, – вскричал командир, – тут вот некоторые не верят, что ты каждый день всё это ешь. Ведь ешь ведь? Ведь да?
Солдатик, пожиравший глазами жареную курицу, проглотил слюну и равнодушно ответил:
– Так точно, товарищ полковник.
Товарищ полковник торжествующе посмотрел почему-то на майора и указал солдату на свободный стул:
– Вижу, любишь своего командира, садись вот, поешь, только смотри у меня, морда, не пей!
Потом налил себе рюмку, махнул рукой:
– Да ладно, пей!
Чуть попозже сослуживцы увели командира к жене, а мы с Директором не покладая ног забились в огненном «Чардаше».
Чем дальше мы забирались в глубь Германии, тем теплее и радушнее был приём. Почти каждый послеконцертный ужин превращался в настоящий банкет. Конечно, приезд группы вносил свежую струю в скучноватую всё-таки повседневность военных городков, и все получали обоюдное удовольствие от вечернего общения.
Причём на каждом банкете обязательно задавался вопрос: «А где вы вчера выступали? Ах, у сапёров, ну и как вас принимали-кормили?»
Мы сначала-то благодарили и говорили, что очень всё было хорошо, но, видя искреннее разочарование добрых офицеров, стали отвечать так: «Ну, вчера, честно говоря, было так себе, зато сегодня просто потрясающе».
И чем меньше мы восторгались предыдущей частью, тем большее удовольствие читалось на открытых мужественных лицах наших теперешних хозяев.
Роль гостя вообще довольно трудна, а особенно у военных: попробуй-ка объясни, что ты с ног падаешь от усталости и мечтаешь только до койки добраться, и это людям, которые аж неделю готовились к встрече. Поначалу мы стойко выдерживали тосты, не отличающиеся разнообразием («За «Машину времени», на которой мы все росли»), но после того, как однажды поднялся уже крепко поддавший седой пятидесятилетний полковник, провозгласивший: «За «Машину времени» под которую я с детства развивался и взрослел», – было решено изменить регламент.
В последующие вечера первым вставал Андрей, коротко упоминавший о том, что все присутствующие родились и, видимо, умрут под «Машину времени», затем благодарил хозяев, которые угощали нас значительно лучше, чем в предыдущем месте. Этим он совершенно выбивал почву из-под последующих тостов. Пить обычно бывало уже не за что, и мы скромно ужинали и валились спать.
Конечно, каждый офицер гордился и хвалил именно то подразделение, где он сейчас служит. Нам везде показывали всякие достопримечательности. В лётном полку показали дом, где до и во время войны жил Геринг. Из подвала этого дома, оказывается, шел подземный ход аж до Берлина (то есть километров двести). На следующий день в танковой дивизии словоохотливый лейтенант, указывая на небольшое аккуратное озерцо, поведал, что через сложнейшую инженерную систему подземных озёр фашистская подводная лодка, не всплывая на поверхность, могла дойти прямо до Рейхстага.
У ракетчиков показали дыру в земле, откуда начиналось подземное шоссе с четырехрядным движением до Берлина, а от сапёров до Берлина можно было доехать подземным поездом.
В любой части можно было смело обратиться к первому встречному с вопросом, как раньше можно было скрытно добраться до Берлина, и тебя тут же вели показывать.
Я только диву давался от хитрости и изобретательности фашистских инженеров. И всё ведь это было построено для того, чтобы немецкая верхушка могла в последний момент свалить из осаждённого города – кто на поезде, кто на четырёх машинах в ряд, а кто и на подводной лодке.
Вот только как это они не предусмотрели, наверное, Штирлиц поработал, ведь выходы-то из всех этих подземно-подводных туннелей оказались прямо посередине различных советских воинских частей.
Наконец наступило 3 октября – день воссоединения. Уже с утра за пределами военного городка раздавались выстрелы петард и слышалась музыка духовых оркестров.
Караулы в наших частях были удвоены, а выход в город категорически запрещён: боялись провокаций.
Нам тоже не рекомендовали шляться среди немцев, занятых воссоединением. Но как упустить такое событие?
Поближе к вечеру, изнурённые ощущением своей непричастности к этому празднику жизни, мы втроем решили всё-таки прогуляться. Двое молодых офицеров, Володя и Слава, взялись нас сопровождать.
Собирались очень ответственно, как разведчики на задание. Скрупулезно проверялись одежда и обувь: не выдадут ли наше советские происхождение. Слава и Володя, одетые, естественно, в гражданское, профессионально порекомендовали сдать Директору ордена и документы, что и было сделано.
Теперь наша группа имела совершенно заграничный вид, правда, некоторое опасение внушали одинаковые короткие причёски офицеров, но Слава сказал, что это не страшно, т. к. в Германии тоже дураков полно.
Переговариваться было решено с помощью пальцев, по глухо-немецки, дабы немцы нас по родному языку не признали и на радостях не убили.
Пробравшись сквозь дыру, имеющуюся в любой уважающей себя ограде, наша пятёрка по-пластунски пересекла тёмный переулок и короткими перебежками бросилась в сторону оживлённой улицы.
И вот на обширную, залитую огнями площадь вышли пятеро «немцев». Володька со Славкой изображали восточных, а мы западных. Все держались за руки и через каждые 10 метров начинали молча остервенело брататься, чем сразу вызвали нездоровое любопытство окружающих.
Вокруг нас начала собираться небольшая толпа, которая неуклонно росла.
Испуганный Андрей начал нервно насвистывать гитлеровский марш «Хорст вессель», а я вырвал у рядом стоящей девушки цветок и со словами «Дас ист фантастиш» грубо подарил его Славке. Не знаю уж, что он потом с ним сделал?
Ситуацию разрядила врезавшаяся в толпу тележка со шнапсом и закусками, которой управлял не по-немецки пьяный мудель, и мы, схватив (читай: хватив) по стакану, благополучно разбрелись но площади.
Проходящий духовой оркестр оттеснил свободолюбивых офицеров, а мы, закалённые правилами поведения советских людей за границей, продолжали держаться настороженной злобной группкой.
Тележки с бесплатным шнапсом попадались все чаще и чаще, и через некоторое время мы уже свободно беседовали друг с другом на чистом немецком языке.
Вдалеке мелькали немецкие офицеры Славка и Володька, тоже, видимо, находившиеся в мультфильмовском состоянии «щас спою». Наконец, Вова, чей голос и музыкальный слух были получше, не выдержал напора и затянул: «Выходила на берег Катрина, на высокий дас ист бережок».
Вокруг них мгновенно сомкнулось кольцо. Помочь мы им ничем не могли – пора было уносить ноги, но я, как Тарас Бульба, тайком присутствовавший на казни сына, решил всё-таки пробраться поближе, чтобы рассказать потомкам об их геройском поведении.
«Русиш, русиш» – слышалось кругом, потом толпа взревела, поднаперла, и несколько дюжих здоровяков уже схватили несчастных.
Боже, как их качали! Они подлетали в воздух то вместе, то поодиночке; Володька ухитрялся вытягиваться в полете и отдавать всем честь, а Слава просто орал победную боевую песнь без слов.
Потом их отпустили и отягощенных подарками и шнапсом на случившейся машине с эскортом доставили прямо к той самой дырке в заборе, к которой и мы приплелись через полчаса усталые, но довольные.
Уезжали мы от наших военных убеждённые в полной боеготовности частей. Поездка оказалась интересной: удалось и других как следует посмотреть, и себя сильно показать.
Провожать нас пришли наши боевые товарищи – оберлейтенанты Володя и Слава, а когда проходящий по плацу батальон в сто луженых глоток рванул «Новый поворот», у всех навернулись слезы.
Было немного грустно за остающихся. В скором времени им предстояло сменить уже ставшие привычными порядок и комфорт на неизвестность, ожидавшую их в Союзе.
Ворота за нами закрывал солдат, хладнокровно евший банан, шкуркой от которого он ещё долго махал вслед нашему автобусу.

Здравствуйте, дорогой нетерпеливый читатель!
Добро пожаловать в эту книжку!
Всю свою жизнь я терпеть не мог всяческих запретов и старался по возможности их нарушать, особенно когда это почти ничем не грозило. И если Вы не утерпели и сразу «вышли» на эту главку, значит, мы с Вами родственные души, которые искали друг друга долгие годы.
Когда я был маленьким, моя очень добрая, но малограмотная бабушка попыталась как-то наказать меня поставив в угол и запретив думать о медведе. Надо ли говорить, как я мучился?! Так давайте с Вами думать о «медведе», давайте не будем мучиться сами и постараемся не мучить других!
Конечно, найдутся люди, которые покорно дочитают до этого места с самого начала, подчинившись запрещению или не обратив на него внимания. В любом случае я уважаю и люблю Вас всех за то, что Вы обзавелись этой книжкой и предоставили мне великолепную возможность познакомиться с Вами поближе.
Дорогой читатель, разрешите дать Вам несколько «несоветов» по пользованию этим произведением.
Обратите внимание – ничего не запрещается. Так что нет нужды тут же всё делать наоборот тогда, когда можно этого и не делать.
Я Вам НЕ СОВЕТУЮ: читать эту книжку в метро, автобусах, такси, а также в барах, ресторанах и других общественных мест Постарайтесь по возможности остаться с ней наедине.
НЕ СОВЕТУЮ: использовать её в виде подставки под чайник, для записи телефонов, на самокрутки и в туалетном смысле.
А также НЕ СОВЕТУЮ: «прочтя, передать товарищу» – товарищу желательно настойчиво порекомендовать купить себе такую же, так как каждый отдельный экземпляр должен безраздельно принадлежать только одному человеку и быть ему другом до конца дней.
Хотя всем этим несоветам можно и не следовать, а поступать с книжкой как Вам заблагорассудится лишь бы она принесла Вам какую-либо ощутимую пользу. А теперь, когда мы немного познакомились, я прошу у Вас прощения за этот маленький фокус и приглашаю одних вернуться на первые страницы, других – просто продолжить чтение
Из жизни жаб

Вообще у меня обострённое чувство справедливости, в просторечии почему-то называемое «жабой». Хочу, к примеру, шапку купить, но как бы дороговато – тогда не покупаю. Ну чего я буду покупать, если мне дорого. А вокруг все говорят: вот, мол, «жаба задушила». И наверное, чем дороже предмет, тем и жаба больше.
На шариковую ручку денег пожалеешь, значит, маленькая жабка лапками к горлу подбирается, щекочет, а вот уж если на зимнее пальто или на подарок к дню рождения, тогда точно бойся: матёрая жабища навалится и задушит насмерть. Я с этим «чувством справедливости» давно веду борьбу, трёх или четырёх жаб сам задушил, а одну загрыз зубами, но всё равно опасаться надо: с нашими ценами да инфляцией за каждым углом они поджидают и с каждым днем все здоровее и толще.
Но наши родные жабы всё-таки ни в какое сравнение не идут с иностранными, валютными.
За границей жабы нас прямо на вокзале и в аэропорту встречают, даже у пароходных сходней бычатся. За все почти семьдесят пять лет советской власти чем больше рубль от инвалюты отрывался, тем сильнее жабы ихние матерели и скалились.
Приплыли как-то в немецкий город Любек. Мы с моим одним приятелем в город решили выйти, жабу подразнить. Он мне до этого рассказывал, что какие-то родственники умоляли его комбинезончик детский купить и игрушек. Вот идём, присматриваемся. Порт-то на окраине находится, а двигаемся мы по направлению к центру. Идем, естественно, пешком, транспортную жабу успокаиваем. Чем ближе к центру, тем магазины больше и богаче, а товары разнообразнее и, соответственно, дороже. Наконец первый детский магазин. Мой товарищ, а он немножко плохо видит, подходит к витрине близко-близко, таращится туда и что-то бормочет. Ну, это-то мне понятно, что происходит – за десять метров слышно, как у него в мозгу щёлкает, – ясно: пересчитывает цены с марок на рубли. Я смотрю: из-за угла жабка высунулась, небольшая ещё такая, но плотная и мордастая. Пасть разинула, прислушивается.
Мой друг подсчёты закончил.
– Отдохнут! – говорит. Это, надо думать, по поводу родственников.
Я со страхом за жабой наблюдаю: вроде ничего, покрутила башкой и назад усунулась, наверное, упрыгала переводчика искать, жабка-то немецкая.
Вздохнул облегчённо, дальше идём. Через пять минут ещё магазин, побогаче. Около него уже пара жаб околачивается – ждут клиентов. Друг-то их не видит, всё его внимание витриной поглощено. А цены – ещё выше, а жабы – ещё крупнее.
Я на всякий случай поближе подошёл, слабые места у врагов высматриваю. А он опять пошептал, фыркнул возмущённо:
– Умоются! Пошли, Максик.
Жабы посмотрели друг на друга: «Вас ист дас, нихт ферштейн», – но на всякий случай за нами потащились. А мы уже к этому времени почти до центра дошли, прямо перед нами роскошный детский магазин. Около него урна такая красивая, что я сигареты почти целой не пожалел – чего урне зря пропадать, – да промахнулся, но вдруг слышу: чмок – из-за урны жабка давешняя выскочила, ням окурок на лету. Видно, перевёл ей уже кто-то, вот она и караулит.
Только я собрался приятеля предупредить, а он уже у витрины ногами топает – совсем забыл про осторожность:
– Отсосут, – кричит, – на фуй…
Вот тут-то они все втроём на него и кинулись. Я даже не заметил, как та сладкая парочка подтянулась. С ног его сбили, навалились и душат, душат. Но у нас как принято? Сам погибай, а товарища выручай. Я, значит, где стоял, так оттуда в гущу их толпы и прыгнул. Они его облепили – не оторвать, он уж глазки закатил, бедный. Говорить, конечно, не может, только руку левую просунул, какие-то знаки ей делает.
Смотрю, а в руке-то пять марок зажаты. Надо сказать, что в экстремальных ситуациях у меня голова здорово соображает, Я деньги схватил и шмелём в магазин. Заскочил, глаза разбежались, но вот оно, красное пластмассовое, ровно пять марок стоит. Я его, это красное, хвать, продавщица даже «данке» не успела сказать. Выбегаю и прямо с порога, как матрос Железняк последнюю гранату, кинул эту игрушку в самый их жабий клубок.
Они сначала-то не заметили, сильно душением увлечены были, потом присмотрелись оценивающе и нехотя отвалились одна за другой.
Товарищ мой лежит бездыханный, я ему поделал искусственное дыхание – ничего не помогает. Стал тогда делать «рот в рот», лицо у него порозовело.
Тут туристы наши идут:
– Смотри, Миш, педики паршивые места другого найти не могли, тьфу…
– Да нет. Та, что сверху, с хвостом, – это ж баба. Просто у их здесь свободная любовь.
Я поднялся, говорю:
– А ну пошли к грёбаной матери!
– Вот видишь, Миш, мужик это все-таки, а по-русски как чешет – даром что с хвостом.
Я опять говорю:
– Вали-вали, а то сейчас поцелую.
Тут уж они стремглав бросились, а за ними целая свора жаб поскакала с нашей троицей во главе. Мой товарищ уже встал, держит красную игрушку в руках, рассматривает. Я подошёл, жду благодарности за спасение жизни. Какое там!
– Ты что, за пять марок ничего получше найти не мог, что это такое вообще – какая-то красная херовина?! Да что я с ней делать-то буду?
– Родственникам подаришь, да и какая разница – тебя ж чуть не задушили, радуйся.
– Какая разница, какая разница! – продолжает он кипятиться. – Пять марок псу под хвост. Ты знаешь, сколько это на рубли будет?
– Во-первых, не псу под хвост, а жабам, во-вторых, вон видишь, две остановились, прислушиваются. И не просто остановились, а окаменели, потому что такого жлобства на своём веку ещё не видали. А вот сейчас как опомнятся да позовут своих со всего города, тогда узнаешь, где зимуют раки, омары и другая членистоногая сволочь.
– А и правда, – он говорит, – очень даже неплохая игрушка. Пойдем, Максик, скоро вроде обед.
Мы все на будущее этот его опыт хорошо усвоили. Вслух уже ничего не говорим. Нужно, например, выяснить у товарища, сколько вещь стоит. Спрашиваешь. Тебе показывают один палец (но не средний) – значит, первый вариант: отдохнут. Два пальца – второй вариант: умоются. Три пальца…
Сразу становится ясно и понятно, и все довольные расходятся по своим делам.
Вот однажды Подгородецкий принёс на репетицию кроссовки – посоветоваться.
– Мне, – говорит, – купить предлагают за столько-то.
Мы все дружно:
– Третий вариант!
– Bay! Дык они же надувные и шнурки у них натуральные.
Мы посмотрели:
– Ну, это совсем другое дело. Тогда – первый.
Такие-то вот дела. Только – тсс! – жабы обо всём об этом никак узнать не должны.

Худшая песня
«…Мне в четверг обещали билеты в пятницу принести на субботу на «Воскресенье».
Из разговора двух фанов в метро

Недавно я присутствовал на сольном концерте Андрея и лишний раз поразился образности его стихов. Как он ухитряется укладывать объёмную, насыщенную образами мысль в одно коротенькое четверостишие?!
Я много раз баловался стишками, посвящёнными дням рождения разных своих приятелей, и достиг в этом определённых успехов. Стали приглашать уже совсем малознакомые. Правда, меня частенько заносит, и деньрожденцы после моих поздравлений, бывает, не разговаривают со мной неделями, а пару раз пытались бить.
Написал однажды одному лоботрясу добротное поздравление. Ну, как водится, приложил его фигурально раз восемнадцать, выявил некоторые его «достоинства». Очень стихи ему понравились, он их везде с собой носил и всем показывал.
И вот пригласил один раз к себе девушку на предмет «поматросить и бросить». Она, дура, пошла. Он ей сначала всё на словах вкручивал, какой он клёвый да классный, а потом решил совсем добить – дал стихи те почитать, а сам пока в ванную пошёл к своей кошачьей свадьбе готовиться. Она первые три куплета прочитала – и давай бог ноги. Ума хватило. Причём след ее при этом совершенно простыл.
Я даже некоторое время сдержанно гордился очевидной пользой от своих трудов, но по большому счёту это было всё-таки несерьезно.
Мне всё время не хватало того, что Чехов называл сестрой таланта, – краткости, хотя братишка её всё-таки присутствовал.
Придумаю какой-нибудь остроумный оборот, а потом размазываю его на пять куплетов, разжёвываю в кашу – всё боюсь, что не поймут. Вот этот комплекс, эта дурацкая боязнь быть непонятым и мешает больше всего.
Но самое главное – это вымученность. Как только чувствуешь, что не стихи ведут тебя, а ты их сидишь и придумываешь, так надо тут же бросать это дело. Кто-то из умных сказал: «Стихи можно писать только тогда, когда их НЕЛЬЗЯ не писать» (так и хочется подписать: «Ленин»).
Я много раз видел, как где-нибудь в тёмном холодном автобусе во время длинного переезда Андрей, который может спать в любом месте и в любое время, вдруг поднимал голову, на ощупь находил свой очередной толстый блокнот и записывал, буквально не открывая глаз, строчку или две.
Вот так рождается большинство его песен, от которых потом стонет полстраны. Они рождаются САМИ.
Несколько лет назад, когда «Машина» ещё состояла при Росконцерте, какое-то тогдашнее начальство настоятельно порекомендовало Макару написать к готовящемуся юбилею по случаю победы над ФРГ пламенную песню.
Он потом сам рассказывал, что честно пытался, ничего не вышло: очень трудно писать по приказу, да ещё о том, чего сам не пережил. Самое интересное, что месяца через три песня всё-таки была написана, но получилась она САМА. И какая песня! «Я не видел войны – я родился значительно позже…» – одна из самых честных и лучших. Года три она украшала концерт в общем-то рок-музыки, и ни один растрёпанный фан не крикнул в это время: «Поворот» давай».
Шикарную песню Андрей написал и для документального фильма о фронтовых кинооператорах, тоже пропустив её по-настоящему через себя – так уж он работает. Прозрачные, чистые образы – каждый раз удивляешься: как же это я сам не додумался?
И чем проще и доходчивее была песня, тем с более парадоксальной страстью народ бросался её толковать. Конечно, было это во время информационного голода и застоя, сказывалась жажда свежего воздуха, и, когда его не было, люди пытались его придумать.
Шёл Андрей Макаревич как-то по улице во время дождя. Небо серенькое, дождик тоже какой-то ненастоящий, настроение – так себе. В общем, довольно неважно все. Придумалась песенка о том, что вот, мол, дождик, небо – серенькое, все – так себе.
Не песенка, а баловство, разминка ума. Она и не игралась практически, а народ всё равно узнал.
Это было время, когда «Машину» с удовольствием, достойным лучшего применения, долбали все кому не лень. Только что прогремела ураганная статья «Рагу из синей птицы», подписанная целой дюжиной сибирских деятелей культуры, больше половины из которых, как потом выяснилось, на тех концертах в Красноярске вообще не были, а просто выполняли чьё-то указание. Не хочется даже кратко пересказывать: отвращение охватывает. В общем, статья плохая. Помещение редакции «Комсомолки», напечатавшей этот пасквиль, было завалено злобными ответными письмами в защиту группы.
В очередной раз «Машина» обрела мученический венец и статус борца за свободу. Уже тогда говорили, что песни Макаревича даже не двусмысленные, а «трёхсмысленные». И тут появляется песня про дождик…
Народ не обманешь! И ежу понятно – песня про Сталина.
– Про какого Сталина, про Хрущёва! – кричали другие.
Третьи молчали, снисходительно улыбаясь: чего с дураками спорить. Ведь совершенно ясно: песня про Брежнева.
Ожидавшиеся после выступления «Комсомольской правды» ужасающие репрессии не последовали, что-то там у них не сработало, налаженный механизм засбоил, но зато группу стали душить худсоветами.
Почти перед каждой поездкой или незначительным обновлением репертуара устраивалась «сдача программы».
Обставлялось это всё помпезно: в огромном зале на полном комплекте аппаратуры со светом и дымом артисты за полтора часа в сотый раз должны были доказать свое право выступать перед зрителями. А в зале находилось человек десять-пятнадцать – комиссия. Затем в специальной комнате с бутербродами и фантой (боюсь, что и не только с фантой) происходила комедия обсуждения. Допускались туда из наших только А.В. Макаревич и В.И. Директор, остальные в волнении топтались в местах для курения. Насколько я помню, ничего конкретного не говорилось. Расплывчатые формулировки «подработать», «обратить внимание» и т. д.
Позже они усовершенствовали тактику, увеличив комиссию до сорока и более членов. Тогда, сославшись на отсутствие кворума, можно было спокойно перенести прослушивание на недельку-другую. Причём об этом сообщалось почему-то уже после концерта. Наверное, посчитаться заранее было трудновато (ой, это я себя три раза посчитал), а солнечное искусство «Машины» благотворно влияло на математические способности – тут-то всё и выяснялось.
Наконец партия и правительство начали проявлять нетерпение: есть такая группа «Машина времени» или нет, может она выступать перед широкими трудящимися массами или не может она выступать перед широкими трудящимися массами?
Нам конкретный ответ требовался не меньше, чем правительству, но получить его было крайне трудно. Время было смутное: уже пробивались первые ростки если не демократии, то хотя бы здравого смысла, и за решительное «нет» можно было получить по шапке так же, как и за решительное «да».
Наша тактика сводилась к тому, чтобы любыми средствами обеспечить стопроцентную явку комиссии на прослушивание. Их же задача состояла в том, чтобы всеми правдами и неправдами избежать пугающего конкретного ответа, а значит, кворума не допускать.
Мы распределили членов комиссии по количеству своих и приятельских автомобилей, чтобы организовать доставку туда-обратно и устранить хотя бы одну из причин неявки – транспортную. Но аппаратные игры оказались куда интереснее, чем предполагалось. Члены были разбиты по ареалам обитания. Я обслуживал «куст» Сокол – Хорошевское шоссе. Сначала нужно было позвонить, дома ли, а то стоишь потом, целуешь закрытую дверь, а он с той стороны дышит. Ладно. Звоню:
– Здравствуйте, Зураб Моисеич! Это имярек Капитановский. Через двадцать минут буду у вас.
– Зачем?
– Сегодня же двенадцатое, «Машину времени» слушать и одобрять.
– Не помню я чего-то. А кто будет?
– Все.
– А кто все? А Крапивин, а Одоровская, а Слепак?
– Да все, все. Одоровская сказала, если Зураб будет – приду.
– А я буду? А я-то, наверное, и не буду, я только что ногу сломал.
Так мне эту гадость надоело вспоминать, прямо тьфу! Да что там говорить! Где они все сейчас? Слепак этот, Зураб Моисеев сын, Одоровская? Кто их помнит?
А великолепная «Машина времени» свой двадцатипятилетний юбилей справляла на Красной площади, между прочим. И с этого момента закончилась история площади как символа эпохи темного советского царства.
Не всё, конечно, тогда так уныло было. С некоторых пор группа стала иногда неожиданные подарки получать: то афиши быстро напечатают, то костюмы приличные пошьют. Дело в том, что бывшие юные поклонники «Машины» как-то незаметно подросли, а некоторые из них за ум взялись и большими начальниками заделались. Вот и помогали по старой памяти чем могли.
Пришел однажды Андрей на приём к чуть ли не замминистра дела группы обсудить. Тот из-за стола встал, руку подал:
– Присаживайтесь, пожалуйста, дорогой Андрей Вадимович, какие проблемы? Я, – говорит, – помню, как мы с ребятами на ваш концерт по трубе лазали. Если вы по поводу аппаратуры, так я в три секунды все подпишу.
И действительно, все вопросы решил и подписал. Потом до дверей провожать пошёл и спрашивает:
– Ну а вообще как оно, ничего?
Андрей поблагодарил, конечно, говорит:
– Спасибочки, да всё нормально, только шьют мне политический подтекст к простейшим песенкам. Глупость какая!
– Это про дождик, что ли? Ха-ха-ха! Дураки какие! Да вы внимания не обращайте, мало ли. Идите спокойно, творите, радуйте нас своими песнями.
Затем вспомнил что-то, оглянулся, дверь притворил и спрашивает:
– Ну, между нами, всё-таки про кого? Про Гитлера или про Сталина?
Часто спрашивают: почему у «Машины» нет практически песен про любовь? Андрей считает, что, наоборот, все его песни о любви. Ведь он трактует это понятие значительно шире, нежели просто отношения, связывающие мужчину и женщину.
И ещё, я думаю, любовь – это настолько интимное дело, что кричать о ней «под фанеру» во Дворце спорта где-нибудь в Епидопельске по крайней мере бестактно.
Чудовищный шквал третьесортных песенок про «я тебя люблю» не только прививает дурной вкус, но и опошляет само чувство.
Конечно, глупо требовать от поп-культуры доверительной любовной лирики, с которой обращаются к читателю хорошие поэты, ведь и обращаются они «один на один», а не к десятитысячной аудитории, но уж хотя бы можно воздержаться от откровенного хамства и пошлости.
Однажды, будучи сильно влюблён, я попытался всерьёз написать хорошие, добрые стихи о своих переживаниях. Мечтал вложить в них всю душу. Создать нетленное произведение. Старался изо всех сил целую неделю, но душу вложить так и не удалось. Всё получалась какая-то пресная жвачка, и так я эти красивые слова замусолил и залапал, что и сама моя любовь к той девушке прошла, превратившись в стойкое отвращение.
Долго я мучился от собственной бездарности. Как же так, ведь всё у меня было: и переживания, и нежность, и кое-какая страсть, а лучшая песня всех времен и народов так и не вышла.
Но мы не привыкли отступать – так, кажется, пелось в ныне уже покойном киножурнале «Хочу всё знать». Коль у меня не получилась лучшая песня, попробую-ка написать самую худшую.
Если вы думаете, что написать худшую песню проще простого, вы глубоко заблуждаетесь. Оказалось, гораздо труднее, чем я ожидал. Для начала пришлось себя представить лопоухим болваном, мучающим композиторов безумными текстами, вжиться покрепче в этот образ. Это-то мне удалось без труда. Достаточно было дня три кряду посмотреть телевизионные музыкальные программы и купить пиджак в крупную полоску. Затем по всем правилам я должен был на последние деньги приобрести подержанную пишущую машинку или по крайней мере обзавестись парой толстых поэтических тетрадей. Выбрал второй вариант (по жабьему принципу). Дальше уже все как по маслу покатило: придумал «либретто», за каких-то два месяца при помощи силлаботонического стихосложения облек его в поэзию, отшлифовал по углам, подбил бабки, спустил на тормозах на мягких лапах, провентилировал вопрос, посмотрел на мир широко открытыми глазами, вызвал на ковёр и изящно переписал одноцветной шариковой ручкой. Получился вот такой шедевр:
Солнышко светит, цветочки цветут,
девичьи глазки мне спать не дают,
брови – дугою и нежный овал
крепко мне в душу однажды запал,
и белый свет мне не мил уже стал.
Больше не стану я выпить нигде
и подниму я успехи в труде,
первым в работе стараюсь я стать,
станешь тогда ты меня замечать
и свиданья свои мне обещать.
Радуга в небе и птички поют,
двое влюбленных по травке пойдут —
я твою руку возьму в свой кулак,
светят мне губы твои, как маяк,
будет с тобой у нас счастье – ништяк, вот так.
Стану хвалить я одежду твою,
скажешь тогда ты мне робко «люблю»,
будет счастливая наша семья,
вместе поедем в другие края,
потому что люблю тебя я.
Вот примерно в таком разрезе, а особенно, как я считаю, удался припев:
Дождик капелью стучится: кап-кап, —
купим с тобою мы плательный шкап,
поезд колёсами дробит: тук-тук, —
ты – мне друг и я – тебе тоже друг.
Причём в первоначальных вариантах вместо «купим с тобою…» было «стану ходить за тобой как араб», но, твёрдо решив воздержаться от политики и национального вопроса, я переделал на бесполый «шкап».
Полюбовался на произведение, представил, как поёт его какой-нибудь серьезный певец в сопровождении оркестра, и так мне стало приятно – прямо кайф. Уж так плохо написано, что очень хорошо. Кайф наоборот.
Мне ещё в армии узбек один рассказывал анекдот: «Жил-был пастух. Курил анашу с самого рождения. Курил анашу с самого первого утра и до тридцати семи лет. И, видимо, к ней привык. А потом в день своего тридцатисемилетия встал с утра и хотел покурить, а анаши-то и нет, кончилась вся. Послал он вниз в деревню мальчишку, а тот вернулся только под вечер. Таким образом, пастух впервые за тридцать семь лет целый день не курил. И такой от этого словил кайф! Кайф наоборот».
Итак, закончил я творческий процесс, отпечатал в трёх экземплярах, название придумал залихватское – «Песнь о любви» и побежал всем показывать. Однако настоящего искромётного успеха не имел: «Слабовато, – говорят, – а местами не в размер». И никто ведь не сказал: «Козлиная ты рожа!»
Я, честно говоря, такой критики не ожидал. Обескуражился. А меня утешают: «Ладно уж, не расстраивайся – бывает хуже».
Как же, думаю, хуже? Опять не получилось? Ещё раз перечитал – хуже некуда. Расстроился по-настоящему: ни хрена из меня не получается. Но я упрямый, это дело сразу не бросил.