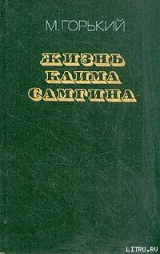
Текст книги "Жизнь Клима Самгина (Сорок лет). Повесть. Часть вторая"
Автор книги: Максим Горький
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 39 страниц)
Преодолевая шум, кричал из угла глуховатый голос:
– Совершенно верно сказано! Многие потому суются в революцию, что страшно жить. Подобно баранам ночью, на пожаре, бросаются прямо в огонь.
Он как будто нарочно подбирал слова на «о», и они напористо лезли в уши.
Патрон, шлепая ладонью по столу, безуспешно внушал:
– Гос-пода! Поря-док...
Его не слушали. Кутузов заклеивал языком лопнувшую папиросу, а Поярков кричал через его плечо Прейсу:
– Да, необходимо создать организацию, которая была бы способна объединять в каждый данный момент все революционные силы, всякие вспышки, воспитывать и умножать бойцов для решительного боя – вот! Дунаев, товарищ Дунаев...
Дунаева прижали к стене двое незнакомых Климу молодых людей, один – в поддевке; они наперебой говорили ему что-то, а он смеялся, протяжно, поддразнивающим тоном тянул:
– Да – неужели?
Человек в поддевке сипло говорил в лицо Дунаева:
– Крестьянство захлестнет вас, как сусликов.
– Да – ну-у? Сгорят бараны? Пускай. Какой вред? Дым гуще, вонь будет, а вреда – нет.
Особенно был раздражен бритоголовый человек, он расползался по столу, опираясь на него локтем, протянув правую руку к лицу Кутузова. Синий шар головы его теперь пришелся как раз под опаловым шаром лампы, смешно и жутко повторяя его. Слов его Самгин не слышал, а в голосе чувствовал личную и горькую обиду. Но был ясно слышен сухой голее Прейса:
– Никак не мог я ожидать, что вы – вы! – дойдете до утверждения необходимости искусственной фабрикации каких-то буревестников и вообще до...
От волнения он удваивал начальные слога некоторых слов. Кутузов смотрел на него улыбаясь и вежливо пускал дым из угла рта в сторону патрона, патрон отмахивался ладонью; лицо у него было безнадежное, он гладил подбородок карандашом и смотрел на синий череп, качавшийся пред ним. Поярков неистово кричал:
– Эволюция? Задохнетесь вы в этой эволюции, вот что! Лакейство пред действительностью, а ей надо кости переломать.
Слово «действительность» он произнес сквозь зубы и расчленяя по слогам, слог «стви» звучал, как ругательство, а лицо его покрылось пятнами, глаза блестели, как чешуйки сазана.
«Дунаев держит его за пояс, точно злого пса», – отметил Клим.
– Мы, старые общественные работники, – сильным басом и возмущенно говорил патрон.
Его не слушали. Рассеянные по комнате люди, выходя из сумрака, из углов, постепенно и как бы против воли своей, сдвигались к столу. Бритоголовый встал на ноги и оказался длинным, плоским и по фигуре похожим на Дьякона. Теперь Самгин видел его лицо, – лицо человека, как бы только что переболевшего какой-то тяжелой, иссушающей болезнью, собранное из мелких костей, обтянутое старчески желтой кожей; в темных глазницах сверкали маленькие, узкие глаза.
– Фанатизм! Аввакумовщина! Баварское крестьянство доказало... Деревенский социализм Италии...
Он взвизгивал и точно читал заголовки конспекта, бессвязно выкрикивая их. Руки его были коротки сравнительно с туловищем, он расталкивал воздух локтями, а кисти его болтались, как вывихнутые. Кутузов, покуривая, негромко, неохотно и кратко возражал ему. Клим не слышал его и досадовал – очень хотелось знать, что говорит Кутузов. Мяогогласие всегда несколько притупляло внимание Самгина, и он уже не столько следил за словами, сколько за игрою физиономий.
– Господа! – кричал бритый. – «Тяжелый крест достался нам на долю!» Каждый из нас – раб, прикованный цепью прошлого к тяжелой колеснице истории; мы – каторжники, осужденные на работу в недрах земли...
– Позвольте, я не согласен! – заявил о себе человек в сером костюме и в очках на татарском лице. – Прыжок из царства необходимости в царство свободы должен быть сделан, иначе – Ваал пожрет нас. Мы должны переродиться из подневольных людей в свободных работников...
– Это – ваше дело, перерождайтесь, – громко произнес Кутузов и спросил: – Но какое же до вас дело рабочему-то классу, действительно революционной силе?
Он стал говорить тише и этим заставил слушать себя. Стоя у стены, в тени, Самгин понимал, что Кутузов говорит нечто разоблачающее именно его, Самгина. Он видел, что в этой комнате, скудно освещенной опаловым шаром, пародией на луну, есть люди, чей разум противоречит чувству, но эти люди все же расколоты не так, как он, человек, чувство и разум которого мучает какая-то непонятная третья сила, заставляя его жить не так, как он хочет. Слушая Кутузова, он ощущал, что спокойное, даже как будто неохотное течение речи кружит и засасывает его в какую-то воронку, в омут. Не впервые ощущал он гипнотическое влияние Кутузова, но никогда еще не ощущал этого с такой силой.
«Должно быть – он прав», – соображал Самгин, вспомнив крики Дьякона о Гедеоне и слова патрона о революции «с подстрекателями, но без вождей».
Он видел, что большинство людей примолкло, лишь некоторые укрощенно ворчат да иронически похохатывает бритоголовый. Кутузов говорит, как профессор со своими учениками.
– Я – понимаю: все ищут ключей к тайнам жизни, выдавая эти поиски за серьезное дело. Но – ключей не находят и пускают в дело идеалистические фомки, отмычки и всякий другой воровской инструмент.
– Вульгарно! – крикнул бритый, притопнув ногой, нагнувшись вперед, точно падая. – Наука...
– Я не говорю о положительных науках, источнике техники, облегчающей каторжный труд рабочего человека. А что – вульгарно, так я не претендую на утонченность. Человек я грубоватый, с тем и возьмите.
Говоря, Кутузов постукивал пальцем левой руки по столу, а пальцами правой разминал папиросу, должно быть, слишком туго набитую. Из нее на стол сыпался табак, патрон, брезгливо оттопырив нижнюю губу, следил за этой операцией неодобрительно: Когда Кутузов размял папиросу, патрон, вынув платок, смахнул табак со стола на колени себе. Кутузов с любопытством взглянул на него, и Самгину показалось, что уши патрона покраснели.
– Рассуждая революционно, мы, конечно, не боимся действовать противузаконно, как боятся этого некоторые иные. Но – мы против «вспышкопускательства», – по слову одного товарища, – и против дуэлей с министрами. Герои на час приятны в романах, а жизнь требует мужественных работников, которые понимали бы, что великое дело рабочего класса – их кровное, историческое дело...
– Вы – проповедник якобы неоспоримых истин, – закричал бритый. Он говорил быстро, захлебываясь словами, и Самгин не мог понять его, а Кутузов, отмахнувшись широкой ладонью, сказал:
– Неверно, милостивый государь, культура действительно погибает, но – не от механизации жизни, как вы изволили сказать, не от техники, культурное значение которой, видимо, не ясно вам, – погибает она от идиотической психологии буржуазии, от жадности мещан, торгашей, убивающих любовь к труду. Затем – еще раз повторю: великолепный ваш мятежный человек ищет бури лишь потому, что он, шельма, надеется за бурей обрести покой. Это – может быть – законно, но – до покоя не близко. Лично я сомневаюсь, что он возможен и нужен человеку.
Кутузов встал, вынул из кармана толстые, как луковица, серебряные часы, взглянул на них, взвесил на ладони.
– Однако – не пора ли прекратить эти «микроскопические для души увеселения»? Так озаглавлена одна старинная книга о гидре, организме примитивнейшем и слепом.
Самгин незаметно подвигался к двери; ему не хотелось встречи с Кутузовым, а того более – с Поярковым и Дунаевым. В комнате снова бурно закричали, кто-то возмутился:
– Вы называете микроскопическими увеселениями...
На улице было пустынно и неприятно тихо. Полночь успокоила огромный город. Огни фонарей освещали грязножелтые клочья облаков. Таял снег, и от него уже исходил запах весенней сырости. Мягко падали капли с крыш, напоминая шорох ночных бабочек о стекло окна.
Самгин шел тихо, как бы опасаясь расплескать на ходу все то, чем он был наполнен. Большую часть сказанного Кутузовым Клим и читал и слышал из разных уст десятки раз, но в устах Кутузова эти мысли принимали как бы густоту и тяжесть первоисточника. Самгин видел пред собой Кутузова в тесном окружении раздраженных, враждебных ему людей вызывающе спокойным, уверенным в своей силе, – как всегда, это будило и зависть и симпатию.
«Уметь вот так сопротивляться людям...»
Он представил Кутузова среди рабочих, неохотно шагавших в Кремль.
«Как бы он вел себя в этих случаях?»
Этого он не мог представить, но подумал, что, наверное, многие рабочие не пошли бы к памятнику царя, если б этот человек был с ними. Потом память воскресила и поставила рядом с Кутузовым молодого человека с голубыми глазами и виноватой улыбкой; патрона, который демонстративно смахивает платком табак со стола; чудовищно разжиревшего Варавку и еще множество разных людей. Кутузов не терялся в их толпе, не потерялся он и в деревне, среди сурово настроенных мужиков, которые растащили хлеб из магазина.
«Нет, его не назовешь рабом, «прикованным к тяжелой колеснице истории»...»
И тут Клим Самгин впервые горестно пожалел о том, что у него нет человека, с которым он мог бы откровенно говорить о себе.
Почти около дома его обогнал человек в черном пальто с металлическими пуговицами, в фуражке чиновника, надвинутой на глаза, – обогнал, оглянулся и, остановясь, спросил голосом Кутузова:
– Самгин? Здравствуйте. Я видел вас там, у этого быка, хотел подойти, а вы вдруг исчезли, – сдерживая голос, осматривая безлюдную улицу, говорил Кутузов. – Я ведь к вам, то есть не к вам, а к Сомовой...
– Ее арестовали, – сказал Самгин очень тихо, опасаясь, чтоб Кутузов не услыхал в его тоне чувства, которое ему не нужно слышать, – Самгин сам не звал, какое это чувство.
Кутузов круто остановился, толкнув его локтем и плечом.
– Чорт... Когда? Почему же вы там не сказали мне?
Сняв фуражку, он пошел очень быстро, спрашивая:
– Больна? Паскудная история! Н-да». Где же я ночую? Она писала, что приготовит мне ночлеги. Это – не у вас?
– Вероятно, – сказал Клим.
– А может быть, неудобно? Говорите прямо.
– Здесь, – сказал Самгин, прижимаясь к двери крыльца и нажав кнопку звонка.
– Кажется – чисто, – проворчал Кутузов, оглядываясь. – Меня зовут – для ваших домашних – Егор Николаевич Пономарев, – не забудете? Документ у меня безукоризненный.
– Я думаю, жена узнает вас...
– Гм... узнает? – пробормотал Кутузов, раздеваясь в прихожей. – Ну, а монумент, который открыл нам дверь, не удивится столь позднему гостю?
– Привыкла, – сказал Самгин и поймал себя в желании намекнуть, что конспиративные дела не новость для него.
– Так – зацапали Любашу? – спросил Кутузов, войдя в столовую, оглядываясь. – Уже два раза не удалось мне встретиться с нею, то – я арестован, то – она! Это – третий. Чорт знает, как глупо!
Самгину показалось, что он слышит в словах Кутузова нечто близкое унынию, и пожалел, что не видит лица, – Кутузов стоял, наклоня голову, разбирая папиросы в коробке, Самгин предложил ему закусить.
– С удовольствием, но – без прислуги, а? Там – подали чай, бутерброды, холодные котлеты, но я... поспешил уйти. Вечерок. – не из удачных.
– Кто это бритый? – спросил Клим.
– Бывший человек. Громкое имя, когда-то. Он назвал имя, ничего не сказавшее Климу. Пройдя в комнату жены, Клим увидал, что она торопливо одевается.
– Что случилось? Кто это? – тревожным шопотом спросила она. – Ах, помню, это певец, которым восхищалась Любаша. Хочет есть? Иди, я сейчас!
Но Самгин не спешил выйти в столовую и вышел вместе с нею.
– О, здравствуйте, русалка! Я узнал вас по глазам, – оживленно и ласково встретил Варвару Кутузов. – Помните, – мы танцевали на вечеринке у кривозубого купца, – как его?
Самгину оживление гостя показалось искусственным, но он подумал с досадой на себя, что видел Лютова сотню раз, а не заметил кривых зубов, а – верно, зубы-то кривые! Через пять минут он с удивлением, но без удовольствия слушал, как Варвара деловито говорит:
– За нами, разумеется, следят, но завтра я вам укажу две совершенно чистых квартиры...
– Нет – серьезно? Недельки бы на две, а?
– Возможно.
Кутузов со вкусом ел сардины, сыр, пил красное вино и держался так свободно, как будто он не первый раз в этой комнате, а Варвара – давняя и приятная знакомая его.
«Она ведет себя, точно провинциалка пред столичной знаменитостью», – подумал Самгин, чувствуя себя лишним и как бы взвешенным в воздухе. Но он хорошо видел, что Варвара ведет беседу бойко, даже задорно, выспрашивает Кутузова с ловкостью. Гость отвечал ей охотно.
– Ссылка? Это установлено для того, чтоб подумать, поучиться. Да, скучновато. Четыре тысячи семьсот обывателей, никому – и самим себе – не нужных, беспомощных людей; они отстали от больших городов лет на тридцать, на пятьдесят, и все, сплошь, заражены скептицизмом невежд. Со скуки – чудят. Пьют. Зимними ночами в город заходят волки...
Анфимьевна, к неудовольствию Клима, внесла самовар, а Варвара, заваривая чай, спросила:
– Что же будут делать эти ненужные во время революции?
– Революция – не завтра, – ответил Кутузов, глядя на самовар с явным вожделением, вытирая бороду салфеткой. – До нее некоторые, наверное, превратятся в людей, способных на что-нибудь дельное, а большинство – думать надо – будет пассивно или активно сопротивляться революции и на этом – погибнет.
– Просто у вас все, – сказала Варвара, как будто одобрительно, Самгин, нахмурясь, пробормотал:
– Ну, это не очень просто.
– А – как же? – спросил Кутузов, усмехаясь. – В революции, – подразумеваю социальную, – логический закон исключенного третьего будет действовать беспощадно: да или нет.
Самгин хотел сказать «это – жестоко» и еще много хотел бы сказать, но Варвара допрашивала все жаднее и уже волнуясь почему-то. Кутузов, с наслаждением прихлебывая чай, говорил как-то излишне ласково:
– Какую же роль может играть религия, из которой практика жизни давно уже и совершенно вычеркнула, вытравила всякую мораль?
– Идеализм – основное свойство души человека, – наскакивала Варвара покраснев, блестя глазами, щурясь.
– Рабочему классу философский идеализм – враждебен; признать бытие каких-то тайных и непознаваемых сил вне себя, вне своей энергии рабочий не может и не должен. Для него достаточно социального идеализма, да и сей последний принимается не без оговорок.
Самгин соображал:
«У него каждая мысль – звено цепи, которой он прикован к своей вере. Да, – он сильный человек, но...»
Но – хотелось спорить с Кутузовым. Однако для спора, кроме желания спорить, необходима своя «система фраз», а кроме этого мешало еще нечто. Что?
Задумавшись, Самгин пропустил часть беседы мимо ушей. Варвара уже спрашивала:
– Вы – охотник?
– Пробовал, но – не увлекся. Перебил волку позвоночник, жалко стало зверюгу, отчаянно мучился. Пришлось добить, а это уж совсем скверно. Ходил стрелять тетеревей на току, но до того заинтересовался птичьим обрядом любви, что выстрелить опоздал. Да, признаюсь, и не хотелось. Это – удивительная штука – токованье!
Климу становилось все более неловко и обидно молчать, а беседа жены с гостем принимала характер состязания уже не на словах: во взгляде Кутузова светилась мечтательная улыбочка, Самгин находил ее хитроватой, соблазняющей. Эта улыбка отражалась и в глазах Варвары, широко открытых, напряженно внимательных; вероятно, так смотрит женщина, взвешивая и решая что-то важное для нее. И, уступив своей досаде, Самгин сказал:
– Волков – жалко вам, а о людях вы рассуждаете весьма упрощенно и безжалостно.
Кутузов усмехнулся, подливая в стакан красное вино.
– А вы, индивидуалист, все еще бунтуете? – скучновато спросил он и вздохнул. – Что ж – люди? Они сами идиотски безжалостно устроились по отношению друг ко другу, за это им и придется жесточайше заплатить.
Он повторил знакомую Климу фразу:
– Патокой гуманизма невозможно подсластить ядовитую горечь действительности, да к тому же цинизм ее давно уничтожил все евангелия.
По лицу Кутузова было видно, что его одолевает усталость, он даже потянулся недопустимо при даме и так, что хрустнули сухожилия рук, закинутых за шею.
«Счастливая способность бездомного бродяги – везде чувствовать себя дома», – отметил Самгин.
Но внимание Варвары, видимо, возбуждало Кутузова, он снова заговорил оживленно:
– Издыхает буржуазное общество, загнило с головы. На Западе это понятно – работали много, истощились, а вот у нас декадансы как будто преждевременны. Декадент у нас толстенький, сытый, розовощекий и – не даровит. Верленов – не заметно.
Он задним выпил чай, охлажденный вином, вытер губы измятым платком.
Самгин продолжал думать о Кутузове недружелюбно, но уже поймал себя на том, что думает так по обязанности самозащиты, не внося в мысли свои ни злости, ни иронии, даже как бы насилуя что-то в себе.
– Лозунг командующих классов – назад, ко всяческим примитивам в литературе, в искусстве, всюду. Помните приглашение «назад к Фихте»? Но – это вопль испуганного схоласта, механически воспринимающего всякие идеи и страхи, а конечно, позовут и дальше – к церкви, к чудесам, к чорту, все равно – куда, только бы дальше от разума истории, потому что он становится все более враждебен людям, эксплуатирующим чужой труд.
Варвара, спрятав глаза под ресницами, сказала:
– Да, очень заметно, что людей увлекает иррациональное, хотя, может быть, причина не та, которую указали вы...
– А – какая же? – лениво спросил Кутузов.
– Скучно быть умниками, – не сразу ответила Варвара и прибавила, вздохнув: – Людям хочется безумств... Кутузов пожал плечами.
– Что же можно выдумать безумнее действительности?
– Да, – громко сказал Самгин и почему-то смутился. – А не пора вам отдохнуть? – предложил он.
Через полчаса он сидел во тьме своей комнаты, глядя в зеркало, в полосу света, свет падал на стекло, проходя в щель неприкрытой двери, и показывал половину человека в ночном белье, он тоже сидел на диване, согнувшись, держал за шнурок ботинок и раскачивал его, точно решал – куда швырнуть? Кулаком правой руки он бесшумно бил по колену. Так сидел он минуту, две. Потом, опустив ботинок на пол, он взял со стула тужурку, разложил ее на коленях, вынул из кармана пачку бумаг, пересмотрел ее и, разорвав две из них на мелкие куски, зажал в кулак, оглянулся, прикусив губу так, что острая борода его встала торчком, а брови соединились в одну линию. Лицо у него незнакомо угрюмое. Открытый ворот рубахи обнажил очень белую, мускулистую шею и полукружия ключиц, похожие на подковы. Глаза его округлились, и, несомненно, он сжал зубы – резко выступили скулы. Было ясно, что Кутузовым овладел приступ очень сильного чувства, должно быть – злости или – горя. Вот он встал, показался в зеркале во весь рост, затем исчез, и было слышно, что он отдернул драпировку окна.
Наблюдая за человеком в соседней комнате, Самгин понимал, что человек этот испытывает боль, и мысленно сближался с ним. Боль – это слабость,, и, если сейчас, в минуту слабости, подойти к человеку, может быть, он обнаружит с предельной ясностью ту силу, которая заставляет его жить волчьей жизнью бродяги. Невозможно, нелепо допустить, чтоб эта сила почерпалась им из книг, от разума. Да, вот пойти к нему и откровенно, без многоточий поговорить с ним о нем, о себе. О Сомовой. Он кажется влюбленным в нее.
«Мне – тридцать лет, – напомнил себе Клим. – Я – не юноша, который не знает, как жить...»
Но, разбудив свое самолюбие, он задумался: что тянет его к человеку именно этой «системы фраз»?
«Наследственность?»
Он иронически усмехнулся, вспомнив отца, мать, деда.
«Впечатления детства?»
Кутузов, задернув драпировку, снова явился в зеркале, большой, белый, с лицом очень строгим и печальным. Провел обеими руками по остриженной голове и, погасив свет, исчез в темноте более густой, чем наполнявшая комнату Самгина. Клим, ступая на пальцы ног, встал и тоже подошел к незавешенному окну. Горит фонарь, как всегда, и, как всегда, – отблеск огня на грязной, сырой стене.
«Очень это странно, человек – не знающий, что его наблюдает другой. Вероятно, я тоже показался бы... не таким, как он, разумеется».
Идти в спальню не хотелось, возможно, что жена еще не спит. Самгин знал, что все, о чем говорил Кутузов, враждебно Варваре и что мина внимания, с которой она слушала его, – фальшивая мина. Вспоминалось, что, когда он сказал ей, что даже в одном из «правительственных сообщений» признано наличие революционного движения, – она удивленно спросила:
«Неужели? Вот идиоты...»
Утром, когда Самгин оделся и вышел в столовую, жена и Кутузов уже ушли из дома, а вечером Варвара уехала в Петербург – хлопотать по своим издательским делам. Через несколько дней, прожитых в настроении мутном и раздражительном, Самгин тоже поехал в Калужскую губернию, с неделю катался по проселочным дорогам, среди полей и лесов, побывал в сонных городках, физически устал и успокоился. По пути домой он застрял на почтовой станции, где не оказалось лошадей, спросил самовар, а пока собирали чай, неохотно посыпался мелкий дождь, затем он стал гуще, упрямее, крупней, – заиграли синие молнии, загремел гром, сердитым конем зафыркал ветер в печной трубе – и начал хлестать, как из ведра, в стекла окон. Но сквозь дождь и гром ко крыльцу станции подкатил кто-то, молния осветила в окне мокрую голову черной лошади; дверь распахнулась, и, отряхиваясь, точно петух, на пороге встал человек в клеенчатом плаще, сдувая с густых, светлых усов капли дождя. Затем, посторонясь, он пропустил вперед себя женщину и зарычал сердитым басом.
– Я говорил – не успеем... «Вот окрик мужа», – подумал Клим.
– Самгин? Вы? – резко и как бы с испугом вскричала женщина, пытаясь снять с головы раскисший капюшон парусинового пальто и заслоняя усатое лицо спутника. – Да, – сказала она ему, – но поезжайте скорее, сейчас же!
Человек показал спину, блестевшую, точно кровельное железо, исчез, громко хлопнул дверью, а Марья Ивановна Никонова, отклеивая мокрое пальто с плеч своих, оживленно говорила:
– Вот ливень! В пять минут – ни одной сухой нитки! Самгин тотчас отметил, что она не похожа на себя, и, как всегда, это было неприятно ему: он терпеть не мог, когда люди выскальзывали из рамок тех представлений, в которые он вставил их. В том, что она назвала его по фамилии, было что-то размашистое, фамильярное, разноречившее с ее обычной скромностью, а когда она провела маленькими ладонями по влажному лицу, Самгин увидал незнакомую ему улыбку, широкую и ласковую. Она никогда не улыбалась так. Самгин заподозрил, что эту новую улыбку Никонова натянула на лицо свое, как маску. На станции ее знали, дородная баба, называя ее по имени и отчеству, сочувственно охая, увела ее куда-то, и через десяток минут Никонова воротилась в пестрой юбке, в красной кофте, одетой, должно быть, на голое тело; голова ее была повязана желтым платком с цветами. Этот наряд сделал Никонову моложе, лицо, нахлестанное дождем, ярко разрумянилось, глаза блестели весело.
– Ну, угощайте меня, озябла? Но, посмотрев, как неловко действует Самгин у самовара, она отняла чайник из его руки.
– Не умеете.
Налив себе чаю, она стала резать хлеб, по-крестьянски прижав ко грудям каравай; груди мешали. Тогда она бесцеремонно заправила кофту за пояс юбки, от этого груди наметились выпуклее. Самгин покосился на них и спросил:
– Кто это провожал вас – муж?
– Нет. Управляющий имением знакомых, где я гостила.
– Офицер?
Разрезая жареную курицу, она мельком взглянула на Самгина.
– Разве похож на военного?
– Да. Кажется, я его где-то видел.
– Саша, дайте мне полушалок, – крикнула Никонова, постучав кулаком в тесовую переборку.
Шипел и посвистывал ветер, бил гром, заставляя вздрагивать огонь висячей лампы; стекла окна в блеске молний синевато плавились, дождь хлестал все яростней.
– Мы – точно на дне кипящего котла, – тихо сказала женщина.
Самгин согласился.
– Да, похоже.
Замолчали. Самгин понимал, что молчать невежливо, но что-то мешало ему говорить с этой женщиной в привычном, докторальном тоне; а она, вопросительно посматривая на него, как будто ждала, что он скажет. И, не дождавшись, сказала, вздохнув:
– Это – надолго! Пожалуй, придется ночевать здесь. В такие ночи или зимой, когда вьюга, чувствуешь себя ненужной на земле.
– Человек никому не нужен, кроме себя, – отозвался Клим и, подумав-. «Глупо!» – предложил ей папиросу.
– Благодарствую, не курю.
Она откинулась на спинку стула, прикрыв глаза. Груди ее неприлично торчали, шевеля ткань кофты и точно стремясь обнажиться. На незначительном лице застыло напряжение, как у человека, который внимательно прислушивается.
– Вчера там, – заговорила она, показав глазами на окно, – хоронили мужика. Брат его, знахарь, коновал, сказал... моей подруге: «Вот, гляди, человек сеет, и каждое зерно, прободая землю, дает хлеб и еще солому оставит по себе, а самого человека зароют в землю, сгниет, и – никакого толку».
Она встала, подошла к запотевшему окну, а Самгин, глядя на голые ноги ее, желтые, как масло, сказал:
– Не люблю я эту народную мудрость. Мне иногда кажется, что мужику отлично знакомы все жалобные писания о нем наших литераторов и что он, надеясь на помощь со стороны, сам ничего не делает, чтоб жить лучше.
Она не ответила. Свирепо ударил гром, окно как будто вырвало из стены, и Никонова, стоя в синем пламени, показалась на миг прозрачной.
– Убьет, – вздохнула она, отходя к столу и улыбаясь.
Клим подумал: нового в ее улыбке только то, что она легкая и быстрая. Эта женщина раздражала его. Почему она работает на революцию, и что может делать такая незаметная, бездарная? Она должна бы служить сиделкой в больнице или обучать детей грамоте где-нибудь в глухом селе. Помолчав, он стал рассказывать ей, как мужики поднимали колокол, как они разграбили хлебный магазин. Говорил насмешливо и с намерением обидеть ее. Вторя его словам, холодно кипел дождь.
– На эту тему я читала рассказ «Веревка», – сказала она. – Не помню – чей? Кажется, автор – женщина, – задумчиво сказала она, снова отходя к окну, и спросила: – Чего же вы хотите?
Утешающим тоном старшей, очень ласково она стала говорить вещи, с детства знакомые и надоевшие Самгину. У нее были кое-какие свои наблюдения, анекдоты, но она говорила не навязывая, не убеждая, а как ба разбираясь в том, что знала. Слушать ее тихий, мягкий голос было приятно, желание высмеять ее – исчезло. И приятна была ее доверчивость. Когда она подняла руки, чтоб поправить платок на голове, Самгин поймал ее руку и поцеловал. Она не протестовала, продолжая:
– Деревня пьет, беднеет, вымирает...
Послушав еще минуту, Самгин положил свою руку на ее левую грудь, она, вздрогнув, замолчала, Тогда, обняв ее шею, он поцеловал в губы.
– Ах, какой, – тихонько воскликнула она, прижимаясь к нему и шепча: – Еще не спят. Вы – ложитесь, я потом приду. Придти?
– Конечно.
С неожиданной силой разняв его руки, она ушла, а Самгин, раздеваясь, подумал:
«Просто. Должно быть, отдаваться товарищам по первому их требованию входит в круг ее обязанностей».
Погасив лампу, он лег на широкую постель в углу комнаты, прислушиваясь к неутомимому плеску и шороху дождя, ожидая Никонову так же спокойно, как ждал жену, – и вспомнил о жене с оттенком иронии. У кого-то из старых французов, Феваля или Поль де-Кока, он вычитал, что в интимных отношениях супругов есть признаки, по которым муж, если он не глуп, всегда узнает, была ли его жена в объятиях другого мужчины. Француз не сказал, каковы эти признаки, но в минуты ожидания другой женщины Самгин решил, что они уже замечены им в поведении Варвары, – в ее движениях явилась томная ленца и набалованность, раньше не свойственная ей, так набалованно и требовательно должна вести себя только женщина, которую сильно и нежно любят. Этим оправдывалось приключение с Никоновой. Затем он нехотя и как бы по обязанности подумал:
«Да, вот они, женщины...»
Шум дождя стал однообразен и равен тишине, и это беспокоило, заставляя ждать необычного. Когда женщина пришла, он упрекнул ее:
– Как долго!
– Молчите, – шепнула она.
Прошел час, может быть, два. Никонова, прижимая голову его к своей груди, спросила словами, которые он уже слышал когда-то:
– Хорошо со мной?
– Да, – искренно ответил он. Помолчав, она спросила:
– Но, разумеется, вы не высокого мнения о моей... нравственности?
– Как вы можете думать, – пробормотал Самгин.
– Да, – уж конечно. Ведь вы, наверное, тоже думаете, как принято, – по разуму, а не по совести.
Самгин насторожился; в словах ее было что-то умненькое. Неужели и он а будет философствовать в постели, как Лидия, или заведет какие-нибудь деловые разговоры, подобно Варваре? Упрека в ее беззвучных словах он не слышал и не мог видеть, с каким лицом она говорит. Она очень растрогала его нежностью, ему казалось, что таких ласк он еще не испытывал, и у него было желание сказать ей особенные слова благодарности. Но слов таких не находилось, он говорил руками, а Никонова шептала:
– Ты с первой встречи остался в памяти у меня. Помнишь – на дачах? Такой ягненок рядом с Лютовым. Мне тогда было шестнадцать лет...
Она дважды чихнула и, должно быть, сконфуженная этим, преувеличенно тревожно прошептала:
– Кажется – простудилась. Ну, я пойду! Не целуй, не надо...
Через несколько минут она растаяла, точно облако, а Самгин подумал:
«Странная какая. Вот – не ожидал».
Уже светало; стекла окон посерели, шум дождя заглушало журчание воды, стекавшей откуда-то в лужу. Утром Самгин узнал, что Никонова на рассвете уехала, и похвалил ее за это.
«Тактично. Точно во сне приснилась», – думал он, подпрыгивая в бричке по раскисшей дороге, среди шелково блестевших полей. Солнце играло с землею, как веселое дитя: пряталось среди мелко изорванных облаков, пышных и легких, точно чисто вымытое руно. Ветер ласково расчесывал молодую листву берез. Нарядная сойка сидела на голом сучке ветлы, глядя янтарным, рыбьим глазом в серебряное зеркало лужи, обрамленной травою. Ноги лошадей, не торопясь, месили грязь, наполняя воздух хлюпающими звуками; опаловые брызги взлетали из-под колес. Пел жаворонок. Свежесть воздуха приятно охмеляла, и разнеженный Самгин думал сквозь дремоту:
Только утро любви хорошо,
Хороши только первые встречи.
«Глуповатые стишки. Но кто-то сказал, что поэзия и должна быть глуповатой... Счастье – тоже. «Счастье на мосту с чашкой», – это о нищих. Пословицы всегда злы, в сущности. Счастье – это когда человек живет в мире с самим собою. Это и значит: жить честно».
Посмотрев, как хлопотливо порхают в придорожном кустарнике овсянки, он в сотый раз подумал: с детства, дома и в школе, потом – в университете его начиняли массой ненужных, обременительных знаний, идей, потом он прочитал множество книг и вот не может найти себя в паутине насильно воспринятого чужого...







