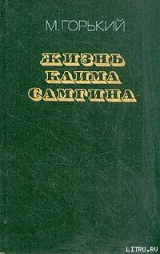
Текст книги "Жизнь Клима Самгина (Сорок лет). Повесть. Часть вторая"
Автор книги: Максим Горький
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 39 страниц)
Максим Горький
Жизнь Клима Самгина (Сорок лет)
Повесть
Часть вторая
Рассказывая Спивак о выставке, о ярмарке, Клим Самгин почувствовал, что умиление, испытанное им, осталось только в памяти, но как чувство – исчезло. Он понимал, что говорит неинтересно. Его стесняло желание найти свою линию между неумеренными славословиями одних газет и ворчливым скептицизмом других, а кроме того, он боялся попасть в тон грубоватых и глумливых статеек Инокова.
Даже для Федосовой он с трудом находил те большие слова, которыми надеялся рассказать о ней, а когда произносил эти слова, слышал, что они звучат сухо, тускло. Но все-таки выходило как-то так, что наиболее сильное впечатление на выставке всероссийского труда вызвала у него кривобокая старушка. Ему было неловко вспомнить о надеждах, связанных с молодым человеком, который оставил б памяти его только виноватую улыбку.
– Ничтожный человек, министры толкали и тащили его куда им было нужно, как подростка, – сказал он и несколько удивился силе мстительного, личного чувства, которое вложил в эти слова.
Сидели в саду, в тени вишен, богато украшенных аметистовыми бусами ягод. Был вечер, удушливая жара предвещала грозу; в небе, цвета снятого молока, пенились сизоватые клочья облаков; тени скользили по саду, и было странно видеть, что листва неподвижна. Спивак, облокотясь о круглый стол, врытый в землю, сжимая щеки ладонями, следила за красненькой букашкой, бестолково ползавшей по столу. Муж ее, полуодетый, лежал на ковре, под окном, сухо покашливал и толкал взад-вперед детскую коляску, в коляске шевелился большеголовый ребенок, спокойно, темными глазами изучая небо.
– В таком же тоне, но еще более резко писал мне Иноков о царе, – сказала Спивак и усмехнулась: – Иноков пишет письма так, как будто в России только двое грамотных: он и я, а жандармы – не умеют читать.
Красненькая букашка подползла близко к Самгину, он сердитым щелчком сбросил ее со стола.
– И – что же? – спросила Спивак, подняв голову. – Говорили что-нибудь о Ходынке?
– О Ходынке? Нет. Я – не слышал ничего, – ответил Клим и, вспомнив, что он, думая о царе, ни единого раза не подумал о московской катастрофе, сказал с иронической усмешкой:
– Незлобивый народ забыл об этом. Даже Иноков, который любит говорить о неприятном, – забыл.
Пристально взглянув на Клима, Спивак хотела сказать что-то, но зачмокал ребенок, муж дернул ее за подол платья:
– Просит есть!
Она взяла сына, отвернулась и, давая ему грудь, проговорила почему-то в нос:
– Вот какой у меня серьезный сын! Не капризничает, углублен в себя, молча осваивает мир. Хороший!
А отец Спивак сообщил, рассматривая на свет пальцы руки своей:
– Он думает, что музыка спрятана в пальцах у меня, под ногтями.
Клим почувствовал прилив невыносимой скуки. Все скучно: женщина, на белое платье которой поминутно ложатся пятнышки теней от листьев и ягод; чахоточный, зеленолицый музыкант в черных очках, неподвижная зелень сада, мутное небо, ленивенький шумок города.
Под тяжестью этой скуки он прожил несколько душных дней и ночей, негодуя на Варавку и мать: они, с выставки, уехали в Крым, это на месяц прикрепило его к дому и городу. По ночам, волнуемый привычкой к женщине, сердито и обиженно думал о Лидии, а как-то вечером поднялся наверх в ее комнату и был неприятно удивлен: на пружинной сетке кровати лежал свернутый матрац, подушки и белье убраны, зеркало закрыто газетной бумагой, кресло у окна – в сером чехле, все мелкие вещи спрятаны, цветов на подоконниках нет. И казалось, что эта неприглядная пустота иронически спрашивает:
«Да – была ли девушка-то?»
Но девушка была, об этом настойчиво говорила пустота в душе, тянущая, как боль.
Он вышел в большую комнату, место детских игр в зимние дни, и долго ходил по ней из угла в угол, думая о том, как легко исчезает из памяти все, кроме того, что тревожит. Где-то живет отец, о котором он никогда не вспоминает, так же, как о брате Дмитрии. А вот о Лидии думается против воли. Было бы не плохо, если б с нею случилось несчастие, неудачный роман или что-нибудь в этом роде. Было бы и для нее полезно, если б что-нибудь согнуло ее гордость. Чем она гордится? Не красива. И – не умна.
Очень пыльно было в доме, и эта пыльная пустота, обесцвечивая мысли, высасывала их. По комнатам, по двору лениво расхаживала прислуга, Клим смотрел на нее, как смотрят из окна вагона на коров вдали, в полях. Скука заплескивала его, возникая отовсюду, от всех людей, зданий, вещей, от всей массы города, прижавшегося на берегу тихой, мутной реки. Картины выставки линяли, забывались, как сновидение, и думалось, что их обесцвечивает, поглощает эта маленькая, сизая фигурка царя.
Спивак жила не задевая, не поучая его, что было приятно, но в то же время и обижало. Она казалась весьма озабоченной делами школы, говорила только о ней, об учениках, но и то неохотно, а смотрела на все, кроме ребенка и мужа, рассеянным взглядом человека, который или устал или слишком углублен в себя. В девять часов утра она уходила в школу, являлась домой к трем; от пяти до семи гуляла с ребенком и книгой в саду, в семь снова уходила заниматься с любителями хорового пения; возвращалась поздно. Иногда ее провожал регент соборного хора, длинноволосый, коренастый щеголь, в панаме, с тростью в руке, с толстыми усами, точно два куска смолы. Раз или два она спросила Клима:
– Вы будете писать о выставке?
– Пишу, – ответил он, хотя еще не начинал писать, мешала скука.
По утрам, через час после того, как уходила жена, из флигеля шел к воротам Спивак, шел нерешительно, точно ребенок, только что постигший искусство ходить по земле. Респиратор, выдвигая его подбородок, придавал его курчавой голове форму головы пуделя, а темненький, мохнатый костюм еще более подчеркивал сходство музыканта с ученой собакой из цирка. Встречаясь с Климом, он опускал респиратор к шее и говорил всегда что-нибудь о музыке.
– Вот – смотрите, – говорил он, подняв руки свои к лицу Самгина, показывая ему семь пальцев: – Семь нот, ведь только семь, да? Но – что же сделали из них Бетховен, Моцарт, Бах? И это – везде, во всем: нам дано очень мало, но мы создали бесконечно много прекрасного.
Утверждал, что язык музыки несравнимо богаче языка слов.
– Чтоб рассказать вам содержание одного аккорда, нужны десятки слов.
А однажды вечером в саду, задыхаясь от жары, он сообщил Климу, как новость:
– Умираю. Осенью, наверное, умру.
– Полноте, что вы, – возразил Самгин, заботясь, чтоб слова его звучали не очень равнодушно.
– Жена тоже не верит, – сказал Спивак, вычерчивая пальцем в воздухе сложный узор. – Но я – знаю: осенью.
Вы думаете – боюсь? Нет. Но – жалею. Я люблю учить музыке.
Он посмотрел на свои костяные пальцы и вздохнул шипящим звуком.
– Жена тоже любит учить, да! Видите ли, жизнь нужно построить по типу оркестра: пусть каждый честно играет свою партию, и все будет хорошо.
Говорил он задыхаясь, в горле его что-то шипело; вдруг схватился за голову, чихнул и, отдышавшись, сказал:
– Пыль в этом городе пахнет птичьим калом. Самгин принимал его речи, как полуумный лепет Диомидова, от этих речей становилось еще скучнее, и наконец скука погнала его в редакцию.
Редакция помещалась на углу тихой Дворянской улицы и пустынного переулка, который, изгибаясь, упирался в железные ворота богадельни. Двухэтажный дом был переломлен: одна часть его осталась на улице, другая, длиннее на два окна, пряталась в переулок. Дом был старый, казарменного вида, без украшений по фасаду, желтая окраска его стен пропылилась, приобрела цвет недубленой кожи, солнце раскрасило стекла окон в фиолетовые тона, и над полуслепыми окнами этого дома неприятно было видеть золотые слова: «Наш край».
По чугунной лестнице, содрогавшейся от работы типографских машин в нижнем этаже, Самгин вошел в большую комнату; среди ее, за длинным столом, покрытым клеенкой, закапанной чернилами, сидел Иван Дронов и, посвистывая, списывал что-то из записной книжки на узкую полосу бумаги.
Он встал навстречу Климу нерешительно и как бы не узнавая его, но, когда Клим улыбнулся, он схватил его руку своими, потряс ее с радостью, явно преувеличенной.
– Приехал? Давно ли?
– Как живешь? – ответил Самгин, неприятно смущенный и неумело преувеличенной радостью и обращением на ты.
– Подкидышами живу, – очень бойко и шумно говорил Иван. – Фельетонист острит: приносите подкидышей в натуре, контора будет штемпеля ставить на них, а то вы одного и того же подкидыша пять раз продаете.
Он коротко остриг волосы, обнажив плоский череп, от этого лицо его стало шире, а пуговка носа точно вспухла и расплылась. Пощипывая усики цвета уличной пыли, он продолжал:
– У нас тут всё острят. А в проклятом городе – никаких событий! Хоть сам грабь, поджигай, убивай – для хроники.
Говоря, он чертил вставкой для пера восьмерки по клеенке, похожей на географическую карту, и прислушивался к шороху за дверями в кабинет редактора, там как будто кошка играла бумагой.
Белые, пожелтевшие от старости двери кабинета распахнулись, и редактор, взмахнув полосками бумаги, закричал:
– Дронов! Какого чорта вы... Ах, здравствуйте! – ласково сказал он и распахнул дверь еще шире.. – Прощу!
И через минуту Клим, сидя против него, слушал:
– Цензор болен логофобией, то есть словобоязнью, господа сотрудники – интемперией – безудержной словоохотливостью, и каждый стремится показать другому, что он радикальнее его.
Он говорил солидно и не в тоне жалобы, а как бы диктуя Климу. Вытирал платком потную лысину, желтые виски, и обиженная губа его особенно важно топырилась, когда он произносил латинские слова. Клим уже знал, что газетная латынь была слабостью редактора, почти каждую статью его пестрили словечки: ab ovo, о tempora, о mores! dixi, testimonium paupertatis11
Ab ovo – букв. «от яйца» – с самого начала; о tempora, о mores! – о времена, о нравы! dixi – я сказал; testimonium paupertatis – букв. «свидетельство о бедности» (употребляется в значении скудоумия). – Ред.
[Закрыть] и прочее, излюбленное газетчиками. За спиной редактора стоял шкаф, тесно набитый книгами, в стеклах шкафа отражалась серая спина, круглые, бабьи плечи, тускло блестел голый затылок, казалось, что в книжном шкафе заперт двойник редактора.
– Сообразите же, насколько трудно при таких условиях создавать общественное мнение и руководить им. А тут еще являются люди, которые уверенно говорят: «Чем хуже – тем лучше». И, наконец, – марксисты, эти квазиреволюционеры без любви к народу.
Запах типографской краски наполнял маленькую комнату, засоренную газетами. Под полом ее неумолкаемо гудело, равномерно топало какое-то чудовище. Редактор устало вздохнул.
– Это о выставке? – спросил он, отгоняя рукописью Клима дерзкую муху, она упрямо хотела сесть на висок редактора, напиться пота его. – Иноков оказался совершенно неудачным корреспондентом, – продолжал он, шлепнув рукописью по виску своему, и сморщил лицо, следя, как муха ошалело носится над столом. – Он – мизантроп, Иноков, это у него, вероятно, от запоров. Психиатр Ковалевский говорил мне, что Тимон Афинский страдал запорами и что это вообще признак...
Удачно прихлопнув муху рукописью, он облегченно вздохнул, приподнял губу и немножко растянул ее; Самгин понял, что редактор улыбается.
– И, кроме того, Иноков пишет невозможные стихи, просто, знаете, смешные стихи. Кстати, у меня накопилось несколько аршин стихотворений местных поэтов, – не хотите ли посмотреть? Может быть, найдете что-нибудь для воскресных номеров. Признаюсь, я плохо понимаю новую поэзию...
Он сердито нахмурился, выдвинул ящик стола и подал Климу пачку разномерных бумажек.
– Н-да-с, – вот! А недели две тому назад Дронов дал приличное стихотворение, мы его тиснули, оказалось – Бенедиктова! Разумеется – нас высмеяли. Спрашиваю Дронова: «Что же это значит?» – «Мне, говорит, знакомый семинарист дал». Гм... Должен сказать – не верю я в семинариста.
В кабинет вломился фельетонист, спросил:
– Опять меня зарезали?
И, пожимая руку Самгина, сообщил:
– Пятый фельетон в этом месяце.
Сел на подоконник и затрясся, закашлялся так сильно, что желтое лицо его вздулось, раскалилось докрасна, а тонкие ноги судорожно застучали пятками по стене; чесунчовый пиджак съезжал с его костлявых плеч, голова судорожно тряслась, на лицо осыпались пряди обесцвеченных и, должно быть, очень сухих волос. Откашлявшись, он вытер рот не очень свежим платком и объявил Климу:
– Простудился.
Затем он сказал, что за девять лет работы в газетах цензура уничтожила у него одиннадцать томов, считая по двадцать печатных листов в томе и по сорок тысяч знаков в листе. Самгин слышал, что Робинзон говорит это не с горечью, а с гордостью.
– Преувеличиваешь, – пробормотал редактор, читая одним глазом чью-то рукопись, а другим следя за новой надоедливой мухой.
Робинзон хотел сказать что-то, спрыгнул с подоконника, снова закашлялся и плюнул в корзину с рваной бумагой, – редактор покосился на корзину, отодвинул ее ногой и сказал с досадой, ткнув кнопку звонка:
– Опять забыли плевальницу поставить.
Вошел Дронов, редактор возвел глаза над очками.
– Я звонил не вас, сторожа.
– Хроника, – сказал Дронов.
– Что именно?
– Утопленник. Две мелких кражи. Драка на базаре. Увечье...
– Жизнь, а? – вскричал Робинзон, взяв Клима под руку. – Идемте пиво пить.
Дронов, стоя у косяка двери, глядя через голову редактора, говорил:
– Тюремный инспектор Топорков вчера, в управе, назвал членов управы Грачева – идиотом, а Тимофеева – вором...
– Но оба они не поверили ему, – закончил Робинзон и повел Клима за собой.
Самгин не хотел упустить случай познакомиться ближе с человеком, который считает себя вправе осуждать и поучать. На улице, шагая против ветра, жмурясь от пыли и покашливая, Робинзон оживленно говорил:
– Идем в Валгаллу, так называю я «Волгу», ибо кабак есть русская Валгалла, иде же упокояются наши герои, а также люди, изнуренные пагубными страстями. Вас, юноша, какие страсти обуревают?
Шли чистенькой улицей, мимо разноцветных домиков, скрытых за палисадниками, окруженных садами.
– Удобненькие домишечки, – бормотал Робинзон, жадно глотая горячий воздух. – Крепости всяческого консерватизма. Консерватизм возникает на почве удобств...
«Вот такие бездомные, безответственные люди, которым нечего жалеть», – думал Самгин.
– Помните у Толстого иронию дяди Акима по поводу удобных ватеров, а?
Клим, не ответив, улыбнулся; его вдруг рассмешила нелепо изогнутая фигура тощего человека в желтой чесунче, с желтой шляпой в руке, с растрепанными волосами пенькового цвета; красные пятна на скулах его напоминали о щеках клоуна.
– Не думаю, что вы – злой человек, – сказал он неожиданно для себя.
– То-то что – нет! – воскликнул Робинзон. – А – надо быть злым, таков запрос профессии.
Ресторан стоял на крутом спуске к реке, терраса, утвержденная на столбах, висела в воздухе, как полка.
Через вершины старых лип видно было синеватую полосу реки; расплавленное солнце сверкало на поверхности воды; за рекою, на песчаных холмах, прилепились серые избы деревни, дальше холмы заросли кустами можжевельника, а еще дальше с земли поднимались пышные облака.
В углу террасы одиноко скучала над пустой вазочкой для мороженого большая женщина с двойным подбородком, с лицом в форме дыни и темными усами под чужим, ястребиным носом.
– Madame Каспари, знаменитая сводня, – шопотом сообщил Робинзон. – Писать о ней – запрещено цензурой. Дружеским тоном он сказал молодому лакею:
– Рыбки, Миша, яиц и парочку пива.
Торопливо закурив папиросу, он вытянул под стол уставшие ноги, развалился на стуле и тотчас же заговорил, всматриваясь в лицо Самгина пристально, с бесцеремонным любопытством:
– Интересно, что сделает ваше поколение, разочарованное в человеке? Человек-герой, видимо, антипатичен вам или пугает вас, хотя историю вы мыслите все-таки как работу Августа Бебеля и подобных ему. Мне кажется, что вы более индивидуалисты, чем народники, и что массы выдвигаете вы вперед для того, чтоб самим остаться в стороне. Среди вашего брата не чувствуется человек, который сходил бы с ума от любви к народу, от страха за его судьбу, как сходит с ума Глеб Успенский
Самгин сердито нахмурился, подбирая слова для резкого ответа, он не хотел беседовать на темы политики, ему хотелось бы узнать, на каких верованиях основано Робинзоном его право критиковать все и всех? Но фельетонист, дымя папиросой и уродливо щурясь, продолжал:
– Помните вы его трагический вопль о необходимости «делать огромные усилия ума и совести для того, чтоб построить жизнь на явной лжи, фальши и риторике»?
Он ломал хлеб и, бросая крупные куски за перила толстозобым, сизым голубям, смотрел, как жадно они расклевывают корку, вырывая ее друг у друга. Костлявое лицо его искажала нервная дрожь.
– Да, жизнь становится все более бессовестной, и устал я играть в ней роль шута. Фельетонист – это, батенька, балаганный дед, клоун.
Привстав на стуле, он швырнул в голубей пробкой и сказал, вздохнув:
– Глупая птица. А Успенский все-таки оптимист, жизнь строится на риторике и на лжи очень легко, никто не делает «огромных» насилий над совестью и разумом.
Говорил он быстро и точно бежал по капризно изогнутой тропе, перепрыгивая от одной темы к другой. В этих прыжках Клим чувствовал что-то очень запутанное, противоречивое и похожее на исповедь. Сделав сочувственную мину, Клим молчал; ему было приятно видеть человека менее значительным, чем он воображал его.
Небрежно, торопливо поковыряв вилкой заливное из рыбы, фельетонист съел желе и сказал:
– Питаюсь исключительно рыбой и яйцами – пищей, наиболее богатой фосфором.
Но яйца он тоже не стал есть, а, покатав их между ладонями, спрятал в карман.
– Для знакомой собаки. У меня, батенька, «влеченье, род недуга» к бездомным собакам. Такой умный, сердечный зверь и – не оценен! Заметьте, Самгин, никто не умеет любить человека так, как любят собаки.
Пиво он пил небольшими глотками, как вино, пил и морщился, чмокал.
– Как вы относитесь к анекдотам? – спросил он, оживляясь. – Я – люблю.
Он закрыл правый глаз и старческим голосом, передразнивая кого-то, всхрапывая, проговорил:
– Пытливость народного ума осознает всю действительность легендарно и анекдотически... Нет, серьезно! Вот – я жил в одиннадцати городах, но нажил в них только анекдоты. В Казани квартирохозяин мой, скопец, ростовщик, очень хитроумный старичок, рассказал мне, что Гавриил Державин, будучи богат, до сорока лет притворялся нищим и плачевные песни на улицах пел. Справедливый государь Александр Благословенный разоблачил его притворство, сослал в Сибирь, а в поношение ему велел изобразить его полуголым, в рубище, с протянутой рукой и поставить памятник перед театром, – не притворяйся, шельма!
В сиповатом голосе Робинзона звучала грусть, он пытался прикрыть ее насмешливыми улыбками, но это не удавалось ему. Серые тени являлись на костлявом лице, как бы зарождаясь в морщинах под выгоревшими глазами, глаза лихорадочно поблескивали и уныло гасли, прикрываясь ресницами.
– А фамилия Державин объясняется так: казанский мужик Гаврило был истопником во дворце Екатерины Великой, она поругалась с любовником своим, Потемкиным, кричит: «Голову отрублю!» Он бежать, а она, в женской ярости своей, за ним, как была, голая. Тут Гаврило, не будь глуп, удержал ее: «Нельзя, говорит, тебе, царица, за любовниками бегать!» Тогда она опамятовалась: «Верно, Гаврила, и заслужил ты награду за охрану моей царско-женской чести, за то, что удержал державу от скандала». После того он семь лет стоял на часах у дверей ее спальни и дана ему была фамилия – Державин. А Потемкина она сослала в Казань губернатором, и потом он Пугачеву передался.
Робинзон достал из кармана черный стальной портпапирос и, глядя в дымчатую скуку за рекою, вздохнул:
– Мною записано больше сотни таких анекдотов о царях, поэтах, архиереях, губернаторах...
– Это интересно, – сказал Самгин равнодушным тоном. Слушая анекдоты фельетониста, он вспомнил пренебрежительный отзыв о нем Варавки:
«Робинзон из тех интеллигентов, в душе которых житейский опыт не прессуется в определенные формы, не источает педагогической злости, а только давит носителей его. Комнатная собачка, Робинзон».
Клим встал, протянул руку.
– Мне пора.
– Я тоже иду, – сказал Робинзон.
Четко отбивая шаг, из ресторана, точно из кулисы на сцену, вышел на террасу плотненький, смуглолицый регент соборного хора. Густые усы его были закручены концами вверх почти до глаз, круглых и черных, как слишком большие пуговицы его щегольского сюртучка. Весь он был гладко отшлифован, палка, ненужная в его волосатой руке, тоже блестела.
– Корвин, – прошептал фельетонист, вытянув шею и покашливая; спрятал руки в карманы и уселся покрепче. – Считает себя потомком венгерского короля Стефана Корвина; негодяй, нещадно бьет мальчиков-хористов, я о нем писал; видите, как он агрессивно смотрит на меня?
Размахивая палкой, делая даме в углу приветственные жесты рукою в желтой перчатке, Корвин важно шел в угол, встречу улыбке дамы, но, заметив фельетониста, остановился, нахмурил брови, и концы усов его грозно пошевелились, а матовые белки глаз налились кровью. Клим стоял, держась за спинку стула, ожидая, что сейчас разразится скандал, по лицу Робинзона, по его растерянной улыбке он видел, что и фельетонист ждет того же.
Но из двери ресторана выскочил на террасу огромной черной птицей Иноков в своей разлетайке, в одной руке он держал шляпу, а другую вытянул вперед так, как будто в ней была шпага. О шпаге Самгин подумал потому, что и неожиданным появлением своим и всею фигурой Иноков напомнил ему мелодраматического героя дон-Цезаря де-Базан.
– Ба, Иноков, когда вы... – радостно вскричал фельетонист, вскочив со стула, и тотчас же снова сел, а Иноков, молча шлепнув регента шляпой по лицу, вырвал палку из руки его, швырнул ее за перила террасы и, схватив регента за ворот, встряхивая его, зашептал что-то, захрипел в круглое, густо покрасневшее лицо с выкатившимися глазами. Регент был по плечо Инокову, но значительно шире и плотнее, Клим ждал, что он схватит Инокова и швырнет за перила, но регент, качаясь на ногах, одной рукой придерживал панаму, а другой толкая Инокова в грудь, кричал звонким голосом:
– Оставьте! Что вы? Я буду жаловаться. С легкостью, удивившей Клима, Иноков повернул регента спиною к себе и, ударив его ногою в зад, рявкнул:
– Изувечу!
Вбежали два лакея, буфетчик, в двери встал толстый человек с салфеткой на груди, дама колотила кулаком по столу и кричала:
– Да позовите же полицию!
Но регент, подпрыгивая, убежал в ресторан и лишь оттуда, размахивая панамой, задыхаясь, взвизгнул:
– Вы мне ответите! Я вас... хорошо! Самгин был очень взволнован скандалом, но все-таки подумал: «Как жалок и смешон испуганный человек!»
Шагая к двери, дама сказала ему:
– Не стыдно? Оскорбляют человека, а вы сидите, как в цирке.
Не уступив ей дорогу, Иноков заглянул в лицо ей и крикнул, как на лошадь:
– Н-ну!
Она отскочила от него и быстро ушла в ресторан, сказав;
– Я – свидетельница!
Иноков подошел к Робинзону, угрюмо усмехаясь, сунул руку ему, потом Самгину, рука у него была потная, дрожала, а глаза странно и жутко побелели, зрачки как будто расплылись, и это сделало лицо его слепым. Лакей подвинул ему стул, он сел, спрятал руки под столом и попросил:
– Пива, Матвей Васильевич, похолоднее.
– Что это значит? За что? – тихо, но возмущенно спросил Робинзон.
– Он – знает! – сказал Иноков и тряхнул головой, сбросив с нее шляпу на колени себе.
– Не одобряю, – сердито фыркнул Робинзон, закуривая папиросу.
Пожав плечами. Иноков промолчал.
– Душно, – сказал Самгин, обмахиваясь платком.
Почему-то было неприятно узнать, что Иноков обладает силою, которая позволила ему так легко вышвырнуть человека, значительно более плотного и тяжелого, чем сам он. Но Клим тотчас же вспомнил фразу, которую слышал на сеансе борьбы:
«Храбростью взял, а не силой».
Ему хотелось уйти, но он подумал, что Иноков поймет это как протест против него, и ему хотелось узнать, за что этот дикарь бил регента.
– Вы когда приехали? – спросил он.
– Вчера вечером, – очень охотно отозвался Иноков. Затем, улыбаясь той улыбкой, которая смягчала и красила его грубое лицо, он продолжал:
– Шабаш! Поссорился с Варавкой и в газете больше не работаю! Он там на выставке ходил, как жадный мальчуган по магазину игрушек. А Вера Петровна – точно калуцкая губернаторша, которую уж ничто не может удивить. Вы знаете, Самгина, Варавка мне нравится, но – до какого-то предела…
– Вы, батенька, скоро со всем миром поругаетесь, неуживчивый человек, – проворчал Робинзон, предлагая Инокову папирос. – За что вы регента напугали?
Иноков взял папиросу, посмотрел на нее, сломал, бросил на поднос и вздохнул, расправляя плечи, прищурив глаза.
– О регенте спросите регента. А я, кажется, поеду на Камчатку, туда какие-то свиньи собираются золото искать. Надоела мне эта ваша словесность, Робинзон, надоел преподобный редактор, шум и запах несчастных машин типографии – все надоело!
– Очень последовательно! – иронически заметил Робинзон. – Выскочить из газеты в Камчатку...
Самгин нашел, что теперь можно уйти. Пожимая его руку, Иноков спросил с усмешкой:
– Строго осудили меня, а?
– Не могу судить, не зная мотивов, – великодушно ответил Самгин.
С недоверием к себе он чувствовал, что этот парень сегодня стал значительнее в его глазах, хотя и остался таким же неприятным, каким был.
«Ведь не подкупает же меня его физическая сила и ловкость?» – догадывался он, хмурясь, и все более ясно видел, что один человек стал мельче, другой – крупнее.
Дома он тотчас нашел среди стихотворений подписанное – Иноков. Буквы подписи и неровных строчек были круто опрокинуты влево и лишены определенного рисунка, каждая буква падала отдельно от другой, все согласные написаны маленькими, а гласные – крупно. Уж в этом чувствовалась искусственность.
Сударыня!
– читал Клим, нахмурясь.
Я – очень хорошая собака!
Это признано стадами разных скотов,
И даже свиньи, особенно враждебные мне,
Не отрицают некоторых достоинств моих.
Но я не могу найти человека,
Который полюбил бы меня бескорыстно.
Я не плохо знаю людей
И привык отдавать им все, что имею,
Черпая печали и радости жизни
Сердцем моим, точно медным ковшом.
Но – мне взять у людей нечего,
Я не ем сладкого и жирного,
Пошлость возбуждает у меня тошноту,
Еще щенком я уже был окормлен ложью.
Я издыхаю от безумнейшей тоски,
Мне нужно человека,
Которому я мог бы радостно и нежно лизать руки
За то, что он человечески хорош!
Сударыня!
Если вы в силах послужить богом
Хорошей собаке, честному псу,
Право же – это не унизило бы вас...
Задумчиво глядя в серенькую пустоту неба,
Она спросила:
– А где же рифмы?
«Это – не стихи, – решил Самгин, с недоумением глядя на измятый листок. – Глупо это или оригинально?»
Ему иногда казалось, что оригинальность – тоже глупость, только одетая в слова, расставленные необычно. Но на этот раз он чувствовал себя сбитым с толку: строчки Инокова звучали неглупо, а признать их оригинальными – не хотелось. Вставляя карандашом в кружки о и а глаза, носы, губы, Клим снабжал уродливые головки ушами, щетиной волос и думал, что хорошо бы высмеять Инокова, написав пародию: «Веснушки и стихи». Кто это «сударыня»? Неужели Спивак? Наверное. Тогда – понятно, почему он оскорбил регента.
Вечером, когда стемнело, он пошел во флигель, застал Елизавету Львовну у стола с шитьем в руках и прочитал ей стихи. Выслушав, не поднимая головы, Спивак спросила:
– Иноков разрешил вам прочитать эти стихи мне?
– Нет, но они не будут напечатаны, – поспешно и смутясь ответил Самгин, – А почему вы знаете, что автор – Иноков?
Спивак приподняла голову и посмотрела на Клима с улыбкой, еще более смутившей его.
– Вы ему не говорите, – попросил он. Отложив шитье на стол, она спросила:
– Иноков не нравится вам?
– Да, в нем есть что-то неприятное, – не сразу ответил Самгин.
– Грубоватость, – подсказала женщина, сняв с пальца наперсток, играя им. – Это у него от недоверия к себе. И от Шиллера, от Карла Моора, – прибавила она, подумав, покачиваясь на стуле. – Он – романтик, но – слишком обремененный правдой жизни, и потому он не будет поэтом. У него одно стихотворение закончено так:
Душу мою насилует отчаяние,
Нарядное, точно кокотка,
В бумажных цветах жалких слов.
Это очень неловко сказано; он вообще неловок и в словах и в мыслях, вероятно, потому, что он – честный человек.
Говоря, она мягкими жестами оправляла волосы, ворот платья, складки на груди.
«Ощипывается, точно наседка, – думал Клим, наблюдая за нею исподлобья. – От нее пахнет молоком».
Говорила она тоном учительницы, и слушать ее было неприятно.
– В юности каждый из нас стремится найти свой собственный путь, это еще Гете отметил, – слышал Клим.
«Плохо я разбираюсь в женщинах. В сущности, она – скучная и мещанка, а в Петербурге казалось...»
– Вы помните, он отделял поэзию от правды жизни...
– Кто? – спросил Самгин.
– Гете.
– Ах, да! Вы согласны с ним?
– Женщина имеет очень обоснованное право считать поэзию ложью, – негромко, но твердо сказала Спивак.
За дверью соседней комнаты покашливал музыкант, и скука слов жены его как бы сгущалась от этого кашля. Выбрав удобную минуту, Клим ушел, почти озлобленный против Спивак, а ночью долго думал о человеке, который стремится найти свой собственный путь, и о людях, которые всячески стараются взнуздать его, направить на дорогу, истоптанную ими, стереть его своеобразное лицо. Смешно сказала Алина Телепнева, что она видит весь мир исправительным заведением для нее, но она – права. Мир делают исправительным заведением вот такие Елизаветы Спивак.
Через несколько дней Клим Самгин, лежа в постели, развернул газету и увидал напечатанным свой очерк о выставке. Это приятно взволновало его, он даже на минуту закрыл глаза, а пред глазами все-таки стояли черненькие буквы: «На празднике русского труда». Но, прочитав шесть столбцов плотного и мелкого шрифта, он почувствовал себя так беспокойно, как будто его кусают и щекочут мухи. Раздражали опечатки; было обидно убедиться, что некоторые фразы многословны и звучат тяжело, иные слишком высокопарны, и хотя в общем тон очерка солиден, но есть в нем что-то чужое, от ворчливых суждений Инокова. Это было всего неприятнее и тем более неприятно, что в двух-трех местах слова Инокова оказались воспроизведенными почти буквально. Особенно смутила его фраза о Пенелопе, ожидающей Одиссея, и о лысых женихах.
«Как это я допустил?» – с досадой упрекнул он себя.
Зеркало показало ему озабоченное и вытянутое лицо с прикушенной нижней губой и ледяным блеском очков.
«Интересно, что скажет Спивак?»
– Мне кажется, что это написано несколько излишне нарядно, – сказала она, но тотчас же и утешила: – А вообще – поздравляю!
Дронов тоже поздравил и как будто искренно.








