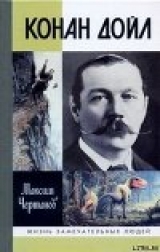
Текст книги "Конан Дойл"
Автор книги: Максим Чертанов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
В «Ювеналиях» Дойл пишет, что за «Джона Смита» взялся уже после опубликования «Хебекука Джефсона»; похоже, он то ли ошибся, то ли сказал так для простоты изложения, так как в действительности зимой 1884-го, когда успеха «Хебекука» и последующего разочарования еще не было, он начал работать над своим вторым романом, который и считают обычно его первой крупной вещью. «Джон Смит» в таком случае должен был быть написан в 1883-м.
Можно, наверное, сказать, что доктор пошел по более легкому пути, ведь он сам признавал, что написать хороший рассказ куда трудней, чем хороший роман: «Чтобы вырезать камею, требуется гораздо более тонкое искусство, чем чтобы создать статую». Но эти слова были сказаны не в 1884-м, а в 1900-м, когда за плечами у него было множество и малых, и больших текстов; тогда же он отмечал с изумлением, что рассказ и роман «существуют сами по себе и даже враждебны друг другу». Это занятное противоречие рано или поздно замечают все; один крупный современный писатель сказал по этому поводу, что за сочинение рассказа и сочинение романа отвечают «разные валентности». Наверное, доктору Дойлу, всю жизнь благоговевшему перед химией и химиками, понравилось бы такое сравнение. Но зимой 1884-го он вряд ли задумывался над теорией литературы; ему просто захотелось написать роман, вот и всё. Роман этот – «Торговый дом Гердлстон», который мы цитировали, говоря о студенческой жизни в Эдинбурге; начинающий автор посвятил своему другу детства Уильяму Бартону, который в то время уже читал лекции в Императорском университете Токио.
Ни одна из крупных вещей Дойла не была принята так холодно, причем потомки отнеслись к ней еще хуже современников. Карр убеждает нас, что и сам автор эту свою работу не любил: «Теперь уже только в редкие минуты работал он с воодушевлением. В глубине души он понимал, что пытается соткать полотно из чужих стилей, главным образом Диккенса и Мередита». На самом деле нет ничего предосудительного или странного в том, что молодой автор начинает с подражания: известно высказывание Стивенсона о том, как он «с усердием обезьяны» подражал десятку известных прозаиков и поэтов и утверждал, что только так можно научиться писать; молодой Дойл, в свою очередь, изрядно подражал Стивенсону, чья повесть «Дом на дюнах» привела его в восторг. Однако и сам доктор Дойл в мемуарах отзывался о своем романе весьма неуважительно: «За исключением отдельных фрагментов, эта книга ничего не стоит и, как первая книга любого автора, если он от природы не великий гений, имеет слишком много общего с произведениями других. Я и тогда это видел, но еще яснее осознал потом; когда я послал ее издателям, а они отнеслись к ней с презрением, я вполне согласился с их решением», – а затем еще и припечатал словечком «увечный». Однако крайне сомнительно, что он презирал эту вещь во время работы над ней или сразу после ее завершения: без любви первый роман не напишешь, и вряд ли в 1880-е годы доктор считал, что «Гердлстон» ничего не стоит.
Ни биографов, ни литературоведов этот текст не интересует; если он и упоминается, то лишь в качестве фона, на котором в жизни и творчестве Дойла происходили другие события, гораздо более важные. Современный наш читатель, как правило, о существовании такой книги у Конан Дойла не помнит, и неудивительно: ребенку она кажется скучна, взрослому – чересчур наивна. Так верно ли, что «Торговый дом Гердлстон» – текст исключительно подражательный, увечный и слабый? Нам кажется, что это несправедливая характеристика, и, окажись автором этой книги другой писатель – тот же Стивенсон, к примеру, – ее оценивали бы намного выше. Возможно также, что если бы «Торговый дом Гердлстон» имел хотя бы небольшой успех, из Конан Дойла мог бы получиться совсем другой писатель, не такой популярный, но, быть может, в литературном отношении даже более значительный, чем тот, которого мы знаем.
Сюжет банальнейший: старый негодяй хочет женить сына на сиротке, чтобы завладеть ее состоянием, девушку разлучают с любимым человеком, а так как она отказывается выходить замуж не по любви, ее решено убить; однако в последний момент приходит спасение. Но персонажи – не схемы, они живые. Особенно это относится к двум злодеям, Джону Гердлстону и его сыну Эзре. Казалось бы, что тут заслуживающего внимания – отрицательные герои у всех выходят интереснее положительных. (Мы не говорим здесь о людях настолько сложных и до такой степени, что к ним стыдно применять эти словечки – отрицательный, положительный, – о князе Андрее, например, или о Мите Карамазове, но если взять другие пары, также созданные гениями – Гринев и Швабрин, княжна Марья и Элен Безухова, Мышкин и Рогожин, – мы увидим общую для всех, великих и невеликих, закономерность.) Но дело в том, что Конан Дойл как раз был одним из редчайших в этом ряду исключений: положительные герои у него выходили куда лучше отрицательных. Сам он, правда, как-то заявил, что «человек не может вылепить характер в своем собственном сознании и наделить его подлинной жизненностью, если в нем самом нет ничего общего с этим характером, – а это весьма опасное признание со стороны того, кто описал столько злодеев, как я». Описать-то описал, кто спорит; однако ж убедительных, живых и запоминающихся злодеев ему в зрелые годы создать не удалось (Мориарти не в счет – это все-таки не человек, а функция). Если не читать его ранних вещей, можно подумать, что он злодеев писать вообще не умел. Но в «Торговом доме Гердлстон» злодеи великолепны. Особенно старший, ханжа и лицемер. Перед тем как отказать вдове своего погибшего работника в выплате пенсии, Джон Гердлстон с постным лицом утешает ее елейными словами, а сына, уезжающего в Африку по делам, напутствует следующим образом:
« – Дай мне обещание, что ты будешь вести себя осмотрительно и избегать ссор и кровопролития. Ведь это же значит нарушить величайшую заповедь Нового Завета!
– Ну, сам я в ссоры ввязываться не буду, – ответил младший Гердлстон. – Мне это ни к чему.
– Однако если ты будешь твердо знать, что твой противник ни перед чем не остановится, так сразу же стреляй в него, мой мальчик, и не жди, чтобы он вытащил оружие... Я очень боюсь за тебя и успокоюсь только, когда снова с тобой увижусь.
«Черт побери! Да у него никак слезы на глазах!» – подумал Эзра, чрезвычайно удивленный этим обстоятельством».
Оказывается, есть у старшего Гердлстона, жестокого дельца, и подлинная слабость: нерассуждающая любовь к сыну. Доктор Дойл сумел написать настоящую любовь, и слезы Гердлстона в данном случае – не крокодиловы. Интересно, что Эзра своего отца всё время пытается понять, но так и не понимает; до самой смерти он не сможет решить, представляет ли тот собой законченного, потрясающего лицемера или полубезумного фанатика. Сам Эзра неописуемо груб, нагл, много пьет, постоянно бьет собак (а его боголюбивый отец раздавил крошечную соню, кроткого ручного зверька – у Дойла все плохие люди обижают животных, а хорошие занимаются спортом, однако ж Эзру Гердлстона он таки сделал боксером); и тем не менее он не так страшен, как его слащавый отец: идея убить Кэт (героиню), когда та отказывается выйти за Эзру замуж, закрадывается в голову именно набожному Джону, а Эзру приводит в естественный ужас. Конечно, эта парочка сильно смахивает на Феджина и Сайкса из «Оливера Твиста» (даже побитая негодяем собака есть и там); и никто не станет оспаривать, что по выразительной силе, по владению фразой Дойлу до Диккенса страшно далеко. И все-таки Феджин и, в несколько меньшей степени, Сайкс – не портреты, а карикатуры, что для Диккенса вообще очень характерно. Гердлстоны карикатурами ни в малейшей степени ни являются. Чего стоит хотя бы одно из отступлений от стереотипа: казалось бы, старший Гердлстон, нудный святоша, должен вести дела фирмы с осторожностью, блюсти традиции и скопидомничать, а сын – рисковать и проматывать состояние; но Дойл все переворачивает наизнанку. Педант в делах как раз Эзра, а отец, оказывается, в делах финансовых обожает самозабвенный риск, что, собственно, и приводит торговый дом к краху.
Обратимся к другим персонажам: в них есть кое-что очень любопытное. Речь не о Томе, бестолковом молодом герое, и Кэт: о них как раз сказать решительно нечего, а о комической паре: майоре Клаттербэке и его приятеле, с которым они пополам снимают квартиру – квартиру, где «каждый квадратный фут стен был украшен либо ножами, либо копьями, либо малайскими мечами, либо китайскими трубками для курения опиума...». Разные перипетии сводят приятелей с главными героями, и в конце концов именно эти два джентльмена продумывают операцию по спасению Кэт, которой угрожает гибель, дают понять юному герою, что берут его дело в свои руки, и тщательно экипировавшись и одевшись в соответствии с погодой, отправляются на вокзал... «В билетной кассе они узнали, что нужный им поезд прибудет только через два часа, да и тот пойдет со всеми остановками, так что раньше восьми часов им никак не попасть в Бедсворт». Тогда герои, чтобы скоротать время до совершения подвига, «отправились раздобыть какой-нибудь еды и набрели на довольно сносную харчевню, в недрах которой фон Баумсер с царской щедростью угостил их на славу».
Это уже ниоткуда не заимствовано, это – свое; вот он, вот он, этот милый железнодорожный уют, детское очарование никогда не опаздывающих английских поездов и доставляемых с точностью до минуты английских телеграмм, ради которого взрослый российский читатель, собственно, и перечитывает по пятьдесят раз холмсовскую сагу; вот эти аккуратно завернутые бутерброды и толстые, вкусно пахнущие английские газеты, которые два друга, как бы ни спешили, никогда не забудут прихватить с собой, в купе первого класса; вот оно, чудесное, обволакивающее, почти физическое ощущение безопасности и тепла, маленького, прелестного, по-английски уютного и по-английски обстоятельного подвига, о котором так сладко читать, лежа с бутербродом на диване, очарование, которого англичанину до конца не понять, ибо он среди него живет!
Так что, когда дело дойдет до «Этюда в багровых тонах», ничего особенно нового выдумывать доктору Дойлу и не понадобится: гениальная матрица почти завершена; два неразлучных друга, неприкаянно кочующих из рассказа в рассказ, наконец-то попали в идеальную обстановку и нашли себе правильное занятие. Попутно заметим, что вдову, которая в начале романа приходит к Гердлстону просить пенсию, зовут миссис Хадсон.
Работа над «Гердлстонами» шла тяжело, рывками, это видно хотя бы из того, что доктор Дойл не раз надолго отвлекался, чтобы сочинять другие вещи. На небольшой роман из современной жизни с громадным количеством диалогов у него ушло около двух лет; впоследствии он будет гораздо быстрей писать даже исторические романы, где объем подготовительного труда стократ больше. Затруднения свои он отразил в шутливом рассказе «Литературная мозаика» («A Literary Mosaic»), где в гости к начинающему писателю, разрывающемуся от желания стать похожим то на одного, то на другого классика, эти самые классики (Мередит, Чарлз Лэм, Дефо, Смоллетт, Ричарсон, Филдинг, Теккерей и даже дама Джордж Эллиот) приходят в гости – во сне, разумеется, – и всем скопом пытаются помочь ему сочинить великий роман. Пародирование талантливым писателем стилей своих коллег почти всегда бывает очень смешно; у По или Брет Гарта оно выходило очаровательно. В рассказе Дойла все чересчур затянуто, чтобы вызвать смех – разве что улыбку. Зато честно.
Летом 1885 года в жизни Дойла произошло довольно-таки (чуть ниже попытаемся разъяснить это словечко) важное событие: он женился. Случилось это весьма неожиданно для всех окружающих и, вероятно, не в последнюю очередь для самого доктора. Начиналось всё печально: в марте доктор Пайк, лечивший юношу по имени Джек Хоукинс, пригласил коллегу Дойла для консультации. Семья Хоукинсов (Лафорсов в «Старке Монро») недавно приехала в Саутси из Глостершира, она состояла из миссис Хоукинс, вдовы, и двоих ее детей: старшей Луизы и младшего Джека. Миссис Хоукинс пожаловалась на условия жизни: домовладелец глядел на квартирантов косо, другие просто отказывались держать у себя в доме такого тяжелого больного.
Консилиум оказался проформой, у мальчика был церебральный менингит в последней стадии, болезнь чрезвычайно опасная даже в наши дни; исход очевиден, ни доктор Пайк, ни доктор Дойл уже ничем не могли помочь, и оба прекрасно сознавали это. Однако поступили они по-разному: доктор Пайк умыл руки и откланялся, а доктор Дойл согласился стать лечащим врачом Джека и в тот же день перевез умирающего к себе в дом. В этом не было никакого практического смысла, и никакой посторонней мысли у доктора тогда тоже не было: ему просто стало очень жаль Джека Хоукинса. Наверняка он думал о случае, произошедшем незадолго до знакомства с Хоукинсами: его пригласили к больной женщине, он определил расстройство желудка, обнадежил родственников и спокойно ушел домой готовить лекарство, а женщина в тот же день скончалась: как выяснилось, у нее была неоперабельная и не диагностируемая язва, разъевшая желудок и вызвавшая артериальное кровотечение. «Это не повредило мне, ибо мое положение было таким скромным, что повредить ему было нельзя, – писал он сорок лет спустя, вспоминая этот случай. – Практику, которой не существует, уничтожить невозможно». Однако второй умерший пациент за короткий срок, да еще в доме врача – это было уж чересчур. Но – жалость, жалость мучительная; от этого обременительного свойства – жалеть любого, кто страдает, – доктор Дойл так никогда и не сможет отделаться.
Джек Хоукинс прожил еще несколько суток; он почти непрерывно бредил, и Артур по ночам не отходил от него. «Ничто не могло ее спасти, и мне кажется, ее родственники это поняли» – это о той женщине. Джек скончался утром. На сей раз не было и речи об ошибке в диагнозе, не было даже намека на вину; однако гроб, выносимый из дома врача, может поставить под угрозу даже самую блестящую практику. (В «Письмах Старка Монро» упоминается даже некая анонимная записка, в которой говорится, что молодой человек погребен доктором в неурочный час и при подозрительных обстоятельствах; в действительности это вряд ли было – кому из конкурентов нужно губить практику, «которой не существует»?) Доктор утешал мать и сестру Джека, те – «с женским отсутствием себялюбия, забывая о собственном горе», – утешали его. Луиза Хоукинс (домашнее имя – Туи) была не так красива, как мила. И опять же – жалость, страшная штука. Осиротевшие женщины были очень одиноки в Саутси. Доктор, что немаловажно, тоже осиротел: незадолго до того Иннес, верный и незаменимый товарищ (никогда больше не будет такого), уехал учиться в закрытую школу в Йоркшире, любимая сестра Лотти перебралась в Португалию, где нашла работу экономки в богатом доме. Этот фактор не стоит недооценивать: Артур всегда с трудом переносил одиночество.
Виделись с Луизой часто, вместе прогуливались у моря. Приехавшая проведать сына Мэри Дойл ничего не имела против. С быстротой, нарушавшей все тогдашние понятия о приличиях, обручились, свадьбу сыграли в августе. Невеста была старше жениха на два года. Отец жениха на бракосочетании не присутствовал: в 1885 году, после попытки бежать из лечебницы Форден-Хауз, Чарлз Дойл был переведен в более серьезное заведение того же профиля: психиатрическую больницу Саннисайд на севере Шотландии, где он проведет ближайшие семь лет.
Свадебное путешествие молодожены совершили недалеко: в Дублин. Повидались там с дальней ирландской родней доктора. Свекровь вернулась в дом Уоллера, к своим младшим дочерям, а теща поселилась с молодоженами. Этот скоропалительный брак продлится очень долго. «У нее был собственный маленький доход, позволивший мне изменить к лучшему мое простое домашнее хозяйство таким образом, чтобы обеспечить ей с самого начала если не роскошное, то достойное существование, – простодушно отмечает доктор Дойл, продолжая: – Это обстоятельство ни на йоту не увеличило моей любви к ней, но было бы нелепо говорить, что я был недоволен им». Купили пианино – в рассрочку. Доход был и вправду небольшой – 100 фунтов в год; сам он зарабатывал около 300.
Теперь о любви. В «Письмах Старка Монро» герой ссылается на слова «какого-то русского писателя» о том, что мужчина, узнавший одну женщину, которую любит, лучше поймет женщин, чем если б он знал их тысячи (фраза эта обнаружилась в «Анне Карениной», только произносит ее не автор, а приятель Вронского Серпуховской, которому подобная банальность вполне простительна). Дальше Монро говорит, уже ни на кого не ссылаясь: «Я не знал, как любовь к женщине вносит новые краски в жизнь мужчины и наполняет бескорыстием все его действия. Я не знал, насколько легко быть благородным, когда кто-то принимает это как должное, и как интересна становится жизнь, когда смотришь на нее четырьмя глазами вместо двух». Тут доктор предвосхитил известное высказывание Антуана де Сент-Экзюпери о том, что настоящая любовь – это когда двое глядят не друг на друга, а в одном направлении. Да, о докторе Монро можно сказать, что любовь к жене перевернула его душу. А что насчет доктора Дойла?
«Ни у одного человека не могло быть более милой и привлекательной спутницы жизни», «.пока мы были вместе, не было ни единого случая, чтобы наша привязанность нарушалась какой-либо серьезной размолвкой или расхождением», и еще несколько упоминаний о терпении и милой кротости Луизы – вот, собственно, и все, что он в книге «Воспоминания и приключения», подводившей итог всей жизни, счел возможным сказать о женщине, с которой прожил больше двадцати лет. Пресловутая викторианская сдержанность? В «Волшебной двери» он написал: «В английской художественной литературе девять из десяти романов трактуют любовь и брак как альфу и омегу всего. Но из нашего опыта мы знаем, что это может быть и не так. На жизненном пути обыкновенного человека брак – это эпизод, хотя и имеющий важное значение, но лишь один из ряда эпизодов», и перечислил другие факторы, играющие в жизни человека (то есть мужчины) более важную роль: профессия, карьера, дружеские отношения, «борения с трудностями» и т. д. В «Воспоминаниях и приключениях» он, правда, отмечает, что женитьба означала в его жизни поворотную точку – все-таки не «эпизод». Так в чем же поворотную?
«Я отложил в сторону старые карты, как бесполезные, и почти отчаялся хоть когда-нибудь найти новую, которая дала бы мне возможность следовать разумным курсом, а не к тому туманному пристанищу, кроме которого все мои проводники – Гексли, Милль, Спенсер и прочие – не видели в нашем будущем ничего». Речь идет о тогдашнем мировоззрении доктора; довольно трудно понять, при чем тут брак. Луиза с ее голубиной кротостью никак не могла повлиять на убеждения мужа. (Характер Луизы Дойл по сей день остается непонятным: практически никто из лично знавших ее не смог отметить в ней что-нибудь, кроме пресловутой кротости и смиренного оптимизма, и всем современным биографам остается только повторять эти куцые определения.) Правда, как следует из «Старка Монро», доктор, глядя на жену, смягчил свою позицию по отношению к ортодоксальным верующим. «Если я высказывался резко в адрес ортодоксов, это было направлено против тех из них, кто выстраивает китайскую стену вокруг религии и не хочет принимать ничего нового». Она – не ограниченный человек, защищал доктор Монро свою молодую жену, но даже тот, кто смотрит на подобных ей людей свысока и считает их ограниченными, не может не признать, что такие люди выполняют свою миссию. Дойл полагал, что ортодоксальные, старомодные взгляды в «наше» (то есть его) время все еще вполне пригодны для детей и женщин. Так что он не делал никаких попыток «развивать» жену. Напротив: «Что касается моей жены, я так же мало склонен разрушать ее детскую веру, как она – нарушать порядок на моем письменном столе».
Женщина – что-то вроде ребенка, и совершенно незачем ей взрослеть; идеям не место в милой головке? В юмористическом рассказе «Голос науки» («The Voice of Science») Дойл описал «ученую даму», члена Бирчеспульского научного общества: дама нахваталась разных умных слов и воображает себя ровней мужчинам, бедняжка. Доктор издевался над своей воспитательницей Мэри Бартон? Доктору импонировали ограниченные, робкие и неумные женщины? Доктор был домостроевцем? Подобное упрощение вряд ли оправдано: да, в «Старке Монро» Дойл говорит, что свободомыслие является уделом мужчин, ибо мужчина познает мир разумом, а женщина – чувствами (так же считает, кстати, и доктор Чехов); но если посмотреть на героинь Дойла, мы, как правило, увидим девушек разумных и решительных, у которых за внешней женственностью скрывается сильный, как у Мэри Фоли, характер. Дойл (как и Чехов) отстаивает право женщин иметь профессию, в частности, заниматься медицинской практикой: у него есть даже рассказ на эту тему, «Женщина-врач», где медик-мужчина, сперва относящийся с предубеждением к коллеге-женщине, осознает свою ошибку, сам лечится у коллеги и делает ей предложение, но та отказывается, так как карьера и брак несовместимы. Нет, доктор не презирал жену, он просто повел себя в браке разумно: не пытался переделывать близкого человека, а принимал Луизу такой, какая она была.
Ну хорошо, доктор проявил уважение к убеждениям жены, но своими собственными-то взглядами он не поступился; где же поворотная точка? Внимательно читаем дальше: «До того момента главный интерес моей жизни заключался в карьере врача. Но когда моя жизнь упорядочилась и вместе с естественным развитием умственных сил появилось больше чувства ответственности, литературная сторона моей личности стала постепенно разрастаться, пока не вытеснила первую». Вроде бы вот он, поворот; да только от карьеры врача доктор Дойл не думал отказываться еще пять лет после женитьбы, совсем напротив, собирался стать серьезным специалистом в одной из областей медицины. В общем, как-то туманно наш герой объясняет, в чем женитьба его переменила. Разве что отказ от богемных холостяцких привычек, как считает Дойл, пошел ему на пользу, в результате чего перед ним открылось «счастливое и спокойное, хотя не слишком завидное для честолюбия, поприще» и он предвидел расширение практики, разрастающийся круг друзей, участие в местных общественных делах; «под старость, быть может, депутатство или, по крайней мере, место в муниципальном совете».
Можно заметить, что в книгах, написанных доктором во время брака с Луизой (во всяком случае, до знакомства с будущей второй женой), тема любви и женщины практически отсутствует. Сплошные мужские дружбы, погони и приключения. Верный товарищ Холмса много лет будет женат, но брак этот какой-то такой, словно его и нет; при каждом удобном предлоге доктор Уотсон с радостью сбегает из дому. Нельзя исключить, что и доктору Дойлу иногда этого хотелось.
Подавляющее большинство биографов Дойла считает, что он свою первую жену по-настоящему никогда не любил и что на брак его толкнули, с одной стороны, рыцарские побуждения по отношению к несчастной девушке, а с другой стороны, желание остепениться, но никак не страсть. Мы не находим никаких аргументов, которые могли бы поколебать эту точку зрения. Недавно, правда, вышла в свет книга, написанная Джорджиной Дойл, вдовой племянника писателя Джона (сына Иннеса), которая, по мнению автора, должна пролить истинный свет на отношения между Артуром и Луизой Дойл [16]16
Doyle G. Out of the Shadows – The Untold Story of Arthur Conan Doyle's First Family. Ashcroft, British Columbia, 2004.
[Закрыть]. Но и она не проливает никакого нового света. Да, муж писал жене банально нежные письма, писал их и в тот период, когда уже любил другую женщину. Артур и матери писал из Стоунихерста, что ему отлично живется – писал, возможно, рукой, распухшей и посиневшей от ударов дубинки. Письма – самый лукавый источник информации, куда лукавей, чем художественные тексты, которые пишутся не для конкретного адресата, а для всех – то есть для самого себя.
Так почему же – двадцать лет вместе? Положим, в первые лет десять благодаря тишайшей и кротчайшей натуре Туи жили в общем неплохо, к тому же Артур достаточно насмотрелся на ужасную семейную жизнь своих родителей, чтобы ценить спокойный и тихий брак. Но потом, когда Дойл (уже не доктор) встретит настоящую любовь – отчего не развестись? Конан Дойл, которого так любят называть типичным викторианцем, между прочим, придерживался отнюдь не викторианских взглядов на брак. В 1909-м он станет – и будет целых десять лет – председателем Комитета по реформированию законов о разводе. «Союз, освященный Церковью, но лишенный любви», он называет связью, а основанное на взаимной любви сожительство мужчины и женщины – истинным браком. Прогрессивно даже и по нынешним временам. И однако же он даже не помыслил сам сделать то, к чему призывал других. Была на то серьезнейшая причина, и причина эта – не в обстоятельствах, сложившихся очень печально, а в характере доктора Дойла. Но не будем больше забегать вперед и вернемся к «Гердлстонам».
Довольно трудно уяснить, за что доктор Дойл так презирал свое первое большое детище. На каждой странице романа мы видим живые, остроумные диалоги и прелестные, яркие краски в пейзажах. «Вот трудолюбиво пыхтит крошечный паровой буксир и тянет за собой величественный трехмачтовик, тяжеловесный черный корпус которого с устремленными в небо мачтами вздымается над водой, а стеньги кажутся издали тончайшей паутиной какого-то гигантского паука... А вот судно компании „Мессажери“ – французский флаг изящно полощется над его кормой, а его пронзительный гудок шлет предостережение неповоротливым лихтерам, ползущим со своим черным грузом к чумазому угольщику, паровой ворот которого свиристит, словно коростель». Характеры действующих лиц сложны, описания их психологического состояния убедительны. Вот Гердлстон-старший, наемный бандит и Эзра планируют убийство Кэт: из них троих один Эзра колеблется. «При всей его черствости ему не хватало псевдорелигиозного фанатизма отца и полного душевного огрубения Бурта, и мысль о том, что им предстояло совершить, приводила его в содрогание. Веки у него покраснели. Взгляд был тускл, он сидел как-то боком, закинув одну руку за спинку стула, а другой беспокойно барабанил по колену». А вот и финал: судно, на котором злодеи убегают от полиции, терпит крушение, и они вынуждены пуститься вплавь; молодому и ловкому Эзре удается забраться на скалу, старик беспомощно барахтается рядом, но на крошечной площадке нет места двоим.
«– Во имя господа!..
– Я и сам еле держусь».
В плохом романе этот последний диалог отца и сына был бы куда пространней и цветистей. «Торговый дом Гердлстон» написан с огромным вниманием к психологии, чего у зрелого Конан Дойла станет значительно меньше: герои его будут становиться всё более цельными и простыми натурами, а в черные души он почти перестанет заглядывать, сосредоточившись на описании добродетельных людей (и в этом труднейшем деле весьма преуспеет). Нам все-таки кажется, что пренебрежительная – постфактум – оценка собственной работы вызвана тем, что в старости доктор считал унизительным для себя доказывать, что книга его хороша, а в молодости слепо верил критикам. «Какие слезы проливал я над страданиями своих героинь, как смеялся над забавными выходками своих комических персонажей! Увы, я так и не встретил никого, кто бы сошелся со мной в оценке моих произведений, а неразделенные восторги собственным талантом, сколь бы ни были они искренни, скоро остывают» – это написано в период работы над «Торговым домом Гердлстон». Плакал и смеялся, а вовсе не презирал. Будь роман принят редакторами благосклонно, возможно, доктор Дойл и дальше пошел бы по этому пути; хорошо это было бы для литературы или плохо, сказать трудно. Так известен, как сейчас, он бы наверняка не стал. Но все сложилось как сложилось: рукопись «Гердлстонов» была всеми отвергнута.
Чем еще занимался доктор Дойл в 1885—1886 годах? Во-первых, он написал диссертацию на тему «О вазомоторных изменениях при сухотке спинного мозга (двигательная атаксия) и о влиянии этой болезни на симпатическую нервную систему» и получил ученую степень доктора медицины Эдинбургского университета. Во-вторых, сочинил несколько хороших рассказов, например, пресмешной «Необычайный эксперимент в Кайнплатце» («The Great Keinplatz Experiment»), сюжет которого (обмен душами), правда, беззастенчиво заимствован у беллетриста Томаса Энсти Гатри, или «Пастор ущелья Джекмана» («The Parson of Jackman's Gulch») – это опять о золотоискателях, а конкретно – о грабителе, ловко скрывавшем свою истинную натуру под маской благочестия; по качеству этот рассказ несоизмеримо выше «Блюмендайкского оврага» и его, особенно в заключительных сценах, практически невозможно отличить от Брет Гарта.
Все остальные рассказы, созданные доктором Дойлом в этот период, тоже хороши, ни один из них по уровню не опускается ниже «Хебекука», а большая их часть значительно превосходит его. Весьма интересен «Джон Баррингтон Каулз» – очень качественная, очень изящно выстроенная история с мистикой, гипнозом, которым доктор очень интересовался в то время, и великолепной героиней-оборотнем: уже второй случай, когда галантнейший доктор Дойл решился написать злую и демоническую женщину, да еще садистку в буквальном смысле слова, да еще не побоялся намекнуть на притягательность женской жестокости для некоторых мужчин, но давайте все-таки не будем искать закономерности в том, что он сделал это, едва женившись. (Часто встречаются статьи, где утверждается – в основном на примере Ирен Адлер, – что Конан Дойл, как подобает викторианскому мужчине, видел в женщинах зло и боялся их: ни его творчество, ни его жизнь никак не подтверждают этого; точно так же, ссылаясь на образ Мориарти, можно заявить, что автор боялся и ненавидел мужчин.)
Российский читатель не может обойти своим вниманием «Человека из Архангельска» («The Man From Archangel»). Адриан Дойл писал, что его отец именно этот рассказ считал своим самым лучшим; что ж, все возможно, хотя сам писатель в своих мемуарах о нем даже не упомянул. Нам он скорей кажется одним из наиболее неудачных. Как видно из заглавия, речь в нем идет о русских. Это уже третий раз, когда Дойл вводит в повествование русских персонажей, и, надо сказать, представление о них у него весьма лубочное. Но каким еще оно могло быть у провинциального английского врача? Доктор Чехов и доктор Булгаков тоже вряд ли смогли бы написать об англичанах что-либо вразумительное, во всяком случае, в молодые годы. Первые русские появляются в рассказе еще 1881 года «Ночь с нигилистами» («A Night Among the Nihilists»): английского клерка, приехавшего в Россию по делам своей фирмы, торгующей зерном, русские террористы ошибочно принимают за своего коллегу, и лишь благодаря вмешательству полиции бедняге удается выйти из этой переделки живым. К чему тут именно русские, решительно нельзя понять. Там, у них, своих террористов хватало – ирландских. Описание их «заседания» заимствовано, по-видимому, из какой-то книги о масонах или итальянских карбонариях – может быть, из Дюма-пера, – а главу организации зовут Алексис Петрокин, и он злобно скрежещет зубами.








