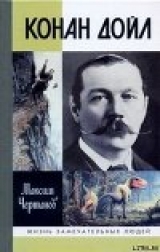
Текст книги "Конан Дойл"
Автор книги: Максим Чертанов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Глава шестая
ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ
Роман «Приключения Михея Кларка» вышел в «Лонгмэне» в феврале 1889 года. Особого успеха у публики он не имел, но вызвал вполне доброжелательные отзывы критиков и, по словам самого Дойла, стал первым краеугольным камнем, положенным в основу его литературной репутации. Именно издательству «Лонгмэн», а вовсе не знаменитому «Стрэнду», Конан Дойл всю жизнь считал себя обязанным первым успехом. В этом же году издательством «Уард энд Дауни» была опубликована «Загадка Клумбер-холла», вышел сборник (неавторизованный) «Тайны и приключения», в который вошли ранние рассказы Дойла и который был вскоре переиздан сперва под названием «Блюмендайкский каньон и другие рассказы», затем «Мой друг убийца и другие рассказы». Доктор Дойл становился профессионалом. Но в Англии он по-прежнему был мало кому известен.
Помогла ему его любимая Америка (не зря он ее воспевал), причем помогла довольно своеобразным способом. В Штатах тогда не охранялось авторское право в отношении иностранных писателей; в 1886 году, когда основными европейскими государствами была подписана Бернская конвенция, установившая обязательства по защите авторских прав на всей территории договаривающихся сторон, США присоединиться к конвенции отказались, сославшись на Первую поправку к своей конституции, в которой говорится о свободе слова, и продолжили издавать массовыми тиражами европейских авторов, не платя им ни цента [20]20
США присоединились к Бернской конвенции аж в 1988-м, тремя годами позже России – когда обнаружили, что копирайт на программное обеспечение приносит им немалый доход.
[Закрыть]. «Как и за любой национальный грех, наказание за него обрушивалось не только на ни в чем не повинных американских авторов (они не выдерживали конкуренции. – М. Ч.),но и на самих издателей, потому что принадлежащее всем не принадлежит на деле никому, и они не могли выпустить ни одного приличного издания без того, чтобы тотчас же кто-то не выпустил более дешевого», – заметил доктор Дойл не без злорадства.
Но для молодых английских писателей в этой ситуации был и плюс. Платить-то не платили, зато продавали почем зря, так что у любого автора, чью книгу экспроприировали американцы, появлялось множество читателей. Украли и «Этюд в багровых тонах». Американская публика приняла его восторженно – то ли потому, что там занимательно рассказывалось об Америке, то ли она, падкая на все новое, оказалась прозорливее английской. «Этюд» продавался очень хорошо. Но важно было даже не это, а то, что ворованные тексты читали и сами издатели, которые могли выловить из этого потока стоящую вещь.
Джозеф Маршалл Стоддарт, американский редактор журнала «Липпинкотт манзли мэгэзин», в августе 1889-го приехал в Лондон для организации британского издания своего журнала и изъявил желание увидеться с автором понравившегося ему «Этюда». Доктор получил приглашение на обед в отеле «Ленгем», который будет несколько раз упоминаться в историях о Холмсе. То был второй литературный обед (в нашем понимании скорее ужин) в жизни доктора.
Кроме Конан Дойла, Стоддарт пригласил еще двоих: парламентария Джилла и Оскара Уайльда. Все три гостя были ирландцами по национальности. Описывая этот вечер, обычно подчеркивают контраст между двумя литераторами: «Томный, изящный денди Уайльд и громадный Дойл, облаченный в свой лучший костюм, в котором он выглядел как морж в воскресных одеждах». Доктор действительно не всегда был элегантен (запросто мог выйти на люди с криво застегнутым воротничком), однако и Оскар Уайльд был не такой уж томный, а, как подобает ирландцу, жизнерадостный, с громким голосом. Пожалуй, они были даже похожи: оба высокие, здоровенные – косая сажень в плечах; оба громогласные, хохочущие взахлеб. «Для меня это был поистине золотой вечер», – писал Конан Дойл в мемуарах. Уайльд, будучи в Америке, встречался с Оливером Уэнделлом Холмсом, личность которого так восхищала Дойла: тут они сошлись во мнениях. К изумлению доктора оказалось, что знаменитый эстет прочел «Михея Кларка» и роман ему понравился. Несколько сомнительным представляется, что похвалы Уайльда были абсолютно искренни. «Черную стрелу» Стивенсона, которой восхищался Конан Дойл, он, например, уничтожил словами: «Попытка сделать произведение слишком правдивым лишает его реалистичности, и „Черная стрела“ является столь низкохудожественным произведением, что не может похвастаться даже тривиальным анахронизмом.» О «Михее Кларке» он, скорей всего, должен был думать нечто подобное. Хотя, с другой стороны, Стивенсон, когда писал «Черную стрелу», был уже мастером, и Уайльд воспринимал его текст как падение; Дойл только начинал – и его книга обещала дальнейший взлет.
Сам Дойл никогда не был особо рьяным поклонником творчества Уайльда, но при личной встрече моментально попал под его обаяние. Уайльд, как обычно, блистал остроумием и сыпал парадоксами. Дойл упоминает некоторые темы, что обсуждались за ужином: от будущей войны и технических способов ее ведения до афоризмов Ларошфуко. «Он далеко превосходил всех нас, но умел показать, что ему интересно все, что мы могли произнести. Он обладал тонкими чувствами и тактом. Ведь человек, единолично завладевающий разговором, как бы умен он ни был, в душе не может быть истинным джентльменом». Забежав на много лет вперед скажем, что Дойл и Уайльд встречались еще раз, и тогда последний уже не показался доктору Дойлу «истинным джентльменом»: он сказал о своей пьесе, что она гениальна—и это «с самым серьезным выражением лица». Действительно, такое поведение джентльмену не пристало. Добрый доктор решил, что его собеседник попросту сошел с ума. То же он сказал и после уголовного процесса своего коллеги: «Я подумал тогда и сейчас еще думаю, что чудовищная эволюция, которая его погубила, носила патологический характер, и заниматься им следовало скорее в больнице, нежели в полицейском участке».
В 1889-м Дойл перед Уайльдом благоговел. Ведь это была первая встреча со знаменитостью действительно высокого ранга, если не считать Пейна. Запомним все детали этого обеда – чуть дальше они нам сильно пригодятся.
Стоддарт предложил обоим написать что-нибудь для «Липпинкотта» – объемом не более 40 тысяч слов. Уайльд создал «Портрет Дориана Грея» (книгу сочли аморальной многие, но не Конан Дойл, который писал коллеге теплые письма с выражением своей поддержки), а сам доктор, оставив (к сожалению, навсегда) замысел романа об инках и (ненадолго) замысел еще одного исторического романа, о котором пойдет речь дальше, – «Знак четырех» («The Sign of Four»). Эта повесть была, как и «Этюд», написана очень быстро, менее чем за месяц. Стоддарту он написал, что «вещица вышла прелестная, хотя обычно я бываю недоволен своими работами».
Первоначально участие Холмса и Уотсона в повести не планировалось: Дойл намеревался просто написать индийскую историю Джонатана Смолла, Морстена и Шолто. Затем автор увидел, что какой-нибудь сыщик нужен; он решил не выдумывать нового, а использовать готовый образ. Но он перенес своего героя из одной истории в другую отнюдь не механически: Холмс в «Знаке четырех» довольно сильно отличается от Холмса в «Этюде». По-прежнему он на каждой странице смеется и улыбается, по-прежнему молод (возраст его не назван, но когда мы читаем, как он скачет босиком по крышам и таскает на руках собаку, то нам представляется очень молодой человек). Но его доброта и нежность, намеченные прежде лишь пунктиром, теперь разворачиваются вовсю, вступая в полное противоречие со словами Уотсона о «холодной и бесстрастной натуре» сыщика. Мэри Морстен, придя к Холмсу, прежде всего ссылается на другую клиентку, которая не может забыть его доброту. Общаясь с Тадеушем Шолто, человеком малосимпатичным, Холмс «успокаивающе похлопывает его по плечу». Когда Джонатан Смолл пойман, Холмс с грустью говорит, что ему «жаль, что все так обернулось», и предлагает преступнику сигару и фляжку с коньяком, более того, заявляет, что сделает всё, чтоб ему помочь и защитить его перед инспектором Джонсом: обезвреженный и беспомощный преступник для Холмса тотчас превращается в пациента, требующего ухода и заботы.
Обычно считается, что привязанность Уотсона к Холмсу носит односторонний характер, но это не так. Именно Уотсон бросает Холмса в одиночестве, уходя рука об руку с Мэри Морстен, а тот «издает вопль отчаяния»; именно Уотсон держится настороженно и пытается «немножко сбить спесь с моего приятеля, чей нравоучительный и не допускающий возражений тон меня несколько раздражал»; именно Уотсон подозревает своего товарища в том, что тот мог бы стать преступником, а Холмс относится к другу искренне и просто. Даже известный эпизод, когда Холмс, взглянув на часы Уотсона, восстанавливает историю его брата, – отнюдь не только пример дедукции. Уотсон хочет «уесть» Холмса, а увидев результат своего опыта, приходит в бешенство; Холмс, однако, не говорит ему: «Вы сами напросились», он просто очень расстроен. «Мой дорогой Уотсон, – сказал мягко Холмс, – простите меня, ради бога. Решая вашу задачу, я забыл, как близко она вас касается, и не подумал, что упоминание о вашем брате будет тяжело для вас».
Как только Холмс замечает, что у Уотсона усталый вид, то начинает импровизацию на скрипке, чтоб усыпить его, а когда тот, уснувший под эту колыбельную, просыпается поутру, Холмс первым делом выражает свою обеспокоенность – не разбудил ли друга деловой разговор с посетителем? Это выглядело бы комичным, не будь Холмс так мужествен и смел: сильный человек может себе позволить быть этаким «облаком в штанах», и сочетание силы с нежностью всегда бывает очень трогательно (ничто не умиляет так, как слониха, утешающая слоненка). Все эти детали очень мелки, как колесики в часах, и сильно разбросаны по тексту; при поверхностном чтении их не замечаешь, но они, как пресловутый «двадцать пятый кадр», запечатлеваются в мозгу и заставляют читателя полюбить героя, пусть и не понимая причины этой любви. В ответ на такую заботу опасаться за здоровье своего друга начинает и Уотсон; квартирная хозяйка, лишь в «Знаке четырех» получившая имя, тоже горячо переживает по поводу здоровья жильца и советуется на эту тему с другим жильцом. Просто какая-то семья докторов.
Даже к полицейским Холмс намного добрее, чем в «Этюде»: если там он относился к Грегсону и Лестрейду с насмешкой, иногда довольно злой (тогда как они к нему – с уважением: то и дело они «бросаются» к Холмсу, «с чувством» пожимают ему руки, называют «дорогим коллегой» и т. д.), то в «Знаке четырех» все наоборот: инспектор Этелни Джонс настроен к Холмсу враждебно, а Холмс отвечает на эту враждебность спокойным дружелюбием и готовностью помочь, что в конце концов обезоруживает Джонса. Холмс доброжелательно и с уважением отзывается о своем французском коллеге ле Вилларе. Увидев докеров, возвращающихся с ночной смены, Холмс заявляет: «Какие они усталые и грязные! Но в каждом горит искорка бессмертного огня». Он бы, наверное, каждому докеру предложил по сигаре и глотку из своей фляги, если б не был так занят помощью Мэри Морстен. Неудивительно, что Мэри называет его и Уотсона «„двумя странствующими рыцарями-спасителями“. Вообще Холмс в „Знаке четырех“ прямо-таки расцветает: то переживает приступы черной меланхолии, то балуется кокаином, то философствует; он проявляет себя то как „великий лентяй“, то как „отъявленный драчун“; он возится с собакой, болтает с мальчишками, лукаво подначивает Уотсона по поводу его влюбленности в мисс Морстен, а при известии о его женитьбе „издает вопль отчаяния“, он прыгает через заборы, стаскивает с себя ботинки и носки, – он весь какой-то растрепанный, летающий, яркий, весь так и лучится жизнью.
А что там у нас с невежеством Холмса? В «Этюде» Уотсон охарактеризовал его знания в области литературы как нулевые, хотя тут же привел диалог о книгах Габорио и Эдгара По (рассеянности Уотсона холмсоведы посвятили массу специальных работ). Но то чтение все-таки можно было отнести на счет профессионального интереса. В «Знаке четырех» Холмс едва ли не на каждой странице цитирует Гете, Ларошфуко и Уинвуда Рида, чья книга «Мученичество человека», недавно прочитанная Конан Дойлом, произвела на него громадное впечатление, сыплет афоризмами, в том числе – на французском, беспрерывно и печально философствует («Зачем судьба играет нами, жалкими, беспомощными созданиями?»); его речь – это речь человека светского, а вовсе не отшельника. Столь же разносторонним довольно неожиданно оказывается и Уотсон. «Как поживает ваш Жан Поль? [21]21
Жан Поль Рихтер – немецкий писатель, сатирик, публицист, которого наш Белинский разделал под орех, назвав хаотическим, путаным, выспренним, сентиментальным, натянутым и елейным.
[Закрыть]– Прекрасно! Я напал на него через Карлейля». Добрый доктор Уотсон, вроде бы воплощение ограниченности, досуг свой занимает таким же чтением, как писатель Конан Дойл, а Холмс прекрасно знает, какую книгу читает в данный период его друг: надо полагать, они ее уже обсуждали. Ограниченный военный врач и ограниченный сыщик постепенно превращаются в интеллектуалов-гуманитариев. С чего же вдруг подобные перемены? Чтобы понять это, следует обратиться к одной сцене: обед, которым Холмс угощает Уотсона и инспектора Джонса.
«Холмс, когда хотел, мог быть исключительно интересным собеседником. <...> Он говорил о средневековой керамике и о мистериях, о скрипках Страдивари, буддизме Цейлона и о военных кораблях будущего. И говорил так, будто был специалистом в каждой области». Этелни Джонс также оказывается вполне интересным и приятным собеседником, и все трое чрезвычайно довольны разговором. Ничего не напоминает? Совершенно верно: обед Конан Дойла со Стоддартом и Уайльдом, сразу после которого, находясь под впечатлением от Уайльда, доктор Дойл начал писать «Знак четырех». Сознательно ли он придал Холмсу сходство с Оскаром Уайльдом – сказать невозможно. Но это бесспорное сходство останется у сыщика надолго, постепенно сходя на нет.
А теперь вот что очень любопытно: обнаружим ли мы, в свою очередь, отпечатки Дойла в книге Уайльда? Раскроем «Портрет Дориана Грея» – след, Тоби, след! – и прочтем, как Уайльд характеризует Алана Кэмпбела, того самого, кто скрепя сердце помогает Дориану уничтожить труп Бэзила Холлуорда. «Кэмпбел был высокоодаренный молодой человек, но он ничего не понимал в изобразительном искусстве.<...> Единственной страстью Алана была наука. В Кембридже он проводил много времени в лабораториях.<...> Он и теперь увлекался химией.<...> Он играл на скрипке и на рояле лучше, чем большинство дилетантов». Алан Кэмпбел вроде бы не является профессиональным врачом, но он почему-то постоянно бывает в больницах, моргах, проводит вскрытия; он суров, честен и прям, среди друзей Дориана один он – моралист. Тень Холмса – или силуэт Конан Дойла? В любом случае мы имеем полное право предположить, что и для Уайльда знакомство с доктором Дойлом бесследно не прошло.
«Знак четырех» написан совсем не так, как последующие рассказы о Холмсе, где Дойлу нужно будет отсекать всё лишнее и спрямлять характеры; в этой вещи очень много избыточного, много того, что литературоведы называют «воздухом» (а торопливые читатели – «водой»). Честертон замечал, что если бы о Холмсе писал Диккенс, у него все персонажи были бы прописаны так же тщательно, как сам герой; Пирсон на это заметил, что Диккенс таким образом загубил бы самую суть холмсианы. В «Знаке четырех», как отмечал Джон Фаулз, все персонажи написаны по-диккенсовски, с избыточностью. Великолепный мистер Шерман, чучельщик, который грозится бросить в Уотсона гадюкой; мальчишки, работающие на Холмса; даже у спаниеля Тоби есть тщательно отделанный характер. Длиннейший эпизод посвящен тому, как Тоби бежит по следу, волоча за собой Холмса с Уотсоном, и в конце концов утыкается в бочку с креозотом (Холмс при этом вновь закатывается хохотом – все-то ему весело, этому молодому Холмсу). Дойл и в других текстах будет иногда писать о том, как Холмс делает ошибки в умозаключениях, но расписывать на две страницы ошибку собаки – такой прелестной расточительности он больше себе не позволит. Он станет суше и проще. Многоцветье красок уйдет; неряшливая, но яркая живопись потихоньку превратится в отточенную графику. Формат короткого рассказа потребует этого. А жаль, правда?
Напоследок один маленький штрих. Холмс говорит о Мэри Морстен: «Должен сказать, что мисс Морстен – очаровательная девушка и могла бы быть настоящим помощником в наших делах. У нее, бесспорно, есть для этого данные». Так что не одну Ирен Адлер он уважал за интеллект. Вот было бы занятно, если бы Дойл развил эту линию, и мы увидели бы женщину-сыщика...
«Знак четырех» был на следующий год опубликован одновременно в американском и английском выпусках «Липпинкотта». Дойл, как было условлено заранее, получил гонорар в 100 фунтов. В Штатах повесть имела довольно большой успех. На родине – не очень. Это вовсе не значит, что она провалилась. Нет, работы Конан Дойла, начиная с «Хебекука Джефсона», всегда продавались хорошо. Но пресса не всегда была к ним благожелательна. Сразу после журнального выпуска, в 1890 году, «Знак четырех» был издан отдельной книгой – журнал «Атенеум», правда, написал о ней: «Читатель пролистает эту небольшую книжечку не без любопытства, но едва ли когда-нибудь вновь возьмет ее в руки». Переиздание последует лишь после того, как журнал «Стрэнд». однако нам пора вернуться на несколько месяцев назад, к той большой работе, от которой Стоддарт отвлек нашего героя.
Собирать материалы для своего второго исторического романа «Белый отряд» («The White Company*) Конан Дойл начал еще в первой половине 1889 года. На сей раз он намеревался забраться еще дальше, чем в „Михее Кларке“ – в XIV век, эпоху Столетней войны. Ему пришлось изучить десятки томов по истории Средневековья и прежде всего – „Хроники“ Фруассара, современника тех людей, о которых он хотел писать. Работа на первый взгляд казалась неподъемной; ему необходимо было уединение, чтобы погрузиться в нее с головой и не выныривать как можно дольше. В апреле он ездил „развеяться“ со своими приятелями, генералом Дрейзоном и доктором Фордом, в Нью-Форест – так называется район в графстве Хэмпшир, граничащий с заповедным лесным массивом. Места эти его пленили – как позже выяснится, пленили навсегда. „Теперь перед ним простирался волнующий океан темного вереска, доходившего до колен. Огромными валами он поднимался к четким очертаниям возвышающегося впереди горного склона. Над ним синел мирный купол неба, солнце клонилось к Гэмпширским холмам. <...> Сперва песчаная дорога вела через ельник, и мягкий ветерок обдавал их смолистым запахом хвои; потом пошли вересковые холмы, они тянулись далеко с юга на север, безлюдные, невозделанные: земли на склонах были почти бесплодны и сухи“.
Вернувшись домой, доктор объявил пациентам, что берет отпуск, собрал свои книги и вновь поехал в Нью-Форест. Там он снял небольшой коттедж на все лето и сентябрь. Прислуга в коттедже была приходящая. Жена с ребенком и теща остались в Саутси. Писатели всегда любили удирать от своих семей на дачи и там работать. Но доктор Дойл бежал не только от тещи, жены и громогласного младенца, а прежде всего – от знакомств и общественных нагрузок, которые он взвалил на себя в непомерном количестве. «Белый отряд» был его любимым детищем, и ничто не должно было отвлекать его от романа.
В мемуарах и статьях Конан Дойл обычно очень немного и очень коротко говорит о своих литературных работах. «Белый отряд» (а также его приквел «Сэр Найджел Лоринг», который будет написан много лет спустя) – исключение: ему посвящены целые страницы. Велик и дерзновен, по мнению доктора, был уже сам замысел. И опять им в значительной степени руководило желание потягаться с любимым Вальтером Скоттом и поспорить с ним. «Мне казалось, что времена Эдуарда III ознаменовали величайшую эпоху в истории Англии – эпоху, когда и король Англии, и король Шотландии были оба заточены в тюрьму в Лондоне. Это произошло главным образом благодаря мощи простого народа, прославленного по всей Европе, но которого никогда не изображала английская литература, ибо, хотя Вальтер Скотт в своей непревзойденной манере и вывел английского лучника, у него это скорее разбойник, чем солдат». Никак доктору не давали покоя трудящиеся массы; интересно, считал ли он, что в «Михее Кларке» ему уже удалось их изобразить, или же хотел исправить собственные огрехи? Находил Дойл ошибки и в том, как Скотт изображал рыцарей: «Я хорошо изучил Фруассара и Чосера и сознавал, что знаменитые рыцари старых времен, представлявшиеся Скотту могучими героями, отнюдь ими не были.» Странно: обычно говорится, что Дойл в «Белом отряде» воспел рыцарство – а он, оказывается, намеревался его разоблачить или, по крайней мере, свести с пьедестала.
Обычно весьма скромный, доктор Дойл и результат своей работы на сей раз оценил очень высоко: по его мнению, «Белый отряд» вместе с приквелом «точно воспроизвели картину великой эпохи, а взятые вместе как самостоятельное произведение являются самым искусным, убедительным и амбициозным творением из всего, написанного мною». Немного удивительно читать эти высокопарные фразы, так мало характерные для доктора Дойла. Но дело в том, что Конан Дойл всю жизнь считал: «Белый отряд» недооценили. Он пытался защитить свое дитя. А между тем в защите роман отнюдь не нуждался. Книга была более чем благожелательно принята и критиками и читателями; она выдержала более пятисот переизданий только при жизни автора; ее называли лучшим историческим романом со времен «Айвенго». Со временем, правда, таких оценок поубавилось. Большинство критиков – и чем дальше, тем больше – относились к «Белому отряду» как к приключенческой истории. Доктора Дойла это уже не устраивало: он считал, что создал серьезный реалистический труд. По мнению Хескета Пирсона (в общих чертах разделяемому более поздними биографами), Дойл во всех своих исторических романах допускал одну и ту же ошибку: он путал развлекательность с познавательностью.
Сейчас «Белый отряд», как и большая часть произведений Конан Дойла, давно перешел в категорию подросткового чтения. Вряд ли здесь уместно подробно рассуждать о том, почему так происходит: книги, написанные для взрослых, со временем становятся книгами для детей. Конан Дойл не вправе считать, что его одного так «обидели»: подростковым чтением стали романы Вальтера Скотта, крупные вещи Стивенсона. Пушкин, будучи взрослым человеком, читал Скотта, относился к нему серьезно, очень хвалил. Но нынче и многие работы самого Пушкина перевели в разряд детской литературы. Примем самое простое объяснение: детям отходят те книги, которые написаны в приключенческом жанре. Должен ли писатель огорчаться, что его читают дети? Когда Конан Дойл задумает писать «Затерянный мир», то скажет, что им руководило желание создать книгу именно для подростков. Когда он писал «Михея Кларка», то признавался, что выбрал форму исторического романа, потому что ее удобно наполнять приключениями. Но с «Белым отрядом» все было не так – уж очень серьезные задачи доктор сам себе поставил. Основываясь на его высказываниях, сформулируем эти задачи – в стиле советских учебников: а) «изобразить всеобъемлющую картину эпохи»; б) «показать роль народных масс»; в) «показать точные характеры людей изображаемой эпохи» и в том числе – рыцарей, какими они были на самом деле, а не в романах; г) поправить и переплюнуть Вальтера Скота; д) вызвать у читателей любовь к своим героям. Что получилось, а что – нет?
Столетняя война между Англией и Францией длилась сто лет (строго говоря, больше – с 1337 по 1453 год) не подряд: случались и передышки. Одно из перемирий было заключено в 1360 году; множество военных осталось без заработка (то есть без возможности грабить). Эти люди стали собираться в отряды наемников – так называемые «белые отряды» – и предлагать свои услуги повсюду в Европе, где возникала какая-нибудь заварушка. «Когда каждый хватает соседа за горло и любой баронишка, которому грош цена, идет с барабанным боем воевать против кого ему угодно, было бы невероятно, если бы пятьсот отважных английских парней не смогли заработать себе на жизнь». Конан Дойл, как и в «Михее Кларке», выбрал для своей работы один небольшой эпизод: подготовку в 1366 году переворота в пользу кастильского короля Педро Жестокого против Энрике Трастамарского. На стороне как одного, так и другого сражались наемники. Педро помогал «Черный Принц» Эдуард, сын английского короля Эдуарда II, под началом которого сражались герои «Белого отряда». Схема романа в точности повторяет ту, что была использована в «Михее Кларке» (а позже и в «Затерянном мире»: Дойл не любил отказываться от своих постоянных приемов): четыре главных героя – бывший послушник Аллейн Эдриксон, профессиональный наемник Сэмкин Эйлвард, крестьянский сын Хордл Джон и сэр Найджел Лоринг – собираются вместе и вступают в войско; дальше следуют приключения и главная битва, заканчивающаяся поражением. («Певцом проигранных сражений» называли Дойла: подмечено верно. У нас еще не раз будет случай об этом говорить.) В своих странствиях герои встречают уйму людей самых разных сословий и профессий: это и есть картина эпохи.
«Рисовать эпоху», вообще говоря, задача для писателя довольно неблагодарная. Дойл старался добросовестно охарактеризовать каждого, кто попадался героям на пути: акробаты, купцы, охотники, студенты, скульпторы, разбойники, монахи-флагелланты, беглые моряки, рисовальщики вывесок, странствующие лекари, даже мулат – бывший судовой повар, ставший на путь бандитизма, – о каждом дается соответствующее пояснение: чем занимался, почему занимался и какую роль играл в общественном укладе. В «Михее Кларке» таких персонажей тоже было полно, но там они, по крайней мере, вступали в какие-то отношения с героем, например, пытались его убить или взять в плен. В «Белом отряде» все эти люди к сюжету не имеют никакого отношения. Они нужны не для сюжета и даже не для идеи, а для «всеобъемлющей картины». Трудно представить, что бы получилось, если бы Львом Толстым в «Войне и мире» руководило желание не написать роман, а нарисовать картину: наверное, каждая горничная, каждый кучер, каждая портниха имели бы свою историю и в конце концов своею массой задавили бы Кутузова с Наполеоном. Алексей Толстой в «Петре» много отвлекался на то, чтобы делать зарисовки «представителей разных слоев общества», но, во-первых, он был связан методом соцреализма, а во-вторых, все эти картинки были очень крепко нанизаны на основной стержень романа.
У Дойла они так и остались разрозненными кадрами, как будто герои, вооруженные фотокамерой, собирают снимки в альбом, чтобы потом показывать правнукам: вот это, ребятки, монах, а вот так одевалась трактирщица. А вот и трудящиеся массы. «Триста лет мой род изо дня в день гнул спину и обливался потом, чтобы всегда было вино на столе у хозяина... <...> Ударь дворянина – и закричит поп, ударь попа – и дворянин схватится за меч. Это ворюги-близнецы, они живут нашим трудом!» Этот диалог крестьян в кабаке часто приводился в предисловиях к советским изданиям «Белого отряда» как доказательство прогрессивности автора и его любви к народу; опускались только финальные реплики: «Прожить твоим трудом не так-то просто, Хью, – заметил один из лесников, – ты же полдня попиваешь мед в „Пестром кобчике“. – Все лучше, чем красть оленей, хотя кое-кто и поставлен их сторожить».
Тем не менее английские йомены, выиграв множество сражений с французами, продемонстрировали собственным феодалам свою силу и заставили себя уважать. «Покровитель превратился в покровительствуемого, и вся феодальная система, пошатываясь, брела к гибели» (фраза как будто прокралась на цыпочках в текст «Белого отряда» из «Капитала»). Разваливает феодализм, в частности, Хордл Джон. Правда, этот здоровенный детина на земле не трудится, а сперва уходит в монастырь из-за несчастной любви, потом, не слушая матери, которая справедливо считает, что неплохо бы ему все-таки малость поработать, отправляется грабить французов (хотя в «Белом отряде» на кону стояла испанская корона, побоища происходили на территории Франции, которую разоряли и грабили все, кто хотел), а в финале, получив хороший выкуп за пленного рыцаря, сам становится землевладельцем и проводит свои дни, попивая эль. Все это замечательно, только не очень легко понять, чем Хордл Джон в лучшую сторону отличается от разбойных йоменов Вальтера Скотта. Должно быть, тем, что грабил не англичан, а французов.
Есть в «Белом отряде» что-то такое, отчего всех тянет на патетику. Джон Диксон Карр, оценивая роман, сказал следующее: «"Мы свободные англичане!" – восклицает Сэм Эйлвард. И в этом правда Сэма Эйлварда. <...> Это была правда и Конан Дойла – воплощения патриотизма и всего того, что делает Англию великой». Отряд наемников за деньги помогает испанцу Педро Жестокому, весьма подлому типу, вновь заполучить Кастилию, в которой он уже натворил немало мерзостей – при чем тут великая Англия, при чем тут патриотизм? И какой вообще во времена Столетней войны был патриотизм? Нельзя понятия XIX века механически переносить на XIV: в те времена люди были преданы своему сюзерену, землякам, единоверцам, но никак не «родине» в ее современном понимании; в частности, на стороне англичан вполне искренне воевали бургундцы и гасконцы. Если в «Михее Кларке» персонажи Дойла сражались, упрощенно говоря, на стороне исторического прогресса, то в «Белом отряде» они заведомо идут биться за неправое и обреченное на поражение дело. (Черный Принц впоследствии возвел Педро на трон, но вознаграждения не получил, Педро был опять свергнут, а Англия в конце концов проиграла Столетнюю войну.) Господи, да что ж так придираться-то? – не выдержит читатель. – Человек просто написал роман. Да не придираемся, а пытаемся понять, прав ли был доктор Дойл, жалуясь, что его работу неверно оценили; не цеплялись бы, если б не его убежденность в том, что он написал не «просто роман», а серьезный исторический труд. И приходим к неожиданному выводу: поскольку, разоряя Францию, Англия тем самым объективно способствовала Жакерии, то можно считать дело Хордла Джона полезным.
Жакерия в романе тоже присутствует, правда, «жаки», в отличие от «джонов», какие-то совсем уж непривлекательные. «Бунтовщики, позабыв о своих врагах, оставшихся в живых, увлеклись грабежом; их возгласы и радостное гиканье разносились по всему замку, когда они тащили оттуда богатые тканые ковры, серебряные фляги, дорогую мебель с резьбой. Полуодетые бедняки, руки и ноги которых были измазаны кровью, расхаживали внизу во дворе, напялив на головы шлемы с плюмажем...» Что же получается – доктор Дойл на словах обещал превознести революционные народные массы, а сам взял да и оклеветал их? Да нет, конечно: он писал чистую правду (нам ли не знать, как делаются революции), писал в соответствии с документальными источниками. Но беллетрист – не историк, а читателям беллетристики одних фактов мало, их нужно убеждать художественными средствами: если уж Дойл, искренне любивший Францию, хотел вызвать у читателя какое-то уважение или хотя бы жалость к французским народным массам, то мог бы попробовать влезть какому-нибудь бедняку в душу, как делал это Золя, тоже любивший «рисовать картины». А так опять получилось какое-то стадо диких обезьян. Зато честно. Ах, да бог с ними, с этими народными массами, – вновь не выдерживает читатель, – книга-то про рыцарей.








