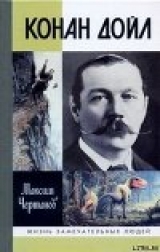
Текст книги "Конан Дойл"
Автор книги: Максим Чертанов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
На следующий год Ричард Дойл и его сестра («дядюшка Дик» и «тетушка Аннет») договорились с Мэри, что рождественские каникулы 1874 года Артур проведет в Лондоне. Мэри не хотела, чтобы сын приезжал домой, ибо к тому времени депрессия Чарлза Дойла усилилась настолько, что он иногда не мог заставить себя утром подняться с постели и идти на работу; вконец испортился и его характер. Да и материальное положение семьи Дойлов становилось все более скверным: Чарлза вот-вот уволят со службы, зато на подходе очередной ребенок – дочь Джейн Аделаида Роза (Ида), родившаяся в 1875-м. Артур выразил свое огорчение тем, что не увидит мать, но поездке был страшно рад. Дойл пишет, что, едва пристроив свой багаж, он сразу же совершил паломничество в Вестминстерское аббатство, на могилу Маколея, и это было едва ли не главным, что влекло его в Лондон. Сразу или не сразу, но чаю-то с родственниками, наверное, все-таки попил перед этой экскурсией: Ричард и Аннет встречали его на вокзале.
Поселили гостя в студии Ричарда Дойла на Финборо-роуд, где тот работал. За три недели Артур познакомился со всеми остальными родственниками, которые были очень внимательны к племяннику: приглашали в гости, кормили-поили и позаботились о том, чтоб организовать ему «культурную программу». Самый старший, дядя Джеймс, дважды водил его в театр. Это было не первое посещение театра юным провинциалом, но на него произвела большое впечатление игра знаменитого актера Генри Ирвинга в роли Гамлета. Матери он написал об Ирвинге письмо, полное восторгов. Многими годами позже, когда Конан Дойл сам станет знаменит и займется постановкой своих пьес, он познакомится с Ирвингом лично.
С дядей Генри он посетил Хрустальный дворец – знаменитый стеклянный павильон, построенный для Всемирной выставки в 1851 году и продолжавший изумлять посетителей своей роскошью. Дядя Дик, чуть лучше других представлявший, что нужно мальчишке, повел его на цирковое представление. Развлекался он и самостоятельно, осмотрев все, что полагается осматривать в Лондоне: Тауэр, где наибольшее впечатление произвела конечно же коллекция оружия, собор Святого Павла и другие достопримечательности. Побывали они и в Зоологическом саду: там гастролировал передвижной зверинец, из экспонатов которого наибольшее впечатление на Артура произвела гигантская крыса. Разумеется, в культурную программу входило посещение музея мадам Тюссо, где он был «очарован комнатой ужасов и статуями убийц». Музей в те годы находился на. Бейкер-стрит. Вряд ли правомерно напрямую из этого визита выводить будущий интерес к писанию детективов, но, конечно, при выборе квартиры для Холмса Конан Дойл вспомнит бледные лица восковых злодеев.
О родственниках: ближе всех Артур сошелся с дядюшкой Диком, которого отличал чуть более богемный и легкомысленный дух, чем остальных. При чтении старых биографий Конан Дойла может сложиться впечатление, что из всей родни как раз Ричард был самым непримиримым идейным противником и чуть ли не врагом Артура в его студенческие годы, когда тот отказался от католицизма. Это не совсем верно: просто дядюшка Дик на протяжении всей жизни горячее, чем другие братья, принимал участие в судьбе Артура, отсюда и бесконечные перепалки между ними: на того, кого не любишь, не станешь и времени тратить. Да, Ричард был глубоко верующим человеком (он ушел из редакции «Панча», когда там разместили карикатуру на папу римского), но прежде всего он был художником и романтиком, всю жизнь посвятившим веселым, хрупким и трогательным сказочным существам, не имевшим ничего общего с католичеством; под конец жизни он уже ничего не рисовал, кроме своих фэйри, и умер, окруженный лишь ими – есть здесь что-то отдаленно напоминающее конец жизни его непутевого младшего брата... Когда в 1883 году тело Ричарда Дойла найдут поутру в его студии, расписанной фигурками эльфов, среди красок и кистей, Артур напишет на его смерть стихотворение:
Вскричали эльфы на стенах:
Что видим мы, увы!
Лежит Волшебник, повержен в прах
И не слышит нашей мольбы.
О, что же это? И за что
Так жестоко наказаны мы?
И тоненькой нимфы вдруг голосок
Раздался пронзительно неясно:
– Зачем мы, друзья, обижали его?
Зачем я была так небрежна?
– Ну что ты, Энид, он не помнит обид —
Волшебника сердце безбрежно! [12]12
Перевод Д. Дубшина.
[Закрыть]
Зимой 1874-го серьезных разногласий между дядей и племянником еще не было: Артур пока не задумывался о религии глубоко, хотя первая трещинка в его вере появилась уже в Стоунихерсте. С дядюшкой Диком они весело проводили время. Другие дядья, Джеймс и Генри, были для него слишком стары и серьезны. Ему очень понравилась Джейн, жена Генри. Отношения с тетей Аннет, нежно любившей племянника, но фанатично религиозной и всегда уверенной в своей правоте, складывались неоднозначно. С одной стороны, в письмах к матери Артур отзывался о тетке в теплых словах; с другой стороны, в «Письмах Старка Монро» есть эпизод, где молодому герою приходится некоторое время жить в качестве семейного врача у неких лорда и леди Салтайров: эпизод, в отличие от всей повести, целиком вымышленный, но в леди Салтайр, быть может, проглядывают некоторые черты Аннет Дойл. «Вы представить себе не можете более невежественной, нетерпимой, ограниченной женщины. Если б она хоть молчала и прятала свои маленькие мозги, то было бы еще туда-сюда; но конца не было ее желчной и раздражающей болтовне. <...> Я решил избегать всяких споров с ней; но своим женским инстинктом она догадалась, что мы расходимся, как два полюса, и находила удовольствие в том, чтобы махать красной тряпкой перед моими глазами». В период, о котором мы сейчас говорим, тетя и пятнадцатилетний племянник пререкались в основном из-за разных бытовых пустяков, но уже в следующий приезд Артура в Лондон разногласия между этими двоими приобретут идейный характер и станут нестерпимы.
Артур провел в Лондоне три недели и, наверное, с удовольствием остался бы дольше. Однако когда он вернулся в Стоунихерст, вскоре обнаружилось, что жизнь там становится не так противна. Он повзрослел, малость набрался у дядюшек «светского лоска», и его меньше тянуло к детским выходкам, а отцы-иезуиты в ответ сделались к нему гораздо мягче. У педагогов возникли планы относительно его дальнейшей участи (о чем он еще не знал), и его поместили в класс герра Баумгартена с усиленным изучением немецкого языка. Черты этого преподавателя мы можем обнаружить в рассказе «Необычайное происшествие в Кайнплатце», где зануда-педант нечаянно обменяется душами с разгильдяем-студентом. По-видимому, Мэри Дойл обладала большими педагогическими талантами, чем преподаватели в Стоунихерсте, так как, в отличие от французского языка, с немецким у Артура не очень ладилось. Но это было уже не так страшно. Еще на предыдущем курсе, о чем мы упоминали, началось преподавание поэзии: новый предмет захватил его с головой, и он сочинял теперь беспрестанно; свои тогдашние стихи взрослый Конан Дойл называл убогими, но отмечал, что на других учеников и на преподавателей они произвели довольно сильное впечатление. Наставники уже меньше за ним следили; когда его выбрали редактором школьного журнала, вокруг него стали понемножку группироваться товарищи, также обладавшие литературными наклонностями или хотя бы каким-то интересом к литературе. Неожиданно для себя самого он стал значительно лучше успевать и по другим дисциплинам. А уже через полгода – летом 1875-го – пришло время выпуска.
Ученики, которые успешно сдавали выпускные экзамены, автоматически допускались к вступительным экзаменам в Лондонский университет (эти последние проводились не в Лондоне, а здесь же, в Стоунихерсте: из столицы только присылали экзаменационные задания). Артура не так пугали вступительные экзамены, как выпускные – ему казалось, что большинство преподавателей по-прежнему его ненавидят и что его непременно завалят на каком-нибудь переводе с греческого. Но все обошлось, он не провалил ни одного предмета. Затем в числе четырнадцати выпускников он отправился на вступительные экзамены – результат оказался еще лучше: он получил диплом с отличием. Почему так получилось – трудно сказать; скорей всего, он просто хорошо готовился; может быть, помогло умение собраться в трудную минуту, а может, и вопросы легкие попались. Во всяком случае, приятно удивлены были все: экзаменаторы, экзаменующийся и родители.
Но в университет Артур не попал. Педагоги объяснили ему, для чего он обучался немецкому – оказывается, его считали слишком юным, чтоб начать профессиональное образование, и предполагали отправить еще на год в другую иезуитскую школу, Стелла Матутина, которая находилась в городе Фельдкирх в австрийской провинции Форарльберг. Родители были согласны. Конан Дойл не говорит, был ли он сам разочарован или обрадован таким решением, возражал или нет и спрашивали ли его мнения. Скорее всего, он злился, так как от иезуитов не ждал ничего, кроме подвоха. Однако в Фельдкирхе ему неожиданно очень понравилось. Здание школы, как и Стоунихерст, напоминало средневековый замок, но не такой мрачный, и вся местность была очень живописна: крошечный, сонный городок, лежавший в долине, тысячей футов ниже уровня Альп. Все было здесь лучше: здоровый горный климат, мебель, еда, отапливаемые спальни и, к неописуемой радости ребенка, отличное австрийское пиво взамен стоунихерстского пойла. Но главное, конечно – отношение учителей. Дисциплина была строгая, но поддерживалась она убеждением, а не палкой, не было круглосуточного надзора, и в ответ на проявленную педагогами доброту Артур Дойл «сразу из возмущенного юного бунтовщика превратился в опору закона и порядка».
В Фельдкирхе обучались в основном немецкие юноши «из хороших семей», но были и англичане – около двадцати человек. Естественно, они старались держаться вместе; педагоги пытались препятствовать этому (не из вредности, а чтобы мальчики, раз уж им нужно было выучить немецкий язык, говорили на нем, а не на английском), например, на прогулках строили учеников так, чтоб англичанин шел между двумя немцами, – но далеко не всегда это получалось, и потому успехи Артура в немецком, по его признанию, оказались в итоге хуже, чем могли быть (это выяснится многими годами позже, когда он, уже будучи врачом, надумает стажироваться в Германии). Тогда, в австрийской школе, ему казалось, что он говорит по-немецки вполне прилично.
Пришлось ему, правда, столкнуться с небольшим разочарованием – австрийцы не знали его любимого крикета и играли в какой-то ужасный «футбол на ходулях», который ему с его ростом и весом никак не давался, – зато было очень много зимних видов спорта: катание на коньках и санках, хоккей. В обычный футбол тоже играли; неизвестно, игроком какого амплуа тогда был Артур, но сдается, что не форвардом – тоже из-за габаритов. Росту в дитяти было уже шесть футов и от обильной кормежки он изрядно раздался вширь. Довелось Артуру проявить себя и на новом поприще: австрийцы – народ музыкальный, и в Фельдкирхе был свой оркестр; один из его постоянных участников, игравший на большой басовой трубе, после каникул не вернулся, и ему срочно подыскали замену в лице Дойла. Эта честь, впрочем, была ему оказана благодаря не столько музыкальным способностям, сколько опять же росту: труба была очень, очень большая. («Однажды другие оркестранты запихали в нее мои простыни и одеяла, и я удивлялся, что не могу извлечь из нее ни звука» – как видим, серьезности и благонравия у этих молодых католиков было хоть отбавляй.) Как и в Стоунихерсте, здесь издавалась школьная газета, в редколлегию которой юный Дойл был включен с первых дней и проявил такую активность, что очень скоро все остальные члены редколлегии, к их собственному облегчению, смогли сложить с себя эти обязанности. Он писал много стихов и отсылал их родственникам. Он завел кучу приятелей. Он запоем читал – в частности Эдгара По, который произвел на него громадное впечатление. В отличие от Стоунихерста он был доволен тем, как преподавали историю; наполеоновские походы особенно интересовали его, и бригадир Жерар своим появлением на свет будет отчасти обязан фельдкирхской библиотеке.
Год, проведенный в Австрии, еще больше смягчил отношение Артура к иезуитским наставникам как к личностям: «усердные, искренние люди с ясным умом, и хотя среди них встречались проходимцы, их было немного.» – но не улучшили его мнения о религии, скорей наоборот. «Все в них достойно восхищения, за исключением их теологии – именно теология вынуждает их быть внешне жестокими и негуманными, что на самом деле является общим порождением католицизма в его крайней форме». Конечно, сформулировал эту мысль Артур Дойл не в шестнадцать лет. Тогда он вроде бы еще считал себя верующим католиком, но «жестокость и ограниченность» уже в те годы отталкивали его; сам он говорит, что впервые ощутил трещину между собой и своими наставниками в тот миг, когда слушал проповедь, в которой говорилось о том, что любого человека, находящегося вне католической церкви, ждет проклятие.
Тем временем дома, в Эдинбурге, произошло множество неприятных событий. В 1876-м, в возрасте всего сорока четырех лет, Чарлз Дойл был уволен со службы. Кому нужно держать в штате полусумасшедшего прогульщика? «Жизнь моего отца была трагедией нереализованных сил и неразвившихся дарований», – скажет позже Конан Дойл. В этом же году Чарлз был направлен в лечебницу Форден-Хауз. В популярных журналах об этом факте из жизни Дойлов можно прочесть, например, следующее: коварная Мэри упрятала своего пьющего, но абсолютно вменяемого мужа в сумасшедший дом, а неблагодарный сын одобрительно отнесся к этому решению – «он всегда стыдился отца и хотел, чтобы тот навсегда исчез из их жизни». В лечебнице несчастному стало только хуже, и до конца дней Артур Дойл был обречен испытывать неизбывную вину перед отцом. Трактовка, конечно, мелодраматически-вульгарная, но возразить особо нечего. Мэри – да, упрятала, заручившись согласием других родственников; Артур – да, не возражал, более того, принимал в этом активное участие, подписав соответствующие документы; состояние Чарлза – да, ухудшилось; чувство вины – да, присутствовало.
Правда, больница Форден-Хауз была не «желтым домом», а заведением, специализировавшимся на исцелении алкоголиков, и поместили Чарлза туда не с какими-то изуверскими целями, а чтобы лечить. Вряд ли можно ставить в вину Мэри то, что излечивать алкоголизм в XIX веке не умели (с ним и сейчас не больно-то справляются) и лечение сводилось в основном к присмотру, как бы пациент чего-нибудь не натворил; в результате депрессия Чарлза только усилилась и у него начались эпилептические припадки. Ряд источников утверждает, что эпилепсия у Чарлза Дойла развилась не в Фордене, а в другой больнице, за два года до смерти, иные – что он страдал ею еще до помещения в лечебницу, и вообще в этом вопросе все по сей день темно, как в голове у бедного Чарлза: даже год его определения в лечебницу в разных биографиях называется не один и тот же. Вскоре он совершит попытку самоубийства, затем попытается бежать, после чего его будут трижды переводить в другие психиатрические лечебные заведения – в последнем из них он умрет. Так что насчет чувства вины у сына – справедливо, конечно. Годами позже, в рассказе «Хирург с Гастеровских болот» («The Surgeon of Gaster Fell») – самой «готической» и, пожалуй, самой жуткой своей вещи, – Конан Дойл расскажет историю о человеке, бежавшем от мира и похоронившем надежды на карьеру, чтобы посвятить жизнь уходу за сумасшедшим отцом. И вина была, и жалость. Но неправда, что Артур Дойл не желал знать своего больного отца: он посещал его регулярно и именно его попросил быть первым иллюстратором своей первой книги о Шерлоке Холмсе.
Итак, осиротевшая семья ждала от старшего сына помощи; печальная участь Чарлза показала, что, будучи архитектором, не очень-то разбогатеешь, да и отсутствие у Артура наклонностей к точным наукам было уже слишком очевидно для всех; надо было искать другую профессию, более надежную. В конце концов было решено, что он должен получить специальность врача. Почему вдруг именно врача, ведь ни малейшей тяги к медицине он не испытывал и до сих пор ни ему, ни матери подобная возможность даже в голову не приходила? Причины выбора могли быть очень просты: профессия доктора давала неплохой заработок и была престижной (из этих же соображений – всего двумя годами позже – выберет медицину и юный Антон Чехов). Но в наш век никто не любит простых объяснений; в деле появляется новый фигурант.
Еще до того, как Чарлз был помещен в лечебницу, он уже фактически перестал быть кормильцем семьи, и женщины взяли дело добывания денег в свои руки. Старшая дочь Аннет была вынуждена искать места экономки или гувернантки в богатых домах и в конце концов уехала в Португалию, чтобы там поступить на службу: англичанок-домоправительниц на континенте ценили. А Мэри Дойл по примеру своей матери решила брать жильцов на пансион; как пишет Конан Дойл, это «в некоторых отношениях, возможно, облегчало ее положение, зато в других было для нее гибельным». Туманная фраза, причинившая биографам немало головной боли. Можно расшифровать ее, например, так: не все квартиранты платили вовремя, доход был небольшой, а хлопот и унижения – хоть отбавляй, и все это выматывало Мэри так, что она постоянно жила «на нервах». Однако современные исследователи (начало положили журналисты Дэвид Пири и Цуката Кобаяси, а за ними последовали и другие) дают этой фразе совершенно иное толкование, утверждая, что с одним из жильцов, Чарлзом Брайаном Уоллером, юным врачом, бывшим всего шестью годами старше Артура, Мэри Дойл вступила в любовную связь; именно по этой причине она отправила Чарлза в лечебницу, да и самая младшая ее дочь, Додо, появившаяся на свет в 1877-м, когда Чарлз был уже в Форден-Хаузе, родилась не от мужа, а от молодого Уоллера, о чем явно свидетельствует ее полное имя: Мэри Брайан Джулия (Джулией звали мать Брайана Уоллера.) В доказательство приводится тот факт, что Мэри Дойл несколько лет жила исключительно за счет Уоллера, кочевала с квартиры на квартиру с ним вместе, а в 1882-м вместе с младшими детьми переехала в дом, принадлежавший его родителям, и жила там бесплатно почти до самой смерти. Правда это (имеется в виду связь, а не финансовая поддержка и переезд, которые являются установленными фактами) или нет – сказать невозможно.
Личность самого Брайана Уоллера характеризуют по-разному: если ранние биографы деликатно называют Уоллера степенным молодым человеком, другом семьи Дойлов, оказывавшим на всех ее членов (увы, за исключением отца семейства) положительное влияние, то у представителей современной биографической школы, полагающих, что всякому скелету место на витрине, мы можем прочесть, что Уоллер был высокомерным снобом, узурпировавшим власть в доме, и юный Артур его ненавидел; дальше одни развивают тему Гамлета, Клавдия и Гертруды, другие делают предположение – возможно, и не безосновательное, – что кой-какие черты Уоллера унаследовал Шерлок Холмс. Сам Конан Дойл ни единым словом не упоминает о существовании Брайана, а это действительно очень странно, учитывая то обстоятельство, что именно Уоллер, по мнению всех без исключения биографов, порекомендовал ему избрать своей профессией медицину, помогал готовиться к экзаменам и поддерживал впоследствии как морально, так и материально. Даже Карр, старавшийся избегать любых мало-мальски двусмысленных эпизодов, пишет о значительном влиянии, которое Уоллер – медик, материалист, поэт – на протяжении многих лет оказывал на духовное развитие Артура Дойла.
Во всем этом, возможно, не стоило бы копаться – нам-то какая разница, с кем жила или не жила Мэри Дойл и почему бы ей не найти свое счастье, коли с мужем не повезло, – но, когда мы читаем современные статьи о Конан Дойле и видим, что его мемуары называют викториански ханжескими и лицемерными и предупреждают, что им нельзя доверять, нам хочется понять – за что. Да вот за эти умолчания конечно же (уж эти викторианцы, они даже обнаженные ножки рояля упрятывали под юбочки, как же, знаем, наслышаны!). И вправду, какой неискренний, какой лицемерный человек: вместо того чтобы прямо и честно написать «отец мой был законченный алкоголик и бил мою мать, а она пошла на содержание к молодому парню», отделывается невнятицей о «нереализованных силах» и «гибельных решениях». Как бы не так. Времена переменились. Нас вон сколько таких, кто сделает это за него. Простите, сэр Артур, если сможете.
Короче говоря, профессию для сына по тем или иным соображениям выбрала Мэри, а поскольку он не тяготел ни к какой другой, то согласился. Так что в июне 1876-го, не без сожаления покидая Фельдкирх, он уже знал, что по возвращении домой будет учиться на врача. Детство закончилось. Но остались еще последние детские каникулы, которых Мэри не хотела его лишать, и, имея в кармане пять фунтов, он решил отправиться в небольшое турне по Франции, а если хватит денег, то и по остальной Европе.
Одним из тех, кому Артур посылал свои стихи и статьи для «Фельдкирхской газеты», был его крестный – дядя (по нашему все-таки правильней называть его двоюродным дедушкой) Мишель, бывший Майкл Конан, художественный критик, редактор парижского «Художественного журнала», интеллектуал и любитель искусства. Он и раньше проявлял к внучатому племяннику постоянный интерес, вел с ним и с его матерью активную переписку, принимая в его судьбе ничуть не меньшее, если не большее участие, чем дядя Дик. Наверное, можно даже сказать, что он в какой-то степени сделался для Артура в юности тем, чем не сумели стать педагоги, – духовным наставником. Он присылал своему крестнику из Парижа книги, когда тому было еще пять лет; он же познакомил подростка с творчеством Маколея. И он, в отличие от другой родни, с самого начала всерьез относился к любому литературному упражнению Артура; получив номер «Фельдкирхской газеты», он угадал, что все до единой статьи в ней сочинены его крестником, а это свидетельствует либо о том, что у Конан Дойла в шестнадцать лет уже был свой стиль,либо о том, что Мишель Конан был чрезвычайно внимательным читателем, что, наверное, более вероятно. Разумеется, когда дедушка Мишель узнал, что летом 1876-го Артур собирается во Францию, он пригласил его в гости. До этого они еще ни разу «живьем» не виделись.
Европейского турне у юного Дойла толком не вышло: уже в Страсбурге он истратил все свои деньги на «оживленный ужин» (подозреваем, что с дамами), и ему ничего не оставалось, как сразу отправиться к дедушке Мишелю. Ему не на что было даже нанять извозчика, и он пешком обошел пол-Парижа, прежде чем разыскал улицу Ваграм, где жил его крестный. Дедушка Майкл оказался высоченным и здоровенным стариканом, который всем своим обликом – за исключением окладистой бороды и взъерошенных седых кудрей на голове – был очень похож на самого Артура. В мемуарах Дойл пишет, что пошел в деда Мишеля не только телосложением, но и складом ума; естественно, что эти двое моментально нашли общий язык. Сюзанна, жена Мишеля Конана, тоже понравилась Артуру. Так что никуда он больше не поехал – так и провел в Париже почти месяц. Надо думать, о книгах они с дедом говорили часами напролет, при этом то и дело ругаясь и тут же мирясь: оба были вспыльчивы, но отходчивы.
Мишель Конан, хоть и офранцузился изрядно, своего происхождения никогда не забывал; по убеждениям он был яростным ирландским националистом и, конечно, пытался настроить внучатого племянника в том же духе. Артуру еще в раннем детстве случилось увидеть радикальных националистов – в «Воспоминаниях и приключениях» он описывает эпизод, когда, будучи с матерью в гостях у дальнего ирландского родственника, он наблюдал, как при приближении к усадьбе компании каких-то безобидных на вид оборванцев перепуганные слуги бросились запирать ворота: «Только позднее я понял, что эти люди были отрядом фениев и что мне довелось увидеть один из тех мятежей, которые время от времени переживает бедная старая Ирландия». На всякий случай освежим память читателя относительно фениев: так назывались революционеры-террористы (они, в частности, организовали ряд взрывов в лондонском метрополитене и на вокзале Кингс-Кросс), члены тайных заговорщических организаций, действовавших во второй половине XIX – начале XX века. Дедушка Мишель к фениям не принадлежал и не одобрял террора, но был одним из основателей движения «Шинн фейн» (по-гэльски, «мы сами»), которое также требовало независимости Ирландии; оно оформилось как политическая организация в 1905 году и не дает покою правительству Великобритании по сей день.
Мишель Конан, однако, не преуспел в том, чтобы привлечь крестника на свою сторону: Конан Дойл, напротив, всю жизнь будет сторонником единой империи и противником ирландского самоопределения. Почему он не поддался националистическим убеждениям, которые были так сильны у его матери и других родственников? Вопрос слишком сложный и обширный, чтобы пытаться осветить его здесь, но впоследствии мы еще не раз будем обращаться к «ирландской проблеме».
Узнав, что Артуру предстоит быть врачом, дедушка Мишель вряд ли пришел от этого в восторг: он куда ясней самого мальчишки видел, что его призвание – литература. Но вмешиваться он конечно же не стал. Не всякого литература может прокормить.
В июле Артур вернулся в Эдинбург (к тому времени семейство Дойлов вместе с Брайаном Уоллером перебралось с Сайенс-Хилл-плейс на другую квартиру, более приличную, по адресу Аргайл-парк-террас, 2) и они с матерью окончательно сверили свои планы. Вообще-то, чтобы заниматься медицинской практикой общего характера, по тогдашним законам не обязательно было получать степень доктора медицины в высшем учебном заведении: можно было, например, пойти в ученики к хирургу или аптекарю и через пару лет сдать экзамен в лицензирующей организации. Но Дойлы все-таки решили, что Артуру следует поступать в университет: дипломированных специалистов вносили в реестр квалифицированных врачей, что давало не только уважение пациентов и коллег, но и гарантии: докторов без диплома могли легко лишить практики. Учиться – так уж как следует; Мэри всегда была честолюбива.
Эдинбургский университет, основанный в 1583 году, был одним из лучших учебных заведений Великобритании в XIX веке (он и сейчас входит в первую пятерку британских университетов); своей медицинской школой он славился на всю Европу. Доктор Уоллер тоже был его выпускником, и повлиял он на решение Дойла или нет, но о медицинском факультете наверняка отзывался с похвалой. Учиться в родном городе, никуда не ездить, а следовательно, не тратиться на съемное жилье; в общем, все сошлось как нельзя удобней, вот только денег на учебу не было. Но и эта проблема решалась. В Эдинбургском университете, как и теперь во многих вузах, существовала система стипендий, носивших имя различных деятелей науки: человек сдавал конкурсные экзамены и по их результатам ему выплачивалась определенная сумма, которую он в дальнейшем тратил на свое образование – оплату обучения, книги, жилье. Артур записался на экзамены и весь оставшийся месяц провел за зубрежкой – математика, химия, опять ненавистные классические языки. Сдал успешно и с радостью услышал, что ему присуждена стипендия в сорок фунтов на два года. Для студента это была солидная сумма, и Дойлы ликовали.
Но когда Артур пришел за деньгами, оказалось, что канцелярия допустила ошибку: профессор Грирсон, в чью честь называлась выигранная Артуром стипендия, был лингвистом и, соответственно, деньги предназначались для гуманитарных факультетов. Артуру казалось, что это легко поправить, ведь стипендий была целая куча, для медиков в том числе. Но было уже поздно, а может, чиновники просто не захотели себя утруждать; юный Дойл некоторое время обивал пороги, хотел даже судиться, но близкие отговорили его (ходил и ругался, правда, не совсем впустую: семь фунтов ему все-таки выплатили). Можно, конечно, было отказаться от поступления, пойти в ученики, потом пробовать получить стипендию на следующий год, но жаль было потраченного времени и сил. Так что в октябре 1876-го Артур Дойл был зачислен на первый курс медицинского факультета.








