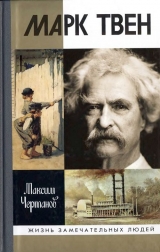
Текст книги "Марк Твен"
Автор книги: Максим Чертанов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 39 страниц)
21 августа остановка в Севастополе: «печальное зрелище – разрушенные до основания дома, лес разбитых труб» (только что закончилась Крымская война). ««Квакер-Сити» завалили грудами реликвий. Их тащили с Малахова кургана, с Редана, с Инкермана, из Балаклавы – отовсюду. Тащили пушечные ядра, сломанные шомполы, осколки шрапнели – железного лома хватило бы на целый шлюп». Потом пошли в Одессу заправиться углем – «и впервые после долгого-долгого перерыва наконец почувствовал себя совсем как дома. По виду Одесса точь-в-точь американский город: красивые широкие улицы, да к тому же прямые; невысокие дома (в два-три этажа) – просторные, опрятные, без всяких причудливых украшений; вдоль тротуаров наша белая акация; деловая суета на улицах и в лавках; торопливые пешеходы; дома и все вокруг новенькое, с иголочки, что так привычно нашему глазу; и даже густое облако пыли окутало нас словно привет с милой нашему сердцу родины… Куда ни погляди, вправо, влево, – везде перед нами Америка! Ничто не напоминает нам, что мы в России. Мы прошлись немного, упиваясь знакомой картиной, – но вот перед нами выросла церковь, пролетка с кучером на козлах – и баста! – иллюзии как не бывало. Купол церкви увенчан стройным шпилем и закругляется к основанию, напоминая перевернутую репу, а на кучере надето что-то вроде длинной нижней юбки без обручей».
В Одессе на «Квакер-Сити» явился консул США и сообщил, что Александр II, живший в то время с семьей в резиденции в Ливадии, желает видеть путешественников. 25 августа помчались обратно в Ялту: «О боже! Какая поднялась возня! Созываются собрания! Назначаются комитеты! Сдуваются пылинки с фрачных фалд!» Написали послание императору: «Составляя небольшое общество частных лиц, граждан Соединенных Штатов, путешествующих для развлечения, без всякой торжественности, как подобает нашему неофициальному положению, мы не имеем иного повода представиться Вашему Императорскому Величеству, кроме желания заявить наше признательное почтение Государю Империи, которая в счастии и несчастии была неизменным другом страны, к которой мы исполнены любовью. <…> Америка обязана многим России, она состоит должником России во многих отношениях, и в особенности за неизменную дружбу во время великих бедствий».
В полдень были во дворце, через пять минут появился Александр, первый монарх, которого удалось увидеть вблизи. «Право же, странно, более чем странно сознавать, что вот стоит под деревьями человек, окруженный кучкой мужчин и женщин, и запросто болтает с ними, человек как человек, – а ведь по одному его слову корабли пойдут бороздить морскую гладь, по равнинам помчатся поезда, от деревни к деревне поскачут курьеры, сотни телеграфов разнесут его слова во все уголки огромной империи, которая раскинулась на одной седьмой части земного шара, и несметное множество людей кинется исполнять его приказ. <…> Вот он передо мной – человек, который может творить такие чудеса, – и однако, если я захочу, я могу сбить его с ног. <…> Каждый поклон Его Величество сопровождал радушными словами. <…> В них чувствуется характер, русский характер: сама любезность, и притом неподдельная. Француз любезен, но зачастую это лишь официальная любезность. Любезность русского идет от сердца, это чувствуется и в словах и в тоне, – поэтому веришь, что она искренна. Как я уже сказал, царь перемежал свои слова поклонами.
– Доброе утро… Очень рад… Весьма приятно… Истинное удовольствие… Счастлив видеть вас у себя!
Все сняли шляпы, и консул заставил царя выслушать наш адрес. Он стерпел это не поморщившись, затем взял нашу нескладную бумагу и передал ее одному из высших офицеров для отправки ее в архив, а может быть, и в печку» [9]9
Текст с автографом Твена впоследствии попал в РГА ВМФ (Ф. 6. On. 1. Д. 18. Л. 26 об.) в фонд адмирала Б. А. Глазенапа.
[Закрыть].
Вся царская семья произвела приятное впечатление. О царе: «Нетрудно заметить, что он человек добрый и отзывчивый. <…> В его глазах нет и следа той хитрости, которую все мы заметили у Луи-Наполеона». Императрица Мария Александровна любезна, великая княжна Мария очень понравилась и, возможно, напомнила Лору Райт: «Ей четырнадцать лет, она светловолоса, голубоглаза, застенчива и миловидна. <…> Глядя на доброе лицо императора и на его дочь, чьи глаза излучали такую кротость, я подумал о том, какое огромное усилие над собою пришлось бы, верно, сделать царю, чтобы обречь какого-нибудь преступника на тяготы ссылки в ледяную Сибирь, если бы эта девочка вступилась за него. Всякий раз, когда их взгляды встречались, я все больше убеждался, что стоит ей, такой застенчивой и робкой, захотеть, и она может забрать над ним огромную власть. Сколько раз ей представляется случай управлять самодержцем всея Руси, каждое слово которого закон для семидесяти миллионов человек! Она просто девочка, я видел таких сотни, но никогда еще ни одна из них не вызывала во мне такого жадного интереса».
Император лично показал гостям дворец и оранжереи. Потом отправились в Ореанду, во дворец князя Михаила Николаевича, младшего брата Александра – «славный парень, а жена его – одна из самых любезных дам в этом любезном обществе»; «у него такая царственная наружность, как ни у кого в России. Ростом он выше самого императора, прямизною стана настоящий индеец, а осанкой напоминает одного из тех гордых рыцарей, что знакомы нам по романам о крестовых походах. По виду это человек великодушный – он в два счета столкнет в реку своего врага, но тут же и сам прыгнет за ним и, рискуя жизнью, выудит его на берег» – там к завтраку вновь появилось царское семейство, присутствовали также «князь Долгорукий и веселый граф Фестетикс»: первый, вероятно, генерал-губернатор Москвы Владимир Долгоруков, второй – либо представитель известного венгерского рода, либо Твен так переврал фамилию Фредерикса, будущего министра двора. На следующий день, 27 августа, прием у генерал-губернатора графа П. Е. Коцебу, там были «барон Врангель. Одно время он был русским послом в Вашингтоне» (Фердинанд Врангель, известный путешественник, был не послом, а наместником Аляски; возможно также, что Твен спутал престарелого барона с его сыном), «барон Унгерн-Штернберг, главный директор русских железных дорог» (Карл Карлович Унгерн-Штернберг, дед «кровавого барона», был не директором железных дорог, а их строителем): «Теперь у него работают около десяти тысяч каторжников. Я воспринял это как новый вызов моей находчивости и не ударил лицом в грязь. Я сказал, что в Америке на железных дорогах работают восемьдесят тысяч каторжников – все приговоренные к смертной казни за убийство с заранее обдуманным намерением. И ему пришлось прикусить язык».
Днем экскурсия по Ялте – «Место это живо напомнило мне Сьерра-Неваду», вечером – бал, ночью отплыли в Константинополь, пассажиры и экипаж продолжали обсуждать впечатления, все, что написано Твеном об этом обсуждении, конечно, выдумка, но она показывает, что американцы ощущали запоздалый стыд за свое восхищение варварским монархом. «Потом перемазанный с головы до пят палубный матрос, изображавший консула, вытащил какой-то грязный клочок бумаги и принялся по складам читать: «Его императорскому величеству, Александру II, русскому императору. Мы – горсточка частных граждан Америки, путешествующих единственно ради собственного удовольствия, скромно, как и приличествует людям, не занимающим никакого официального положения, и потому ничто не оправдывает нашего появления перед лицом вашего величества…»
Император. Так за каким чертом вы сюда пожаловали?
«…кроме желания лично выразить признательность властителю государства, которое…»
Император. А ну вас с вашим адресом…»
С 30 августа по 7 сентября – Константинополь, там 5 или 6 сентября Чарлз Лэнгдон показал Сэму фотографию своей сестры, в которую тот заочно влюбился, с 10 сентября началось посещение библейских мест, главная цель путешественников. Поездка по Сирии через Баальбек и Дамаск была тяжелой, лошади и мулы измучились, но благочестивые паломники гнали их нещадно, вызвав у Твена приступ гнева. Зато сирийцы, не в пример прочим «дикарям», понравились: «Народ здесь по природе умный и добросердечный, и, будь он свободен, будь ему доступно образование, он жил бы в довольстве и счастье».
В Назарете полагалось ощутить религиозное благоговение – у Твена, который воспринимал Христа как живого человека, возникло иное чувство. «Он посетил отчий дом в Назарете и повидал своих братьев Иосию, Иуду, Иакова и Симона; можно было ожидать, что имена этих людей – они ведь родные братья Иисуса Христа – будут изредка упоминаться; но кто хоть раз встречал их в газете или слышал с церковной кафедры? Кто хоть раз поинтересовался, каковы они были в детстве и юности, спали ли они вместе с Иисусом, играли ли с ним в тихие и в шумные игры, ссорились ли с ним из-за игрушек и разных пустяков, били ли его, разозлившись и не подозревая, кто он такой? <…> Кто спросил себя, что творилось в их душах, когда они видели, что брат их (для них он был всего лишь брат, хотя для других был он таинственный пришелец, Бог, видевший лицом к лицу Господа в небесах) творит чудеса на глазах пораженных изумлением толп? Кто задумался, просили ли они Иисуса войти в дом, сказали ли, что мать и сестры горюют о его долгом отсутствии и будут вне себя от радости, когда вновь увидят его? Кто вообще хоть раз подумал о сестрах Иисуса? А ведь у него были сестры, и воспоминание о них, должно быть, не раз закрадывалось ему в душу, когда чужие люди дурно обращались с ним, когда он, бездомный, говорил, что негде ему преклонить голову, когда все покинули его, даже Петр, и он остался один среди врагов».
Такой «человеческий» подход раздражал других туристов, начались ссоры. Паломники восхищались всем, что видели, Твен считал их восторги надуманными. Вот море Галилейское – для него «мутная лужа», для них «великолепие». «Но почему нельзя сказать правду об этих местах? Разве правда вредна? Разве она когда-либо нуждалась в том, чтобы скрывать лицо свое? Бог создал море Галилейское и его окрестности такими, а не иными». Туристы, начитавшиеся путеводителей, были романтически настроены в отношении арабов – для Твена арабы вмиг перестали существовать, когда он обнаружил, что они жестоки с лошадьми.
Иерусалим довершил разочарование: «Всюду отрепья, убожество, грязь и нищета – знаки и символы мусульманского владычества куда более верные, чем флаг с полумесяцем. Прокаженные, увечные, слепцы и юродивые осаждают вас на каждом шагу; они, как видно, знают лишь одно слово на одном языке – вечное и неизменное «бакшиш». Но и христиане не лучше – они не уважают Христа»; «У каждой христианской конфессии (за исключением протестантов) под крышей храма святого Гроба Господня есть свои особые приделы, и никто не осмеливается переступить границы чужих владений. Уже давно и окончательно доказано, что христиане не в состоянии мирно молиться все вместе у могилы Спасителя»; «История полна им, этим старым храмом святого Гроба Господня, пропитана кровью, которая лилась потому, что люди слишком глубоко чтили место последнего упокоения того, кто был кроток и смиренен, милостив и благ!»; «Когда стоишь там, где распяли Спасителя, приходится напрягать все силы, чтобы не забыть, что он не был распят в католической церкви». Эти замечания окончательно испортили отношения с паломниками.
Со 2 по 7 октября – Египет, пирамиды, Сфинкс: «Весь его облик исполнен достоинства, какого не встретишь на земле, и доброты, какой никогда не увидишь в человеческом лице. Это камень, но кажется, что он чувствует. И если только каменному изваянию может быть ведома мысль, он мыслит. <…> Он воплощает в себе неотъемлемое свойство человека – силу человеческого сердца и разума». С 18 по 25 октября были в Испании – Севилья, Кордова, Кадис (красота, темнота, гадость, грязь), с 1 по 15 ноября на Бермудских островах, 19 ноября возвратились в Нью-Йорк. Там Твен обнаружил, что его дорожные письма имели успех. Передовица «Нью-Йорк геральд»: «Во вчерашнем номере «Геральд» мы опубликовали самое уморительное письмо, написанное самым уморительным американским талантом, Марком Твеном, о самом уморительном из всех современных паломничеств». И уже через два дня Элиша Блисс, директор хартфордского издательства «Америкэн паблишинг компани», предложил выпустить книгу. «Я мог бы устранить главные недостатки построения и неуклюжие выражения, сделав книгу, лучше которой я в настоящий момент все равно не напишу, – отвечал Твен. – Если такая книга Вас устроит, пожалуйста, дайте мне знать, сообщите размеры и характер книги; срок, к которому она должна быть закончена; предполагаются ли иллюстрации; в особенности же Ваши условия и сколько я могу надеяться получить от издания. Последнее особенно меня интересует, до такой степени, что мне это даже странно». Но контракт с Блиссом он не заключил, не будучи уверен, что сможет написать книгу: заниматься ею он мог только в свободное время, ибо поступил на службу к сенатору.
Проработал Твен в Вашингтоне всего три месяца и ничего хорошего, кроме шапочного знакомства с генералом Грантом (в ноябре того изберут президентом), не получил. Должность секретаря ему не подходила, политики не нравились (из письма Ориону: «Сколько жалких умов в этом конгрессе!»), отношения со Стюартом не сложились. Тот в 1908 году опубликовал мемуары, отозвавшись о своем секретаре дурно: «Еще в Неваде он печатал всякую всячину про знакомых людей и всем причинял неприятности. Его никогда не заботило, правда или нет то, что он писал, лишь бы было что писать, и естественно, что его не любили»; «Это был господин малопочтенной наружности. Он был облачен в потрепанный костюм, который висел на его тощей фигуре, ни о каком покрое и речи быть не могло. Сноп лохматых волос вылезал из-под повидавшей виды бесформенной шляпы, словно труха из старого дивана колониальных времен. В углу рта торчал зловонный и обсосанный окурок сигары. У него был весьма зловещий вид». Этот тип якобы сам напросился в секретари, жил в губернаторском доме, курил, все пачкал, ничего не делал, только писал свою книжку. Однако, похоже, злой сенатор был не так далек от истины, ибо секретарь сам поведал миру о своей деятельности в рассказах, относящихся к жемчужинам его юмористики: «Факты о моей отставке» («The Facts Concerning the Recent Resignation», «Нью-Йорк трибюн», февраль 1868) и «Когда я служил секретарем» («My Late Senatorial Secretaryship», «Гэлакси», май 1868).
«Сенатор крепко сжимал пачку писем, и я сразу понял, что пришла почта с тихоокеанского побережья, которой я все время так боялся.
– Я считал вас достойным доверия, – заговорил сенатор.
– Так точно, сэр.
– Я передал вам письмо, – продолжал сенатор, – от нескольких моих избирателей из штата Невада, ходатайствовавших об учреждении почтовой конторы в Болдвин-рэнче. Я велел вам составить ответ половчее, с такими доводами, которые убедили бы этих людей, что почтовая контора им не нужна.
У меня отлегло от сердца. Я сказал:
– И только, сэр? Это я выполнил.
– Выполнили, да? Сейчас я вам прочитаю ваше послание, чтобы вас хорошенько пристыдить!
«Джентльмены! На кой черт сдалась вам почтовая контора в Болдвин-рэнче? Ведь вам от нее не будет решительно никакой пользы. Если даже вы получите какое-нибудь письмо, вы все равно не сумеете его прочесть; что же касается транзитной почты со вложением денег, то легко догадаться, где будут застревать эти деньги! Все мы тогда не оберемся неприятностей. Нет, бросьте и думать насчет почтовой конторы. Я стою на страже ваших интересов и считаю, что ваша затея – просто чепуха с бантиками. Что вам действительно необходимо – так это удобная тюрьма, удобная, вместительная тюрьма; и еще – бесплатная начальная школа. От них вам и впрямь будет польза. От них вам будет радость и счастье. Соответствующие меры приму незамедлительно. С совершенным почтением, Марк Твен. По поручению члена сената США Джеймса У. Н.».
Вот что вы ответили моим избирателям! Теперь они грозят меня повесить, если я когда-нибудь осмелюсь появиться в их округе. И можно не сомневаться, что они свое слово сдержат!»
Он продолжал писать очерки для «Алты» и «Энтерпрайз», начал публиковаться в «Чикаго трибюн», «Гэлакси» и – большой успех – был оформлен вашингтонским корреспондентом «Нью-Йорк трибюн», одной из самых влиятельных газет США: с издателем «Трибюн» Хорэсом Грили, одним из основателей республиканской партии, отношения были неважные (в ноябре 1868 года Твен опубликовал фельетон о нем в журнале «Дух времени»), но отказаться от услуг популярного журналиста газета не захотела. Зарабатывал неплохо, кое-какие деньги капали за «Лягушку», ходил по званым вечерам, стал модным тамадой, на обеде в «Вашингтонском клубе корреспондентов» его застольная речь была признана «лучшей из всех речей, когда-либо произнесенных человеком». Но по-прежнему жил как на вокзале, не строя планов, ощущал себя неприкаянным бродяжкой; не жил, а только собирался: вот когда-нибудь продадим теннессийские земли, разбогатеем, и… Но все переменилось, когда на Рождество он поехал в Нью-Йорк встретиться с Дэниелом Слоутом.
В 1861 году Сэмюэл писал матери и сестре: «Я всегда хотел устроиться так (покуда не женюсь), чтобы смотать удочки и сбежать, как только запахнет жареным». В 1862-м – Молли, невестке: «Я никогда не женюсь, пока не смогу позволить себе иметь достаточно прислуги, чтобы моя жена могла быть только тем, чем я хочу ее видеть: компаньоном. Я не хочу спать с женщиной, которая будет кухаркой, горничной и поломойкой. Я могу спать со служанками, пока холост, но когда я женюсь, с этим будет покончено». В 1866-м – Биллу Боуэну, старому другу: «Женитьба – дерьмо. Я слишком стар, чтобы жениться. Мне почти 31, и у меня седые волосы. Женщинам я вроде нравлюсь, но, черт их дери, они в меня не влюбляются». И наконец, за несколько дней до встречи с будущей женой, 12 декабря 1867 года в письме Мэри Фербенкс: «Если б я был устроен, я бы бросил все глупости и заморочил бы голову какой-нибудь девице, чтоб она вышла за меня. Но я не был бы ее «достоин». Нет такой приличной девушки, которой я был бы достоин. Она была бы недостойна сама».
Достойных девушек при его работе репортера попадалось мало, куда больше недостойных. В июне 1865 года он опубликовал в «Энтерпрайз» заметку «Еще одна несчастненькая» («Just One More Unfortunate») о шестнадцатилетней девушке, которую наблюдал в тюрьме: казалась «невинным ребенком», а на самом деле «полгода жила с ниггером»; знала всех проституток и мошенниц, «назвать ее шлюхой – значит польстить». Наивные копы прослезились, слушая рассказ девушки, и хотели отправить ее в училище, автор возмущался: какое училище для этой твари? «Она уже получила образование и могла бы возглавлять Университет Порока». «О женщины, вам имя – притворство!»
На «Квакер-Сити» он встретил приличных женщин, которые вроде бы не притворялись. Но по сравнению с ними он был «плохой». Викторианский стереотип: мужчина – дьявол, зверь, пьет, распутничает и бранится, женщина (порядочная) – ангел, который должен его перевоспитывать. Такого отношения Клеменс требовал от всех новых знакомых. Мэри Фербенкс 2 декабря 1867 года: «Я был самым худшим богохульником и самым безрассудным человеком из всех, кто плыл на «Квакер-Сити»… Но я постоянно стараюсь излечиться от дурных привычек, например от жевания табака. Ваши сомнения, мадам, не могут поколебать мою веру в такое преобразование.
И пока я помню Вас, моя добрая, нежная матушка (да храни Вас Господь!), я не забуду Ваши бесценные уроки». Через неделю: «Я становлюсь все лучше и лучше… Жду следующей проповеди». Эмили Северанс: «Я всегда буду с благодарностью помнить уроки, которые вы обе (с Фербенкс. – М. Ч.) дали мне – Вы вашим мягким способом и она своим тираническим и властным». Он просил «уроков» даже от семнадцатилетней Эммы Бич: «Ваши выговоры так искренни и так приятны, что я не могу не желать получить их еще больше! Пожалуйста, мисс Эмма, пришлите мне еще выговоров, и честное слово, я сделаю все что могу, чтобы извлечь из них пользу». (Трудно разобрать, вправду ли он хотел быть «улучшенным» или просто наслаждался вниманием, которое женщины проявляли к нему, а может, издевался…) Но «матери» и «сестренки» – одно, жена – другое: не может хорошая девушка, «ангел», жить с ним, грубым и порочным.
А в это время ангел его терпеливо дожидался. Оливия Лэнгдон, чью фотографию Твену показывал ее брат Чарлз, родилась в 1846 году. Ее отец Джервис Лэнгдон, сын фермера, родился в 1809-м, в почтенном семействе из Новой Англии, в 16 лет начал работать в торговле, в 1832-м женился на Оливии Льюис, дочери фермера. Торговал древесиной, продвигался по службе, к 1843 году стал партнером в фирме «Эндрюс и Лэнгдон», в 1855-м переключился на более перспективную отрасль – угольную, купил несколько шахт, основал транспортный бизнес, разбогател, жил в городе Эльмира (штат Нью-Йорк, близ границы с Пенсильванией) и к концу 1850-х годов был одним из виднейших его граждан. Кроме Оливии и Чарлза, в семье была приемная дочь Сьюзен, на десять лет старше Оливии, относились к ней как к родной. Семья просвещенная и передовая: муж и жена – активные аболиционисты, Джервис был близким другом знаменитого борца за права негров Фредерика Дугласа, принял его в дом, когда тот бежал от рабства. В 1846 году Джервис вместе с другими прихожанами пресвитерианской церкви вышел из нее в знак протеста против рабовладения и основал Первую независимую конгрегационалистскую церковь (известную также как Парковая церковь); с 1854 года проповедником в ней стал Томас Бичер, брат знаменитого Генри Бичера (не менее знаменитая Гарриет Бичер-Стоу – их сестра). Правила в церкви были пуританские, прихожанам не дозволялось пить вино и ходить в театр, но обстановка домашняя: столовая, бильярд, детская игровая комната, Твен впоследствии говорил, что это первая церковь, бывшая для детей домом, а не тюрьмой.
Сюзи, внучка Джервиса Лэнгдона, знавшая деда только по рассказам: «Мама любила дедушку больше всех на свете. Он был ее кумир, а она его». Оливию сначала учили дома – чтение, история, география; в 9 лет отдали в престижную школу «Колледж Эльмиры», обещавшую девочкам образование, «которое может сравниться с образованием для мальчиков»: греческий и латынь, история и математика в большом объеме, в то же время подчеркивалось, что образование «должно подготовить девочку к уходу за мужем и семьей и ни в коем случае не служить стимулом к профессиональной карьере».
В 16 лет Оливия упала, катаясь на коньках, и была, как считали окружающие, «частично парализована»: не ходила, сидеть могла только с помощью веревок. Что с ней было – никто не знает. Медицина пребывала тогда в диком, с нашей точки зрения, состоянии, хирургия делала успехи, но диагностика – пещерный век, о неврологии никакого понятия, в вопросах женского здоровья – чудовищные предрассудки. Викторианская этика провозглашала, что девицы есть (и должны быть) существа хилые, болезненные, падающие в обмороки; в результате у каждой второй девушки из «приличной семьи» были анемия, анорексия, неврологические и психические заболевания. Лечили так: лежать месяцами в темной комнате с закрытыми окнами, под присмотром сиделок, ничего не делать, нельзя даже читать или шить, а главное, нельзя общаться с родными, потому что это «нервирует». При отсутствии движения, свежего воздуха и нормального питания удивительно, как кто-то выживал. Оливия так пролежала два года, но выздоровела – крепкая, видимо, была девушка. Перепробовали множество докторов, наконец осенью 1864 года обратились к модному врачу Джеймсу Ньютону, уплатили астрономический гонорар – 1500 долларов. Опыты Ньютона часто кончались скандалами, Твен его называл шарлатаном, но признавал, что Оливию тот вылечил. Сделал он это как Христос с Лазарем: велел встать и пойти, и оказалось, что ходить больная может; рассудил очень здраво, что надо не лежать, а двигаться. К моменту встречи с будущим мужем Оливии было 22 года. Красивая, хрупкая, большеглазая брюнетка, она давно выздоровела, но считалась больной и потенциальной старой девой; была романтична, много читала, любила то, чего Твен не жаловал: Джейн Остин, Теккерея, Готорна.
Чарлз Лэнгдон все уши отцу прожужжал про знаменитость, с которой познакомился, и Джервис пригласил Твена отобедать в отеле «Сент-Николас» в Нью-Йорке 27 декабря, потом последовало приглашение познакомиться с семьей. В первую годовщину встречи Сэм писал Оливии: «Я пережил сильнейшую внутреннюю борьбу в день, когда увидел Вас… я пытался удержаться, чтобы не полюбить Вас всем сердцем. Моим изумленным глазам Вы казались духом, который спустился с небес, чем-то таким, чему следует поклоняться почтительно и на расстоянии». (Оливия нигде не упоминала, какое впечатление произвел на нее новый знакомый.) События развивались стремительно: 31 декабря Твен обедал у Лэнгдонов, в тот же день пошел с ними на выступление Диккенса, гастролировавшего в США («он читал с неподдельным чувством и воодушевлением в сильных местах и производил потрясающее впечатление»), 1 января 1868 года наносил визит знакомой, миссис Берри, вместе с Чарли Лэнгдоном, а там оказалась Оливия с подругой. Из письма матери: «Я зацепился в первом же доме, куда пришел (в Новый год тут полагалось ходить ко всем с визитами), там была сестра Чарли Лэнгдона (красивая девушка) и мисс Хукер (тоже красивая девушка), племянница Генри Уорда Бичера. Мы рано отправили стариков домой, наказав не присылать за нами до полуночи, и тогда я успокоился и вволю поиздевался над этими девушками. Собираюсь несколько дней провести с Лэнгдонами в Эльмире, когда будет время». Он прожил в Нью-Йорке еще неделю: был представлен Генри Бичеру и Гарриет Бичер-Стоу, встретился с Мозесом и Эммой Бич, но в основном торчал у Лэнгдонов. С Оливией разговаривал трижды, но ни матери, ни кому-либо еще о ней больше не писал.
Пришлось возвращаться в Вашингтон. Там – несколько «обеденных» речей, перепалки с сенатором, опубликовал «Факты о моей отставке» и «Человек, который остановился у Гэдсби» («The Man Who Put Up at Gadsby's») – юмореску о вашингтонских бюрократах, впоследствии включенную в книгу «Пешком по Европе». Долго думал над советом Генри Бичера заключить с Блиссом контракт на книгу, 21 января решился и поехал к нему в Хартфорд, интеллигентный город в штате Коннектикут, самом сердце региона Новая Англия. (Блисс вспоминал, что гость был одет ужасно, потрепан, неопрятен; надо думать, он и к Лэнгдонам являлся таким же неряхой.) Договорились: автор получит пять процентов роялти (был вариант с одноразовой выплатой гонорара, Твен по совету журналиста Альберта Ричардсона его отверг и впоследствии говорил, что единственный раз в жизни принял разумное деловое решение). В Хартфорде он провел не больше недели – и приобрел друга на всю оставшуюся жизнь. Он квартировал в доме Блисса, рядом была конгрегационалистская церковь Холма Приюта – пошел послушать проповедь (ходил на всех проповедников как в театр: наслаждаться и учиться) и заслушался.
Джозеф Хопкинс Туичелл, тремя годами моложе Твена, сын священника-конгрегационалиста, окончил Йельский университет и Объединенную теологическую семинарию, в Гражданскую служил капелланом. Попал под влияние известного теолога-либерала Хорэса Бушнелла, восставшего против кальвинистского предопределения, и перенял у него необычные идеи: духовная истина может быть выражена только средствами поэзии, Бог познается через интуицию, а значит, все догматическое богословие – ерунда. Однако он окончил еще одну семинарию, Эндоверскую, прежде чем в 1865 году стал пастором в только что построенной церкви Холма Приюта (будет занимать эту должность 45 лет). Церковь была в высшей степени либеральной, но, расположенная в престижном районе, посещалась в основном обеспеченными людьми и интеллигенцией, и Твен окрестил ее «Церковью Святых Спекулянтов». Но молодой проповедник был хорош. Не порывая формально с кальвинизмом, он упирал на милосердие Божие и оставлял надежду всем; красавец, спортсмен, весельчак, поэт, говорил образно, шутил остроумно и мягко. Жена Блисса представила ему Твена, они сразу ощутили взаимную симпатию. Туичелл, «один из лучших людей на свете», был чрезвычайно веротерпим: протестантский пастор, он принимал участие в благотворительной деятельности католических миссий и ходил на лекции по эволюционной теории. Это было для тогдашнего Твена даже чересчур смело.
Твен был приглашен на обед к Туичеллу и его жене Джулии Хармони: они поженились два года назад, по любви, в доме царила атмосфера счастья и уюта. Джулия спросила гостя, почему он не женится. Из воспоминаний Туичелла: «Марк не отвечал, но, опустив глаза, казалось, глубоко задумался. Потом поднял глаза и голосом, дрожавшим от серьезности (что вызывало невероятную симпатию и доверие к его словам), произнес: «Я все время об этом думаю. Я люблю самую прекрасную девушку в мире. Я не думаю, что она пойдет за меня. Я в это не верю. Это не для нее. Но все равно, если она этого не сделает, я буду убежден, что лучшее в моей жизни – это любовь к ней, и буду горд тем, что хотя бы пытался ее добиться»».
В феврале он расстался с сенатором Стюартом, к обоюдному облегчению. Ему предлагали чиновничьи должности в сенате – в молодых государствах толковые люди ценятся на вес золота – он все их отклонил, писал Ориону, что Вашингтон ему осточертел. Джон Росс Браун, знакомый журналист, собирался с дипломатической миссией в Китай, звал с собой, но теперь существовала Оливия, и уезжать далеко от нее Сэм не хотел. В марте он узнал, что с будущей книгой проблемы: «Алта» заявила, что владеет авторскими правами на письма с «Квакер-Сити», переписка ничего не решила. Надо ехать в Сан-Франциско, а заодно там можно заработать денег выступлениями.
Взял у Блисса аванс, отправился морем через Никарагуанский перешеек, опять повстречался с капитаном Уэйкменом. Именно тогда была рассказана знаменитая история о том, как капитан побывал в раю. Твен начал писать ее сразу по прибытии в Калифорнию: он нарек героя Стормфилдом и, кроме рассказа Уэйкмена, использовал книгу Элизабет Фелпс «Приоткрытые Врата», где излагались нетрадиционные представления о рае: если человек не сумел проявить свои таланты на этом свете, его оценят на том. Книжка была по-женски сентиментальной, у Твена получалась пародия, а он хотел чего-то другого и оставил начатую историю. Он будет работать над ней еще сорок лет.
Разногласия с «Алтой» он утряс, обещав и впредь писать для газеты, но задержался на Западе на три месяца: с 22 апреля по 2 июля гастролировал в Калифорнии и Неваде, докладывал Блиссу, что залы полны и он уже к 1 мая «загреб» 1600 долларов. Составлял книгу, получившую в конечном итоге название «Простаки за границей» («Innocents Abroad»), казалось, что все просто, материал давно готов, но у него еще не было опыта работы над большими книгами, дело шло тяжело, часть очерков выбросил, оставшиеся переделал, добавил массу старинных легенд и библейских историй. «Я работал каждую ночь с одиннадцати или двенадцати до самого утра, и раз за шестьдесят дней я написал двести тысяч слов, то на одну ночь приходится по три тысячи слов. Конечно, это ничто для сэра Вальтера Скотта или Стивенсона или многих других людей, но для меня это не так уж мало».








