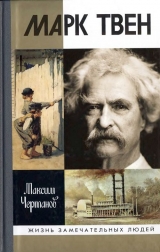
Текст книги "Марк Твен"
Автор книги: Максим Чертанов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 39 страниц)
Активность возобновилась, но тоска не ослабевала. Из записных книжек того периода: «Мы все так или иначе безумны… Самоубийцы, кажется, единственные нормальные люди». «Как видите, молния отказывается поразить меня, – писал Твен Роджерсу 6 июля, – надо бы самому, как Барри Бернато. (Британский бизнесмен, в 1897 году погиб, предположительно совершив самоубийство. – М. Ч.) Но ни у кого на это не хватает духу, пока он не сойдет с ума». А через две недели, когда Клеменсы приехали в Швейцарию, Туичеллу: «Отправившись в очередную поездку на люцернском пароходе за покупками, Ливи сделала чудеснейшее открытие – Джорджа Уильямсона Смита (американский священник. – М. Ч.)я писал Вам об этом? Мы провели с ним несколько замечательных часов, и должен сказать, что такой духовной пищи нам не приходилось пробовать уже много месяцев. <…> Здесь настоящий рай, но, разумеется, нам скоро придется с ним расстаться. 18 августа пришло и прошло, Джо, – а мы, кажется, продолжаем жить». А потом – снова: «Мудры лишь две разновидности людей: те, кто кончает с собой, и те, кто одурманивает себя пьянством».
Из Люцерна перебрались в деревушку Веггис, там Твен писал «Заговор Тома Сойера» и несколько других вещей (ни одну не закончил). Среди них «Сельские жители» («Villagers of 1840–3») – рассказ о детских годах в Ганнибале, а также истории с переодеваниями: «Гочкис Адский Огонь» («Hellfire Hotchkiss») – о девочке, которая воспитывалась мальчишкой и ведет себя как мужчина, вызывая неодобрение соседей, и «Ломака Элис» («Wapping Alice») – об инциденте 1877 года, когда горничную Клеменсов выдавали замуж за ее любовника: в рассказе горничная после свадьбы оказывается переодетым мужчиной, и эта развязка, как писал Твен, предлагая текст «Космополитену», не так шокирует читателей, как если бы они узнали, что горничные имеют любовников. Редакция была иного мнения, и рассказ оставался неопубликованным почти 100 лет. Схожая коллизия в рассказе 1902 года «Как поженились Нэнси Джексон и Кейт Уилсон» («How Nancy Jackson Married Kate Wilson»): девушка, вовлеченная в преступление, чтобы спастись, выдает себя за мужчину и соглашается сыграть свадьбу с другой девушкой, выручая и ее из неприятностей, – его тоже не напечатали. У Твена есть целый ряд подобных сюжетов: Гек Финн переодевался девочкой, Жанна д'Арк – юношей, женщины с мужчинами меняются платьями и ролями в «Средневековом романе» и «1002-й арабской ночи», в «Простофиле Вильсоне» Роксана по характеру – мужчина, а ее сын – баба, то же самое еще в одном не публиковавшемся при жизни автора рассказе – «Джон Браун и Мэри Тейлор» («John Brown and Mary Taylor»). Современные изыскатели характеризуют тему этих рассказов как транссексуальность – да, пожалуй, но в социальном смысле, а не в медицинском. Сексуальности здесь столько же, сколько во всех текстах Твена, включая «непристойные», то есть абсолютный ноль – он просто следовал старой как мир карнавально-водевильной традиции.
Рождались в тот период тексты и совсем в ином духе: в «Письмах Сатане» («Letters to Satan») Твен приглашал адресата в кругосветное путешествие: «Друзей у Вас обнаружится куда больше, чем можно было бы предполагать» (например, Сесил Роде); в «Ссоре в кошельке» («The Quarrel in the Strong-Box») рассказывал, как монеты разных стран выясняли, кто из них главнее. Писал про смешное, вроде бы отогнал боль, но она возвращалась; Джин принимала бром, приступов не было, думали, все прошло, и вдруг – опять. Фрагмент «В глубине души» («In My Bitterness»): «Он [Бог] дает вам жену и детей, которых вы обожаете, лишь для того, чтобы ввергнуть их в пучину страданий и тем самым вырвать сердце из вашей груди и швырнуть его вам в лицо».
В конце сентября переехали в Вену, чтобы Клара брала уроки фортепьяно у знаменитого педагога Теодора Лешетицкого. Впервые за несколько лет денег не экономили, сменили несколько отелей, выбрали «Метрополь» с видом на Дунай. Первые дни Твен лежал с приступом подагры, как вышел – столкнулся с толпой репортеров, дежуривших у отеля. (Первое интервью дал журналисту Эдуарду Пецлю – тот стал его гидом.) Книги и портреты Твена красовались в витринах; венские газеты сообщали, что никогда ни один иностранец не удостаивался такого приема: «Балы и обеды с утра до полуночи. Дома всех аристократов открыты для него, герцоги и графы его чествуют, публика ловит каждое слово, сопровождая его взрывами смеха». Даже правила дорожного движения ради него нарушались. (Это вам не какая-нибудь Франция.) Вдобавок он оказался единственным американским журналистом в Вене и называл себя «самозваным послом США без оклада». В апартаментах «Метрополя» – толпы гостей: светские дамы – баронесса Берта Кински фон Зуттнер, будущий лауреат Нобелевской премии; венгерская графиня Миза Виденбрук-Эстерхази; Шарлотта, сестра императора Вильгельма; многочисленные художники, включая Верещагина; Фрейди; изобретатель Ян Щепаник; через Лешетицкого познакомились со Штраусом. Твена избрали почетным членом клуба «Конкордия», который посещали дипломаты и государственные чиновники. Газеты продолжали докладывать: куда гость пошел, что сказал и что ел на завтрак; Карл Краус, издатель журнала «Факел», ежедневно помещал карикатуры на него с подписями: «Присутствовал и блистал Марк Твен. Где? Да везде, там и сям».
В ноябре «Америкен паблишинг компани» выпустила «По экватору» тиражом 40 тысяч экземпляров, распродали моментально. Твен давно умолял Роджерса начать выплаты кредиторам, тот отвечал «перебьются», теперь стал понемногу платить. Твен говорил, что впервые в жизни ему приятнее отдавать деньги, чем получать. Орион слал письма с поздравлениями, строил планы, но 11 декабря в возрасте 72 лет умер. В последний раз братья виделись предположительно в Чикаго в 1893 году. Возможно, младший брат и горевал, но это не зафиксировано, зато известно, что он очень переживал из-за смерти бывшего дворецкого Джорджа. Оливия страдала от ревматизма, но начала оживать. Туичеллу: «Мы не можем заставить ее выходить, но множество превосходных людей приходят, чтобы увидеть ее; мы с Кларой ходим по званым обедам и чудесно проводим время, Джин вырезает по дереву». Осенью был сделан ряд автобиографических записей: глава о предках, «Красоты немецкого языка», эссе «Группа слуг», воспоминания о разных знакомых. И задумывалась большая работа – о Сатане, сошедшем на землю.
Идея не нова, но Твен ни у кого ее не заимствовал – Сатана интересовал его с тех пор, как Джейн Клеменс пожалела «врага рода человеческого». Из записных книжек: «В течение столетий Сатана занимает видное положение духовного главы четырех пятых людского рода и политического главы всего человечества; так что нельзя отказать ему в первоклассных организационных способностях. Рядом с ним все наши политики и папы римские – просто козявки…» В октябре Твен сделал безымянный набросок: юный Сатана в Санкт-Петербурге встречается с Томом и Геком; потом – другой: «Беседы с Сатаной» («Conversations with Satan»), где рассказчика посещает дьявол, одетый как англиканский епископ: «Он был моим другом и одним из самых горячих моих поклонников. Это сомнительный комплимент, но он высказал это так добросердечно, что я не мог скрыть удовлетворения и гордости». Рассказчик спрашивает, бывал ли Сатана в Америке, и тот отвечает, что в этом нет надобности. Но рука Сатаны чувствовалась и в Вене. Вальсы, пирожные, цвет европейской интеллигенции – рай. На самом деле все было не так благостно.
В XVI веке, после Реформации, Австрия была протестантской, династия Габсбургов вернула ее к католицизму и начала формировать многонациональную империю, захватив территории современных Венгрии, Чехии, Хорватии, Словении, Словакии, Италии, Нидерландов, Польши, Украины. В 1860-х годах империя в ходе неудачных войн потеряла часть земель и статус великой державы, в 1867-м превратилась в Австро-Венгрию с автономией Венгрии, а затем – Галиции и Чехии. Традиционно язык и культура были немецкими (на этом основании Гитлер осуществит «аншлюс», захват Австрии), но Вена была самым интернациональным городом Европы: газеты выпускались на десяти языках. Проводились либеральные реформы, но рост промышленности парадоксальным образом свел их на нет: крестьяне мигрировали в Вену, появилась безработица, выросла преступность, правительство не справлялось, и стали востребованы «новые политики» – те, которые проповедовали «пангерманизм» и объясняли, что во всем виноваты проклятые иностранцы и в первую голову, естественно, евреи, каковых в Вене было много: антисемитская пресса обвиняла их одновременно в пропаганде коммунизма и насаждении капитализма.
Твен всегда любил немцев, если и не держал их сторону во Франко-прусской войне, то и не осуждал, но теперь в корреспонденциях, отсылаемых на родину, отзывался о политической ситуации с неодобрением: империя сворачивает реформы, богачи благодаря имущественному цензу заправляют в парламенте, католические священники держат граждан в повиновении, печать подвергается цензуре, митинги жестоко разгоняются, на этом фоне «измученное, отчаявшееся правительство сходит с ума». Посещал сессии парламента («это – Бедлам или Арканзасское законодательное собрание в 1847 году»), в конце ноября стал свидетелем скандала. Министр-президент Казимир, граф Бадени, декретом объявил чешский язык государственным наравне с немецким. Это вызвало возмущение, по городу маршировала молодежь с портретами Бисмарка. В статье «Горячие времена в Австрии» («Stirring Times in Austria») Твен описал реакцию депутатов: «Вопли слева, ответные вопли справа, взрывы воплей со всех сторон»; беспорядки перекинулись на улицу, правительство вызвало солдат, и в конце концов император распустил парламент. «Это был отвратительный спектакль – отвратительный и ужасный. На миг показалось, что это сон, кошмар. Но это было реальностью – низкой, позорной, ужасной».
Самой влиятельной партией националистического толка была христианско-социалистическая; через три дня после парламентского кризиса ее лидер Карл Люгер стал мэром Вены. Он был избран еще в 1895 году, но император отказывался утвердить его в должности. Теперь он развернулся: «Только жирные евреи могут пережить убийственную капиталистическую конкуренцию. Христиан необходимо от этого защитить». Твен говорил, что ему противна вся «проклятая вонючая человеческая раса», но некоторые особи все же были противнее других – с этого Люгера, набожного христианина, в ноябре и началась книга о Сатане.
Действие романа «Хроники молодого Сатаны» («The Chronicle of Young Satan») [36]36
В русском переводе А. Старцева (1980) книга называется «Таинственный незнакомец». Более ранние переводы не соответствуют подлиннику
[Закрыть]происходит в начале XVIII века. Построен он по образцу «Жанны»: пожилой рассказчик Теодор Фишер вспоминает, как в детстве общался с необыкновенным существом. В местечке Эзельдорф («Ослиная деревня») два католических священника: строгий отец Адольф (Люгер в черновиках) и добрый отец Питер. Адольф «был рьяным, ревностным и громогласным священнослужителем, и к тому же старался быть у начальства на хорошем счету, потому что метил в епископы. Всегда он шпионил, все знал и о своих и о чужих прихожанах, был распущен, недобр и большой сквернослов; но вообще, как полагали у нас в Эзельдорфе, не так уж плох». «Про отца Питера шел слух, будто он кому-то сказал, что Бог добр и милостив и когда-нибудь сжалится над своими детьми. Подобные речи, конечно, ужасны, но ведь не было твердого доказательства, что он такое сказал». Отец Питер лишен сана и погибает в нищете; тем временем откуда-то появляется мальчик Филип Траум и очаровывает всю деревню: дети ходят за ним хвостом. Он жизнерадостен и ребячлив, как Том Сойер, показывает чудные фокусы, создавая зверей и людей. Филип всемогущ: ведь он не человек, а ангел и к тому же родной племянник Сатаны. «Неужели вы не знаете? Ведь он тоже был раньше ангелом.
– Правда! – сказал Сеппи. – Я не подумал об этом.
– До падения ему было чуждо всякое зло.
– Да, – сказал Николаус, – он был безгрешным.
– Мы из знатного рода, – сказал Сатана, – благороднее семейства не отыскать. Он единственный, кто согрешил. <…> Мы не творим зла и чужды всему злому, потому что не ведаем зла».
Эту мысль Твен уже высказал в «Низшем животном»: знание «добра» и «зла», то есть «нравственное чувство», делает человека злодеем. «Когда зверь причиняет кому-либо боль, он делает это без умысла, он не творит зла, зло для него не существует. Он никогда не причинит никому боли, чтобы получить от этого удовольствие; так поступает только один человек. Человек поступает так, вдохновленный все тем же ублюдочным Нравственным Чувством. При помощи этого чувства он отличает хорошее от дурного, а затем решает, как ему поступить. Каков же его выбор? В девяти случаях из десяти он предпочитает поступить дурно».
Одновременно автор развил тезис о человеке как автомате, чья жизнь «предопределена обстоятельствами и средой. Первый поступок влечет за собой второй и так далее. <…> Конечно, практически человеку не дано уйти от поступка, который ему предназначен; этого никогда не бывает. Когда человеку кажется, будто он принимает решение, как ему поступить, так ли, иначе, то колебания эти входят звеном в ту же цепь, и они обусловлены. Человек не может порвать свою цепь. Это исключено. Скажу тебе больше, – если он и задастся подобным намерением, то и оно будет звеном той же цепи; знай, что оно с неизбежностью зародилось у него в определенный момент, относящийся еще к его раннему детству». Вообще-то если человек полностью предопределен средой, то у него нет свободы воли, зло он не «выбирает», оно навязано ему свыше, а стало быть, и злосчастное Нравственное Чувство тут ни при чем. Но писатели, философствуя, редко отличаются логичностью и последовательностью.
Мильтон, Байрон, Шелли, Франс изображали Сатану тираноборцем, защитником человечества, носителем гуманности. (Он лучше Бога, как «плохой мальчик» Том лучше «хорошего мальчика» Сида.) Но твеновский Сатана не таков. Ангелы, как и животные, не ведают добра и зла, и маленький Сатана не добр и не зол к людям, а равнодушен: «Всякий раз, как он заговаривал о жизни людей на земле и об их поступках, даже самых великих и удивительных, мы испытывали словно неловкость, потому что по всему его тону было заметно, что он считает все, что касается рода людского, не заслуживающим никакого внимания. Можно было подумать, что речь идет просто о мухах. Один раз он сказал, что, хотя люди тупые, пошлые, невежественные, самонадеянные, больные, хилые и вообще ничтожные, убогие и никому не нужные существа, он все же испытывает к ним некоторый интерес. Он говорил без гнева, как о чем-то само собой разумеющемся, как если бы речь шла о навозе, о кирпичах, о чем-то неодушевленном и совсем несущественном».
Что-то вроде симпатии к отдельным людям Филип Траум может испытывать; в их судьбы он вмешивается своеобразным способом, даруя смерть тем, кому предназначалась жизнь в страданиях. Отцу Питеру он подбросил деньги, тот расплатился с долгами, а подлый Адольф обвинил его в воровстве и отправил в тюрьму. Сатана наказал Адольфа: свел с ума и забросил на Луну – вечно мучиться. Питера суд оправдал, но Сатана сказал ему, что его осудили, и бедный старик тоже сошел с ума. Теодор Фишер возмутился, а Сатана разъяснил: он наградил Питера таким сумасшествием, при котором тот чувствует себя счастливым, а это лучше, чем любой иной исход. «Неужели ты так и не понял, что, только лишившись рассудка, человек может быть счастлив? Пока разум не покинет его, он видит жизнь такой, как она есть, и понимает, насколько она ужасна».
Жители Ослиной деревни беспрестанно ищут ведьм (Теодор, которому Сатана объяснил, что любая женщина может быть казнена безвинно, предположил, что злы лишь католики, – но приятель показал ему сцены преследования «ведьм» в протестантской Шотландии), нашли одну. «Ее гоняли по деревне около получаса, мы тоже бежали с толпой, чтобы посмотреть, чем это кончится. Наконец она ослабела и повалилась на землю, ее схватили, подтащили к ближнему дереву, привязали к суку веревку и надели ей петлю на шею. Женщина рыдала и молила пощады у своих мучителей. Ее юная дочь стояла возле нее, заливаясь слезами, но боялась вымолвить даже слово в защиту матери. Они повесили эту женщину, и я бросил в нее камнем, хотя в глубине души и жалел ее. Все бросали в нее камнями, и каждый следил за соседом. Если бы я не поступил, как другие, кто-нибудь на меня непременно донес бы», – признался Теодор.
Мужчин, которые больше других издевались над трупом, Сатана убил – но, по его словам, не из мести и не из жалости к казненной, а просто потому, что «такова их судьба»; Теодору, мучащемуся угрызениями совести, он разъяснил, что человек не жесток, а лишь труслив: «Если хочешь знать, из шестидесяти восьми человек, которые там стояли, шестидесяти двум так же не хотелось бросать в эту женщину камнем, как и тебе. <…> Я хорошо изучил людей. Они – овечьей породы. Они всегда готовы уступить меньшинству. Лишь в самых редких, в редчайших случаях большинству удается изъявить свою волю. Обычно же большинство приносит в жертву и чувства свои, и убеждения, чтобы угодить горлодерам. <…> Люди – дикие или цивилизованные, все равно – добры по своей натуре и не хотят причинять боль другим, но в присутствии агрессивного и безжалостного меньшинства они не смеют в этом признаться».
Траум волшебным образом – как в кино – показал Теодору исторические события: убийство Авеля, войны, резню, инквизицию, пытки. Твен повторил мысль, высказанную в романе «По экватору»: прогресса не существует, история развивается по кругу (это утверждали еще Платон и Аристотель, а потом – Шпенглер; но в Америке XIX века такая идея была крайне непопулярна). «За последние пять или шесть тысяч лет родились, расцвели и получили признание не менее чем пять или шесть цивилизаций. Они отцвели, сошли со сцены, исчезли, но ни одна так и не сумела найти достойный своего величия, простой и толковый способ убивать человека. <…> Каждый раз человечество возвращается к той же исходной точке. Уже целый миллион лет вы уныло размножаетесь и столь же уныло истребляете один другого. К чему? Ни один мудрец не ответит на мой вопрос. Кто извлекает для себя пользу из всего этого? Только лишь горстка знати и ничтожных самозваных монархов, которые пренебрегают вами и сочтут себя оскверненными, если вы прикоснетесь к ним, и захлопнут дверь у вас перед носом, если вы постучитесь к ним. На них вы трудитесь, как рабы, за них вы сражаетесь и умираете (и гордитесь этим к тому же, вместо того чтобы почитать себя опозоренными). <…> Вы не устаете кланяться им, хотя в глубине души – если у вас еще сохранилась душа – презираете себя за это».
Но пока что Твен оставлял человечеству шансы. В овечьей психологии толпы есть плюс: она пойдет как за злым пастырем, так и за добрым: «Однажды поднимется горстка людей, которая сумеет перекричать остальных, может быть, это будет даже один человек, храбрец со здоровой глоткой и твердой решимостью, – и не пройдет недели, как овцы все повернут за ним и вековой охоте на ведьм наступит конец». Другой выход – его потом предложат Уэллс, Набоков, Умберто Эко и еще многие писатели: «Ибо при всей нищете люди владеют одним бесспорно могучим оружием. Это – смех. Сила, доводы, деньги, упорство, мольбы – все это может оказаться небесполезным в борьбе с управляющей вами гигантской ложью. На протяжении столетий вам, быть может, удастся чуть-чуть расшатать, чуть-чуть ослабить ее. Но подорвать ее до самых корней, разнести ее в прах вы сможете только при помощи смеха. Перед смехом ничто не устоит». (То ли писатели ошибались, то ли, чтобы у человечества созрело чувство юмора, нужно очень много времени.)
Уильям Джеймс считал, что в спектре сознаний существует сознание высшее, трансцендентное, в котором «все предстает перед нами как одно – единое, целостное видение всеобщности, – вселенная и мы сами кажутся нам сплетенными между собой бесшовной паутиной». Что-то подобное описал и Твен – ранее он допускал в человеке две личности, одинаково ограниченные и несчастные, теперь признал третий, высший, вид сознания – правда, свойствен он лишь ангелам. Сатана: «Мой разум творит мгновенно, творит все, что ни пожелает, творит из ничего. Творит твердое тело, жидкость или же цвет – любое, что мне захочется, все, что я пожелаю, – из пустоты, из того, что зовется движением мысли. Человек находит шелковое волокно, изобретает машину, прядущую нить, задумывает рисунок, трудится в течение многих недель, вышивая его шелковой нитью на ткани. Мне довольно представить себе это сразу, и вот гобелен предо мной, я сотворил его. <…> Мой разум – это разум бессмертного существа, для которого нет преград. Мой взор проникает всюду, я вижу во тьме, скала для меня прозрачна. Мне не нужно перелистывать книгу, я постигаю заключенное в ней содержание одним только взглядом, сквозь переплет; через миллионы лет я все еще буду помнить его наизусть и знать, что на какой странице написано. Я вижу, что думает человек, птица, рыба, букашка; в природе нет ничего скрытого от меня». Этим видом сознания обладают еще и писатели – лучшие из них. Но Твен так не считал.
Теодор и Филип в воображении путешествуют – на сем текст обрывается. При жизни автора он не публиковался. В 1916 году литературный душеприказчик Твена Альберт Пейн и редактор Фредерик Дьюнека его переделали по собственному усмотрению и издали под названием «Таинственный незнакомец» («The Mysterious Stranger, A Romance») [37]37
На русский язык до 1980 года переводилась редакция Пейна.
[Закрыть]. Они заменили Адольфа на другого персонажа, «астролога» (заимствованного из другой повести Твена на ту же тему), ибо священник не может быть отрицательным героем; выкинули все, что Сатана говорил об англо-бурском конфликте, деятельности миссионеров в Китае, преследовании ведьм в США; убрали упоминания о католичестве (Дьюнека был католиком) и протестантизме (Пейн был протестантом); перенесли действие на 150 лет назад, прилепили в качестве заключения главу из другого романа и при этом клялись, что подарили миру авторский вариант. Лишь в 1960 году редактор Уильям Гибсон выпустил подлинную версию романа «Хроники молодого Сатаны».
Хоуэлсу, 22 января 1898 года: «Посмотрите на эту страшную дату. А ведь когда-то я писал: «Хартфорд, 1871». Тогда не было Сюзи – и теперь нет Сюзи. А сколько радости лежит между этими датами: прелестная долина душистых лугов и полей, тенистых рощ, а потом вдруг – Сахара! Вы писали о радостях этих былых дней – да, они были полны радости. Против этого я и восстаю – против того, что человеку расставляют такие ловушки. Сюзи и Уинни (покойная дочь Хоуэлса. – М. Ч.) были даны нам ради жестокой забавы, чтобы потом их отнять. Когда мы виделись в последний раз, я рассказал Вам завершающую трагедию книги, которую я тогда собирался написать (и я напишу ее, когда это горе отодвинется еще дальше в прошлое), – как человеку приносят труп его дочери, когда он уже испытал все остальные возможные несчастья, – и добавил, что по-настоящему написать такую сцену сможет только тот, кто пережил что-нибудь подобное, что это должно быть написано кровью сердца. Тогда я не знал, что уже очень скоро буду отвечать этому условию. Последнее время я часто вспоминаю об этом. Если бы Вы были здесь, мы, наверное, обнялись бы и заплакали, как в Вашем сне».
У Джин участились приступы, венский врач увеличивал дозу бромида, лучше ей не становилось. Болезнь была не просто тяжелой – но и позорной, припадки надо было скрывать. Эпилептиков окружали враждебность и презрение. (В 1903 году конгресс США принял закон об иммиграции, включив их в перечень нежелательных лиц наряду с сумасшедшими, нищими и анархистами.) Больные считались дегенератами, хитрыми, злобными, аморальными, склонными к преступлениям. Отец с ужасом отмечал, что девочка стала «апатичной, угрюмой, агрессивной». Это было следствием «лечения» и того, что больной внушалось чувство неполноценности, но родители думали, что это – болезнь. Семья круглосуточно жила в напряженном ожидании чего-то ужасного. «Это было так, как если бы вы наблюдали за домом, который всегда готов загореться, и, стоит потерять бдительность хоть на час, он сгорит дотла».
«Я не выдержал бы, если бы не работа. Я зарываюсь в нее по уши. И работаю долго – иногда по восемь-девять часов не вставая. И так каждый день, включая воскресенье. Отнюдь не все предназначается для печати – многое меня совершенно не удовлетворяет; 50 000 слов за прошлый год. Это из-за ощущения мертвенности, которое владеет мной со времени смерти Сюзи. Но недавно я занялся новым для меня делом – драматургией, – и оно меня совсем захватило. Боже мой, я даже не подозревал, что это такое интересное занятие. Я напишу двадцать пьес, которые нельзя будет играть! Едва только я по-настоящему втягиваюсь в работу, как прихожу в превосходнейшее расположение духа».
Он писал Хоуэлсу, что не смеет пока объявить о своей платежеспособности – это прерогатива Роджерса. Но через несколько дней Роджерс телеграфировал, что все улажено: хотя на 11 февраля 1898 года остались неуплаченными 21 тысяча банку и 11 тысяч еще одному кредитору, все долги, судя по доходам, в течение года будут погашены. Так и вышло. Роджерс думал, что другу понадобится на выплату 80-тысячного долга пять – семь лет, а тот заработал 160 тысяч менее чем за три года. С 1899-го он каждый год зарабатывал не менее 200 тысяч (умножайте на 20) и за пару лет вернул все богатство, которое растерял. Все, кроме… «Без нее все опустело. Она была вместилищем чувств разнообразнейших степеней и оттенков; она была переменчива, как малое дитя, иногда на протяжении одного дня проживая все многообразие чувств… Радость, горе, гнев, раскаяние, шторм, свет, ливень, тьма – все это было в ней, сменяясь каждое мгновение. Во всем она была на пределе: она излучала не ровное тепло, а жаркое пламя».








