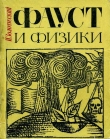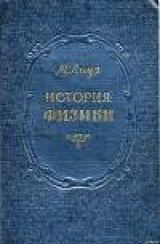
Текст книги "ИСТОРИЯ ФИЗИКИ"
Автор книги: Макс Лауэ
Жанр:
Физика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
Если мы завтра соберемся в Физическом институте теперешнего университета, то мы окажемся на историческом месте. В этом доме в конце 1895 г. Вильгельм Конрад Рентген открыл лучи, названные по его имени. Излишним и даже неуместным было бы говорить об их значении для физики и всех других областей их применения. Но мы хотим все же вспомнить о величии открытия Рентгена, который впервые осознанно осветил то, мимо чего равнодушно проходили другие. Ведь мы знаем из биографии Рентгена, написанной Глассе-ром, что уже в 1890 г. по ту сторону океана было получено правильное фотографическое рентгеновское изображение, которое, однако, было понято лишь после статей Рентгена.
Затем мы вспомним на этом месте последователя Рентгена – Вилли Вина, который 17 лет в этом доме учил и производил исследования. Его классические теоретические работы о световом излучении, которые в форме закона смещения Вина стали неотъемлемой составной частью нашей науки, восходят к ранним годам, когда он, будучи начинающим физиком, работал еще в Физико-техническом государственном институте под руководством Гельмгольца. Только здесь он мог в течение многих лет вместе с многочисленными учениками и друзьями отдаваться спокойному и такому плодотворному экспериментальному исследованию. То,
что было здесь достигнуто в познании природы кана-ловых лучей, образует немалую часть содержания известных учебников по этому предмету, появившихся в последнее время. Я хочу здесь особенно выделить две основополагающие работы Вина, произведенные в то время: первое квантово-теоретическое определение частоты рентгеновских лучей, которое дало приблизительное, но по существу правильное значение; затем экспериментальное подтверждение относительности электромагнитного поля, как этого требует теория относительности. Спектральное исследование движущихся частичек каналовых лучей обнаруживает в магнитном поле эффект Штарка, который нам был известен в электрическом поле только в случае покоящихся источников света.
Но и совсем иные вещи пережил этот же самый дом. Во время мировой войны Вин превратил свой институт (а при содействии Макса Седдига также и соседний химический институт) в предприятие для исследования аппаратов, необходимых для современной техники связи, прежде всего для устройства усилителей. Войсковые средства связи, которые мы в 1914 г. устанавливали на поле, не были на высоком уровне, и противники нас в этом далеко опередели. То, что в течение четырех лет это положение медленно, но очень существенно выправлялось, является в значительной мере заслугой работавших в этом доме физиков.
22 июня этого года физика может праздновать памятный день особого рода. В этот день исполнится 300 лет с тех пор, как кончился процесс Галилея перед инквизицией. Поводом к этому процессу, как известно, послужило учение Коперника о движении Земли и других планет вокруг Солнца – учение, которое тогда настолько противоречило общепринятым воззрениям, что производило сенсацию и вызывало постоянное возбуждение, подобно тому, как в нашем столетии это имело место в отношении теории относительности. Галилей был не только единственным, но и творческим защитником этой теории, так как он смог укрепить ее
благодаря своим замечательным открытиям спутников Юпитера, фаз Венеры и собственного вращения Солнца. Процесс закончился осуждением. Галилей должен был отречься от учения Коперника и был осужден на пожизненное заключение. Правда, ограничение его свободы постепенно смягчали; ему был указан дом для жилья, который он не имел права оставить и в котором он не имел права никого принимать без разрешения. Фактически его главное сочинение «Рассуждения о двух новых учениях в механике» появилось тогда, когда он был под арестом. До конца своей жизни он оставался заключенным.
Об этом осуждении Галилея сложилась известная легенда. В то время, как Галилей присягал и подписывал опровержение учения о движении, он сказал: «А все-таки она движется!». Эта легенда, исторически недоказуемая и в сущности не имеющая внутренней вероятности, однако, неискоренима в народной молве. На чем покоится ее жизненная сила? На том, что Галилей в течение всего процесса должен был задавать себе вопрос: «Что все это должно означать? Ведь в фактах ничего не изменяется от того, что я или какой-нибудь другой человек что-либо утверждает или опровергает, от того, согласны с этим или против этого политические и церковные силы. Как бы познание этих фактов ни задерживалось какой-либо силой, все равно оно когда-нибудь пробьет себе дорогу». И так действительно произошло. Невозможно было задержать победное шествие учения Коперника. Даже церковь, которая осудила Галилея, должна была в конце концов снять сопротивление в любой форме, хотя это произошло лишь через 200 лет.
В последующем иногда еще были плохие времена для науки, например в Пруссии под владычеством Фридриха Вильгельма первого. Но при всяком гнете защитники науки умели подняться до победоносной уверенности, которая выражается в простом предложении: «А все-таки она движется!».
Некролог в кратких чертах характеризует значение Фрица Габера.
9 декабря 1928 г., в день 60-летия Фрица Габера, перед Институтом физической химии и электрохимии имени имп. Вильгельма в Далеме, его институтом, собралась маленькая группа друзей и сотрудников и посадила липу в честь Габера; сам он в это время жил на юге. Это было своеобразное празднование его дня рождения. Подобно другим научным журналам, Naturwissenschaften выпустил юбилейный номер, составленный из материалов, принадлежавших перу наилучших знатоков различных областей деятельности Габера. Эти материалы дают наглядное представление о том, что потеряли в лице Габера химия и физика, хозяйство и техника, военная и мирная. Читатель найдет там указание также на то, что научные труды образуют только одну сторону величия Габера. Может быть, еще более великой была его деятельность в качестве директора института. Он всегда давал полную возможность своим сотрудникам развернуть их способности и в то же время задавал основной тон всей деятельности института. Его деятельность к 60-му году рождения была очень активной. Темы и планы его собственных исследований последних лет были связаны с процессами горения, с явлениями взрыва и влиянием атомов и радикалов на эти явления, с аутотоксикацией и редукцией в растворах, особенно при биологических процессах. Из других работ его института мы отметим выделение пара– и ортоводорода, произведенное Понгефе-ром и Гартеком, а также применение их к исследованию сложных химических процессов и магнитных свойств вещества. До тех пор, пока Габер стоял во главе института, этот институт являлся известнейшим местом напряженного исследования природы.
2 мая 1933 г. Габер, прощаясь, последний раз посетил институт.
Фемистокл вошел в историю не как поджигатель дворца персидского царя, а как победитель Саламея. Габер вошел в историю как гениальный изобретатель
способа соединения азота с водородом, который лежит в основе технического получения азота из атмосферы, как человек, который создал «важнейшее средство для поднятия хозяйства и благосостояния человечества», получил «хлеб из воздуха» и тем самым достиг огромного успеха «на службе своей родине и всему человечеству», как было сказано при вручении ему Нобелевской премии.
Что же остается для тех, которые его знали и его оплакивают? Воспоминания… «Его друзья и его сотрудники знают богатство его сердца, его верность, его рыцарство и нежность, его возмущение нечестностью и безнравственностью и веселое спокойствие в отношении мелочей. Он никогда не уставал руководить молодежью и всегда стремился подать надежды и указать новые пути. Он не понимал узости и нетерпимости; он ценил достижения других стран и умов, но любовь его была отдана немецкой стране; как никто другой, он стремился помочь этой стране в тяжелейшее время, защитить и накормить ее детей».
Так писала Маргарита Врангель в 1928 г.; таким Габер остался у нас в памяти. Потому что он был нашим.
И. В. КУЗНЕЦОВ О КНИГЕ МАКСА ЛАУЭ «ИСТОРИЯ ФИЗИКИ»
Профессор Геттингенского университета Макс Лауэ – один из старейших современных физиков, на глазах и при участии которых в начале XX века совершалась та революция в естествознании вообще и в физической науке в частности, о которой писал В. И. Ленин в своей знаменитой книге «Материализм и эмпириокритицизм». Открытие электрона, радиоактивности, рентгеновских лучей, квантов энергии, распространение законов термодинамики на электромагнитное излучение, создание специальной теории относительности и неизбежная ломка старых понятий науки, а также возникновение новых теоретических представлений – вот что составляло главное в этой революции.
Научное творчество Макса Лауэ связано существенным образом с некоторыми из указанных проблем, решение которых обусловило коренную перестройку науки.
Когда были открыты рентгеновские лучи с их удивительными свойствами, поразившими воображение всех современников этого открытия, встал вопрос о природе нового загадочного излучения. Относятся ли рентгеновские лучи к тому же разряду физических явлений, что и электромагнитное излучение, или нет? Могут ли рентгеновские лучи диффрагировать и интерферировать подобно световым лучам или они совсем не обладают волновыми свойствами? Эти вопросы имели огромное значение.
Макс Лауэ, вопреки мнению ряда выдающихся ученых, высказал предположение о наличии у рентгенов-
ских лучей волновых свойств и выдвинул мысль о возможности их интерференции в пространственной решетке кристаллов. Опыты, осуществленные В. Фридрихом и П. Книппингом в 1912 г., блестяще подтвердили это предсказание. После первых же публикаций о результатах экспериментальных исследований М. Лауэ разработал теорию интерференции рентгеновских лучей в кристаллах, хотя и являющуюся, как мы теперь знаем, приближенной, но тем не менее прекрасно подтверждающуюся опытом. В дальнейшем эта теория была уточнена рядом других ученых. Был, в частности, принят во внимание тот факт, игнорировавшийся в первоначальной теории, что атомы кристалла находятся в беспрестанном тепловом движении. Обобщенная таким образом теория интерференции в кристаллах была названа «динамической теорией». Она оказалась существенной для последующего этапа развития физики, когда были открыты волновые свойства электронов и требовалось понять механизм их интерференции в пространственных решетках кристаллических веществ. Завершенную форму «динамической теории» интерференции дал опять-таки М. Лауэ в 1931 г.
Специфическую интерференционную картину, полученную в результате прохождения рентгеновского излучения со сплошным спектром через монокристалл, именуют в настоящее время «лауэграммой». Она широко и с большим успехом применяется для исследования структуры кристаллов.
Таков один цикл работ М. Лауэ. Другой связан с теорией относительности. Теория относительности возникла в 1905 г. Уже шесть лет спустя, когда было еще очень далеко до ее признания широкими кругами ученых, М. Лауэ дал первое обобщенное изложение этой теории. Превосходно написанная книга Лауэ по теории относительности сыграла важную роль в укреплении новых представлений о пространстве и времени, о законах материального движения, совершающегося со скоростями, сравнимыми со скоростью света. Она и сейчас воспринимается как живой участник борьбы за
новые физические представления в пору революционных преобразований физической науки в начале XX века. М. Лауэ выполнил также ряд более специальных исследований по вопросам теории относительности.
Как образно выразился Лауэ в своей «Истории физики», к началу XX века термодинамика и оптика стали настолько обширными и значительными ветвями физической науки, «что от их брака могло родиться дитя, предназначенное совершить величайшую революцию в физике». Это дитя – квантовая теория излучения – родилось, и революция действительно совершилась. Макс Лауэ своими работами способствовал объединению термодинамики и оптики, принесшему ценнейшие плоды для познания природы. В 1906 г. он применил законы термодинамики и понятие энтропии к когерентным пучкам света, полученным из одного и того же луча путем его разделения с помощью процессов отражения и преломления. При этом Лауэ доказал обратимый характер такого разделения: полная энтропия когерентных лучей равна энтропии первоначального пучка, из которого они образовались.
Это была сложная и весьма важная проблема. В то время казалось, что здесь физики столкнулись с неустранимым противоречием, из которого можно выйти только ценой какого-то очень далеко идущего пересмотра фундаментальных положений физической науки. С одной стороны, на основании второго начала термодинамики получалось, что разделение пучка света с помощью процессов преломления и отражения на два пучка должно быть связано с увеличением энтропии, т. е. должно являться процессом необратимым. С другой стороны, законы оптики показывали, что путем тех же процессов отражения и преломления разделенные пучки света можно вновь соединить в один пучок, не отличающийся от первоначального, с тем же значением энтропии; следовательно, весь этот процесс можно рассматривать как обратимый. Ввиду наличия такого противоречия возникало даже подозрение насчет того,
можно ли применять второе начало термодинамики к оптическим явлениям. •
Исследования М. Лауэ внесли в этот вопрос полную ясность. Решение было найдено на основе закона Л. Больцмана о связи между энтропией и вероятностью. Как установил Лауэ, к выводу о возрастании энтропии при разделении пучка света пришли потому, что не учитывали того обстоятельства, что пучки света, образовавшиеся в результате разделения первоначального пучка, являются в силу их когерентности статистически зависимыми. Внутренняя корреляция, существующая между обоими пучками, приводит к тому, что их общая энтропия остается равной энтропии первоначального пучка.
Таков третий цикл работ М. Лауэ, оставивших след в истории науки. Можно было бы еще указать на его работы, посвященные изучению сверхпроводимости, а также некоторым общим проблемам современной теоретической физики.
В 1947 г. появилась книга М. Лауэ «История физики». В течение трех лет она выдержала три издания на немецком языке, затем была опубликована в Америке и Голландии; в 1953 г. она вышла в Париже с предисловием Мориса де Бройля, брата Луи де Бройля, одного из основоположников квантовой механики.
Вполне понятен интерес читателей к этой книге. Прежде всего привлекает имя самого автора, который, как мы указывали, активно участвовал в развитии физической науки в течение последнего полустолетия. Подкупают также краткость и вместе с тем обилие фактического материала, ясность и простота изложения, делаюшие ее доступной широким кругам интересующихся историей науки. Привлекает и то, что книга, в противоположность многим другим сочинениям, посвящена главным образом истории современной физики. Хотя в своем изложении Лауэ и обращается к древности, к творчеству Аристотеля, Архимеда и других ученых далекого прошлого, основное внимание он уделяет последнему столетию в развитии физической
науки. Книга, таким образом, подводит непосредственно к тому состоянию физики, в котором мы застаем ее в наши дни.
«История физики» Макса Лауэ обладает и другими достоинствами, которые делают эту книгу незаурядным явлением в зарубежной литературе по истории науки и о которых необходимо сказать более подробно.
Общим фундаментом, на котором Макс Лауэ строит все свое понимание истории физики, является его глубокое убеждение в объективной реальности внешнего мира, всех тел и явлений, которые изучает физическая наука.
Хорошо известно, что среди многих видных зарубежных физиков распространен ложный взгляд, будто атомы и элементарные частицы «не вполне реальны» или даже совсем «не реальны»; будто они представляют собой создания человеческого духа, «условные математические символы», вводимые нами для систематизации данных опыта. В противоположность этому М. Лауэ ясно и определенно признает полную и безусловную реальность и атомов, и элементарных частиц. В смысле реальности он ничем не отличает их от всех других тел материального мира. Он подчеркивает, что «не только атомы, которые являются уже довольно сложными образованиями, но также элементарные частицы имеют полную реальность, как и другие вещи внешнего мира» (стр. 125).
Последовательное признание объективной реальности внешнего мира имеет своим неизбежным следствием признание объективной истины, даваемой наукой. И Макс Лауэ приходит к признанию объективной истины, объективной ценности научного знания. Более того, он не только их признает, не только на всем протяжении своей «Истории физики» часто возвращается к мысли о существовании объективной истины, но и упорно стремится найти доказательства справедливости этого взгляда. По его мнению идеалом для истории физики как раз и должен быть показ объективной истинности научного знания (стр. 13).
М. Лауэ прекрасно видит, что представление об объективной истинности научного знания вызывает возражение со стороны некоторых «теоретико-познавательных течений». Он правильно указывает, на что пытаются опереться эти течения, обосновывая неприемлемую для него точку зрения, согласно которой научное знание целиком и полностью «конвенционально», условно, субъективно. Свои доказательства представители таких течений усматривают в том, что физические теории часто сменяют друг друга. М. Лауэ отвергает эти аргументы как несостоятельные, подчеркивая, что смена физических теорий не исключает того, что в них содержится «значительное ядро объективной, свободной от человеческих прибавлений истины» (стр. 13).
«Теоретико-познавательные течения», отрицающие объективную истину, существовали прежде, существуют они и теперь. Но, указывает Лауэ, в последнее время они получили особенно широкое распространение. Почему же это случилось? Лауэ дает ответ, свидетельствующий о его проницательности, умении рассматривать теоретические вопросы науки в связи с социальными. Причину усиленного распространения идеалистической теории познания он видит в «политической пропаганде».
Идеализм в своей основе противоречит объективному содержанию науки. Наука полностью отвергает идеалистическую точку зрения. Отрыв сознания от материи и превращение сознания в «самостоятельную сущность», характерные для всех идеалистических концепций, происходят под решающим воздействием социальных причин. Такой отрыв неизбежно ведет к отрицанию объективной ценности науки. В противоположность этому материалистическая теория познания полностью согласуется с наукой, подтверждается и укрепляется всеми ее достижениями. Характерное для материализма представление об объективной истинности науки М. Лауэ совершенно правильно выводит из самого существа данных науки, из истории познания объективного внешнего мира. Это представление
не навязывается науке извне, а вытекает из нее самой, отвечает всему ее духу и содержанию.
В истории физической науки, указывает Лауэ, неоднократно повторяется следующее явление: совершенно различные теории, развивавшиеся до того различными школами и относящиеся к разным областям явлений, всеми рассматривавшиеся как ничего общего не имеющие друг с другом, в одно прекрасное время вдруг сближаются и сливаются друг с другом, образуя нечто единое и цельное. Почему это происходит? Потому, отвечает Лауэ, что в этих теориях, несмотря на различные субъективные мнения людей, есть нечто общее им – ядро объективной истины, которое не зависит от людей, их воли, желаний и устремлений. Если бы в них не было этого ядра объективной истины, то, подчеркивает Лауэ, «надо было бы рассматривать соединение этих теорий, как чудо» (стр. 13).
Анализируя развитие важнейших отраслей физики, М. Лауэ всюду находит факты подобного слияния теорий, настойчиво указывает на них читателю и подчеркивает их теоретико-познавательное значение как доказательство «объективной истинности», «убедительной силы» науки. Как об одном из крупнейших событий такого рода он говорит о слиянии теорий электричества и света, совершившемся в результате развития идей Фарадея и Максвелла. «Это вполне естественное соединение до этого совершенно независимых теорий света и электродинамики, – пишет М. Лауэ, – является, может быть, крупнейшим из тех событий, на которые указывалось во введении, как на доказательство истинности физического знания» (стр. 49).
Пришло время, когда вступили в тесную связь также и атомистическая теория кристаллов, и волновая теория рентгеновских лучей. Причины этого – те же самые. Это, говорит Лауэ, «одно из тех поразительных событий, которые сообщают физике ее убедительную силу» (стр. 141). Прослеживая историю термодинамики и оптики, Лауэ подводит читателя к тому моменту, когда они объединились друг с другом, и снова он
здесь резюмирует: «Это еще одно из тех событий, которые доказывают истинность физики» (стр. 145). Подобно этому Лауэ обращает внимание читателя на важность с теоретико-познавательной точки зрения установления тесной связи между химией и квантовой теорией, совершившегося в последние десятилетия (стр. 159).
Аргументы в пользу признания объективной истины в физике М. Лауэ находит и в фактах другого рода – в подтверждении на опыте предсказаний науки. В качестве примера, свидетельствующего о блестящем подтверждении смелого научного предвидения, он называет результаты по получению атомной энергии. При этом он подчеркивает, что само это предвидение возможности атомной цепной реакции и взрывных выделений энергии в атомной бомбе опиралось на признание объективной истины. «С точки зрения физики, – пишет Лауэ, – здесь занимаются величайшим экспериментом, который когда-либо ставили люди. Это – блестящее подтверждение смелого научного предвидения, основанного на убеждении в объективной истинности физики» (стр. 134).
Конечно, к этим соображениям, развиваемым М. Лауэ в пользу признания объективной истины и против «конвенционалистического» (субъективистского) понимания физических теорий, можно было бы добавить многое. Но для нас здесь существенен сам факт борьбы Лауэ против субъективизма.
Как указывал В. И. Ленин, признавать объективную истину – значит стоять на точке зрения материалистической теории познания. Защищая объективную истину в физической науке, М. Лауэ защищает материалистическую теорию познания.
Такая позиция М. Лауэ в общетеоретических вопросах физики не случайна. Он ее придерживается многие годы. Наряду с некоторыми другими крупными физиками и, в частности, со своим учителем М. Планком он принадлежит к той группе ученых, которых М. Борн назвал «ворчунами». Эти «ворчуны» не раз подымали
свой голос в защиту принципа причинности, против попыток насадить в современной физике индетерминистические воззрения на основе искаженного понимания статистического характера квантовой механики. А как известно, вопрос о причинности – один из важнейших вопросов, по которым можно судить о сущности философских воззрений того или иного ученого. Субъективистская линия в трактовке причинности – философский идеализм. Признание объективности причинности, признание ее познаваемости есть материализм.
В своих статьях, посвященных анализу соотношения неопределенностей Геизенберга и характеристике их теоретико-познавательного значения*), М. Лауэ возражает против попыток отказаться от принципа причинности. Аргументом в пользу такого отказа некоторые физики объявили то обстоятельство, что средства наблюдения оказывают определенное воздействие на исследуемый объект. Лауэ показывает, что на самом деле из факта взаимодействия прибора и объекта вовсе не вытекает необходимость отказа от принципа причинности. Он высказывает свое несогласие с представлением, будто соотношение неопределенностей устанавливает некую границу познания, ликвидирующую возможность дальнейшего проникновения в глубины микропроцессов. Опираясь на факты из истории физики, Лауэ опровергает мнение, будто измерительные возможности науки не могут дальше развиваться, когда мы дошли до таких частиц материи, как атомы. По мнению Лауэ, никаких принципиальных границ для познания не существует, и соотношение неопределенностей указывает всего лишь пределы корпускулярной механики, но не физического познания вообще.
Ряд верных и глубоких соображений Лауэ высказывает и по вопросу о связи науки с практикой. Обычно
*) Русский перевод одной из этих статей – «О соотношениях неточностей Геизенберга и их теоретико-познавательном значении» – опубллкован в журнале «Успехи физических наук», т. XV вып. 3, 1935, стр. 343.
идеалисты представляют возникновение и развитие науки как результат «самодвижения духа», как продукт «творческой активности» духа, рождающего науку из самого себя, вне всякой связи с материальной действительностью, с практическими задачами общественной жизни. М. Лауэ такой точки зрения не придерживается. Она ему чужда. Это вполне понятно: признание объективной реальности внешнего мира и объективной истинности научного знания не совместимо с идеалистической точкой зрения на возникновение и развитие науки.
Из всех отраслей физики раньше всего сложилась механика, а в механике первой родилась статика. Почему она возникла? «Как уже было упомянуто, – пишет М. Лауэ, – учение о равновесии, статика, уходит далеко в древность. Ее возникновение обусловлено практическим значением, которое имеют для преодоления тяжелой физической работы рычаг, винт, наклонная плоскость и полиспаст» (стр. 19).
М. Лауэ указывает, что выдвинутая практикой задача создания водного и воздушного транспорта дала толчок исследованиям в области динамики жидкостей и газов. Ее решение явилось целью обширных исследований Рэлея, Рейнольдса и Прандтля (стр. 25). Практические потребности двигали вперед и акустику. Изобретение телефона, нашедшего многочисленные применения на практике, выдвинуло перед акустикой новые большие задачи. Нужды военной техники в период первой мировой войны, указывает Лауэ, стимулировали разработку передачи звука с помощью электрических волн, т. е. радио; необходимость защиты от подводных лодок двинула вперед исследование и использование ультразвука (стр. 32-33).
Жаль, что М. Лауэ не во всех важнейших случаях прослеживает воздействие практических потребностей техники, производства на развитие науки. Но в целом его точка зрения в этом вопросе совершенно ясна: практика служит источником возникновения наук; она движет вперед научную мысль, выдвигая новые за-
дачи; вместе с тем техника вооружает науку новыми орудиями исследования. Лауэ подчеркивает и другую сторону взаимоотношения между наукой и техникой, между наукой и жизнью общества: путем своих технических применений, а также своими общими идеями наука оказывает могущественное влияние на общий круг жизни как отдельных людей, так и народов, «в силу чего политическая история также не может быть понята без этих влияний» (стр. 7).
Для истории познания природы важен не только вопрос о взаимоотношении науки и техники, но и вопрос об отношении различных наук друг к другу. М. Лауэ останавливается и на нем, высказывая ряд совершенно справедливых положений. В общей форме он говорит о связи физики с астрономией, химией, минералогией. Более подробно он подчеркивает особенно тесную связь между физикой и математикой: «Математика, – указывает Лауэ, – стала интеллектуальным орудием физика; только она дает возможность точного научного выражения познанных законов природы…». Успехи физики теснейшим образом связаны с успехами математики; «и наоборот, часто постановка физических вопросов обусловливала прогресс математики» (стр. 9). Эти соображения Лауэ фактически направлены против тех, кто отрывает математику от естествознания, от опыта, эксперимента, практики; кто видит в математике некую априорную схему понятий с присущей ей таинственной «логикой самодвижения».
Особенно интересны взгляды М. Лауэ на соотношение между физикой и философией и его оценка философских выступлений некоторых естествоиспытателей. Прежде всего Лауэ отмечает ту особенность в развитии физики, что в первые периоды в ней «трудились люди, которые нам известны прежде всего как философы» (стр. 9). В связи с этим он называет имена Декарта, Лейбница, Канта (имеются в виду работы Канта по космогонии). «Позднее происходило скорее наоборот: физики и химики выступали с философскими сочинениями, большей частью по вопросам
теории познания». Лауэ указывает: «Вне всякого сомнения, успехи естествознания оказывали сильное воздействие на всех выдающихся философов» (стр. 9). И это совершенно верно. Действительно, ошибочен взгляд, будто философия – некая «наука наук», парящая где-то над всеми другими науками, абсолютно независимая от них и диктующая свои «внеопытные законы» всем другим наукам. Подлинно научная философия находится в неразрывной связи с естествознанием, опирается на него, обогащается и развивается вместе с его успехами.
М. Лауэ отмечает, что в XIX веке среди естествоиспытателей возникла решительная оппозиция против идеалистической философии Гегеля. Он подчеркивает, что оппозиция была вполне обоснованной, ибо гегелевская философия отказывала опытной науке в праве на существование. Однако, с сожалением констатирует Лауэ, эта оппозиция несправедливо распространилась на всю философию вообще и даже дошла до отрицания любой теории в естествознании. М. Лауэ это считает ошибочным. И действительно, без тесной взаимосвязи естествознания с подлинно научной философией, без их союза невозможно успешное развитие науки. Эмпиризм, отрицающий теоретическое мышление, позитивизм, пытающийся оторвать естествознание от философии, стремящийся противопоставить их друг другу и ликвидировать философию, наносят тяжелый ущерб научному познанию.
В своей автобиографии Лауэ говорит о том, что еще будучи гимназистом, он увлекался философией, читал книги по истории философии, изучал произведения Канта. В студенческие годы он продолжал занятия по философии и она, по его собственным словам, преобразила его бытие. Лауэ подчеркивает большое значение философии, как центра, вокруг которого группируются все другие науки, благодаря чему сохраняется единство научного знания в условиях далеко идущей специализации отдельных наук.
Конечно, с нашей точки зрения не всякая философия способна играть такую роль в развитии науки. Единственно верной философией естествознания является диалектический материализм.
Говоря о физиках, выступавших с философскими сочинениями, М. Лауэ называет Гельмгольца, Маха и Пуанкаре. Известно, как широко распространены в современной зарубежной философской и естественнонаучной литературе утверждения о якобы выдающемся значении философских работ Маха и Пуанкаре. Они нередко превозносятся как создатели новых философских систем, будто бы открывших новую эру в развитии философской мысли, в разработке теоретических основ естествознания. Ряд ученых объявляет себя их философскими учениками. Вопреки этому Макс Лауэ трезво и весьма скептически оценивает философские работы указанных физиков. «Да простится мне, – пишет Лауэ, – если я сомневаюсь в том, что все они имели необходимую философскую подготовку для успешной работы» (стр. 9). Сомнения М. Лауэ совершенно законны и справедливы. Как блестяще показал В. И. Ленин еще в 1909 г., философские воззрения Э. Маха и А. Пуанкаре не выдерживают научной критики. Они путаны, непоследовательны и представляют собой эпигонскую смесь обрывков отвергнутых наукой идеалистических систем, в особенности системы епископа Беркли, только облеченных в новую, квазинаучную терминологию.