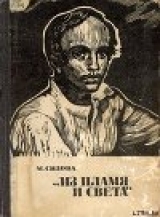
Текст книги "«Из пламя и света»"
Автор книги: Магдалина Сизова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 38 страниц)
ГЛАВА 12
Лермонтов выезжал из Тифлиса в свой полк, с сожалением прощаясь со всеми, кого успел узнать за время своей тифлисской жизни.
Вольховского он видел еще до Тифлиса, в Пятигорске. Начальник штаба Отдельного кавказского корпуса, в прошлом товарищ Пушкина по лицею, а затем член «Союза благоденствия», Вольховский горячо принял к сердцу просьбу своего старого товарища Философова о помощи опальному поэту.
Очень сожалел Лермонтов и о том, что приходилось расставаться с новым другом – молодым (всего на два года старше его) азербайджанским поэтом, написавшим элегию на смерть Пушкина, – Мирзой Фатали Ахундовым. Лермонтов начал брать у него уроки азербайджанского языка и с наслаждением слушал сказания и песни азербайджанского народа. Еще недавно Ахундов обучал своему родному и персидскому языкам друга Рылеева – Александра Александровича Бестужева – писателя и офицера, который привел 14 декабря на Сенатскую площадь Московский полк. Он погиб в июне, в бою у мыса Адлер, погиб бессмысленно и трагично – даже тела его не нашли друзья…
Перед самым отъездом Лермонтов еще раз встретился с Ахундовым.
Они стояли на горбатом мосту и долго смотрели на темную воду Куры, на суровое здание Тифлисского замка, на маленькие домики татарского квартала с видневшимися кое-где плоскими крышами.
– Люблю Тифлис, – медленно проговорил Ахундов. – Не один город видел в своей жизни, но и в моей родной Нухе не чувствовал себя так, как здесь. Ласковый город, и много здесь умных, любящих свободу людей.
– Да, я уже видел здесь таких. Это настоящие люди. И как горько сознавать, что нет уж среди них Бестужева-Марлинского. Злая судьба! Прекрасные горы эти и люди гор, столь красочно и романтично описанные в повестях сочинителя Марлинского, погубили отважного солдата Бестужева…
– Да, замечательно одаренный был человек. И только что в офицеры производство получил… – Ахундов задумался вспоминая. – Мы с ним вместе его повести читали: «Аммалат-Бек» и «Мулла-Нур»…
– Ими у нас многие увлекались. И я в том числе. Вот только язык их слишком уж цветист. Устаешь от этого непрерывного блеска… И мелодраматично чересчур. Но как хорошо знаете вы русский язык! Я не перестаю этому удивляться. У вас акцент восточный почти не слышится.
– Я начал учиться ему еще в Нухе, но уже почти взрослым. А после учился у своих русских друзей, у русских писателей и поэтов, – ответил Ахундов, улыбаясь, – и считаю ваш язык непревзойденным. А Пушкин – его непревзойденный мастер.
– Вы обещали мне прочесть вашу элегию на смерть Пушкина. Мою вы уже знаете. Вот здесь можно хорошо посидеть. – Лермонтов подошел к скамейке у ограды какого-то полусломанного дома, давно погруженного в сон.
– Я все не решался прочитать ее вам: я плохо читаю стихи, – сказал Ахундов, усаживаясь рядом с Лермонтовым.
Фатали Ахундов был слишком строг к себе. Он читал стихи в обычной манере большинства поэтов, подчеркивая напевность и ритм.
Странны и отрадны были для взыскательного слуха Лермонтова эти стихи, в которых здесь, на краю России, азербайджанский поэт говорил о Державине, как о завоевавшем державу поэзии русской, о Карамзине, наполнившем чашу поэзии вином знаний, и о Пушкине – властелине поэзии, который выпил вино этой полной чаши!
Ахундов кончил свою элегию, а Лермонтову все еще не хотелось уходить. И он попросил Ахундова рассказать ему еще раз сказку про Ашик-Кериба, которую ему захотелось обработать. Расставшись с Ахундовым, он еще долго бродил в этот свой последний вечер в Тифлисе и под тихий плеск Куры, под шелест деревьев, по которым уже пробежал предрассветный ветерок, думал о великом братстве поэтов и о языке искусства, понятном всему миру.
ГЛАВА 13
Цинандали было известно каждому жителю Кахетии. И хотя в то время, когда Лермонтов явился в Караагач, Нижегородским 44-м полком командовал уже не князь Чавчавадзе, а полковник Безобразов – человек с мягким характером, справедливый и умный, связь всего полка с домом бывшего командира нисколько не ослабела. Для нижегородцев дом Чавчавадзе в Цинандали был родным домом. Все, что было в полку лучшего и образованного, стремилось сюда. Здесь князь Александр Гарсеванович, вернувшийся в Грузию в 1837 году после ссылки на север, и знаменитый своим не знавшим границ гостеприимством уже стареющий Гульбат Чавчавадзе принимали всех как родных, кормили, развлекали охотой и военными играми и поили вином из собственных погребов.
Приказ Николая Первого от 11 октября о переводе Лермонтова из Нижегородского полка был напечатан в «Русском инвалиде» только 1 ноября и еще не дошел до Кавказа. Лермонтов спешил в Караагач, к своему полку. Здесь он должен был встретиться с Одоевским.
Он бросился разыскивать его тотчас по прибытии в полк и был очень опечален, узнав, что друга его уже нет в Караагаче: он был направлен в одно из укреплений, разбросанных по Черноморскому побережью. Острую боль и чувство какой-то пустоты принес Лермонтову этот неожиданный удар. За недолгое время странствий в горах он полюбил Одоевского, как брата.
Первый день в Цинандали, прошедший в каком-то радостном оживлении, сохранил Лермонтов в памяти, как один из лучших дней своей жизни.
– В Цинандали каждая минута говорит о том, что человек создан для счастья, – сказал он, входя в этот вечер в просторный зал, где обычно читали свои стихи гости и где собралось уже много народу.
Ему захотелось, чтобы грустный голос Нины Чавчавадзе зазвенел светлой нотой радости, чтобы бледное прелестное лицо ее оживилось румянцем, как щеки веселой Майи, которая, звонко смеясь, болтала с кем-то на балконе.
В тот вечер грузинские поэты собрались послушать последние стихи Александра Чавчавадзе.
Майко уселась на низком диване, который шел вдоль всех стен, и, подобрав под себя маленькие ножки в персидских, шитых золотом туфельках, приготовилась слушать.
Но ни детская веселость Майи, ни красота Майко не могли затмить трогательного образа Нины Александровны Грибоедовой; и не было такого человека в многолюдной гостиной, которому не хотелось бы утешить это молодое сердце, точно застывшее от пережитого горя.
Князь Александр Гарсеванович не мог пройти мимо дочери, не сказав ей ласкового слова.
– Ну что, моя дитя? – сказал он теперь, проходя мимо нее с Лермонтовым и ласково поднимая за подбородок ее опущенное лицо. – Ты что-то бледна сегодня… Послушай, что я написал, и скажи, хорошо ли?
Нина Александровна подняла голову и не спускала темных глаз со своего отца все время, пока он читал. Когда, покрывая общий гул одобрения, раздался громкий голос хозяина, который от имени всех попросил дорогого гостя прочитать что-нибудь свое, Лермонтов, не отказываясь, занял место за маленьким столиком, где только что читал свои стихи любимый всей Грузией поэт Чавчавадзе.
Лермонтов оглядел своих слушателей: тонкое лицо и стройную, полную изящества фигуру рано поседевшего Александра Гарсевановича, и оживленное, умное лицо точно сошедшего со старой картины величавого Гульбата, и кавказские одежды гостей вперемежку с военными мундирами, и прелестные лица – Нино́, Майко и Майи, прислушался к отдаленному напеву грузинской песни, доносившейся через открытые окна откуда-то из сада, где за густой стеной старых деревьев смутно выступали на звездном небе очертания гор…
Хотя я судьбой на заре моих дней,
О южные горы, отторгнут от вас,
Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз:
Как сладкую песню отчизны моей,
Люблю я Кавказ.
Он дочитал до конца, увидел улыбающиеся лица, дружеские взоры и долго стоял, окруженный этими людьми, точно родной семьей.
– Друзья мои, – сказал громко князь Чавчавадзе, – однажды великий русский поэт Пушкин доставил мне счастье принимать его в моем доме. Попросим теперь Михаила Юрьевича прочесть нам всем его прекрасные стихи на смерть Пушкина, за которые он был изгнан из России.
Лермонтов, не любивший читать свои стихи, здесь читал их с радостью, с воодушевляющим чувством глубокой, еще не изведанной близости со всеми, кто его слушал. Эту глубокую радость творческого общения он сохранил в своей памяти как дар Цинандали и никогда не забывал. Здесь, в Кахетии, он слышал и старые легенды, и рассказы о далеком прошлом Грузии, и ее народные предания. Здесь, среди природы и людей Кавказа, суждено было ему еще раз, по-новому, пережить свою поэму «Демон».
ГЛАВА 14
В конце ноября в Караагаче был, наконец, получен в официальной форме приказ, подписанный царем 11 октября. Поручик Михаил Лермонтов был отчислен из Нижегородского полка и должен был собираться в обратный путь, на север, в Новгородскую губернию, где стоял его новый полк – лейб-гвардии Гродненский. Он думал об этом без особой радости. Да, хорошо было, конечно, успокоить бабушку, хорошо опять увидеть оставленных друзей. Но здесь с новыми друзьями, и прежде всего с Одоевским, с которым он надеялся вскоре свидеться, его соединили связи глубокие и крепкие. А потом – неужели холодный Новгород веселее прекрасного Цинандали с его милыми обитателями?
И вот он опять был один в горах. Голые, суровые скалы поднимались над его головой с одной стороны дороги, проложенной по самому краю каменистого обрыва. Небольшой камень скатывался иногда куда-то вниз из-под копыт осторожно переступающей лошади, и снова возвращалось торжественное безмолвие.
Печальный Демон, дух изгнанья,
Летал над грешною землей,
И лучших дней воспоминанья
Пред ним теснилися толпой…
Медленно поднималась луна. Она была еще не полной, но мягкий, нежный свет становился все сильнее. И по мере того как оживала природа, светлели, обретая новую жизнь, образы и картины «Демона».
Как удивительно сказал Одоевский в последний вечер их совместного пути!
«Тебе не кажется, – спросил он, обводя своим мягким, точно ласкающим, взглядом открывающуюся перед ними панораму горных громад, – что величественная красота и все великолепие этой природы словно созданы для каких-то могучих существ, более могучих, чем обыкновенные люди? Точно для каких-то валькирий… или, – он помолчал и посмотрел вокруг, – или для твоего «Демона».
– Что ты сказал? Для моего «Демона»? – повторил тогда Лермонтов, пораженный тем, что Одоевский угадал его мысль, потому что как раз все те дни и особенно ночи образ Демона неотступно стоял перед ним. – Мне тоже все кажется, что я слышу, как шумят его крылья, когда он пролетает над вершинами кавказских гор.
Да, его «Демон» нашел, наконец, свою родину. И не прежняя полуреальная монахиня, а княжна Тамара будет героиней его поэмы. В ней будут и некоторые черты Нины Чавчавадзе, юной вдовы Грибоедова, и ее трагической судьбы. Но не кто иной, как Варенька, Варенькина ясная душа даст по-настоящему жизнь образу дочери Гудала. И это к ней, к Вареньке, обращены слова Демона – слова его самого:
Меня добру и небесам
Ты возвратить могла бы словом.
Ему стало грустно. Трудно расстаться с Кавказом и с его людьми!
Да, если бы не бабушка, так бы и остался жить здесь. Далеко от всевидящих глаз и ушей… Далеко от николаевского Петербурга!
И перед ним иной картины
Красы живые расцвели:
Роскошной Грузии долины
Ковром раскинулись вдали…
Эти строчки звучали и в тот день, когда он подъезжал к Тифлису, чувствуя, что отныне с этой страной навсегда сроднилась его душа.
Теперь в его бауле лежали первые наброски романа «Герой нашего времени». Маленький доктор Вернер и еще некоторые действующие лица были взяты из окружавшего его пятигорского общества. И в этом романе, как и в «Демоне», воплотилось то, что он увидел и узнал, странствуя по Кавказу…
А в голове наряду с новыми строчками «Демона», в которых слышались отзвуки записанных им кавказских народных песен, легенд и преданий, уже возникали и слагались медлительно-напевные строки словно эпического былинного ритма древних русских сказаний – «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».
ГЛАВА 15
Убедившись в том, что некоторые рукописи, посланные им в Петербург, погибли в пути, Лермонтов не решился посылать новые. Скоро он сам отвезет их в Петербург.
Мысль о том, что, вернувшись в столицу, он не найдет там Раевского, вызывала в нем отчаяние. Он считал себя глубоко и непоправимо виноватым перед своим другом, пострадавшим из-за его стихов, хотя сам Раевский решительно отвергал это.
Как много надо было ему рассказать Раевскому, и прежде всего о встрече с Одоевским! Когда-то он сможет сделать это? А пока, направляясь в обратный путь, хорошо бы было несколько дней, не сосчитанных начальством, еще хоть немного постранствовать!
Под Ставрополем, в начале зимы выпадают иной раз такие дожди пополам со снегом, что ни проходу, ни проезду. Лошади вязли в густой липкой грязи, и пришлось заехать в кузницу, чтобы перековать их. Из-за этой задержки Лермонтов не поспел в город засветло. В низеньких домиках уже зажглись огни, когда он въехал в Ставрополь. Но в этот раз он не поехал ни в гостиницу, ни к Петрову, а как был – усталый и забрызганный дорожной грязью – отправился прямо к знакомому дому, где в окнах уже горели свечи и слышались голоса. Он улыбнулся и, соскочив с коня, легко взбежал по ступенькам крыльца.
Спорили Сатин и Майер, у которых без спора не проходило ни одного вечера; в этот раз к ним присоединился и более миролюбивый Назимов. Лихарев лежал в углу на маленьком диване, с увлечением читая под этот спор какую-то книгу, и в раздумье ходил по комнате Голицын.
Через полчаса Лермонтов, переодевшись, сидел за столом и был центром общего внимания.
Все просили его рассказать о своих странствиях.
– Я всего и не упомню, – сказал он. – Где я только не был! Но лучшими днями моего пути были те, когда мы странствовали в горах вместе с Одоевским. Что это за удивительный человек!
– Так вы в Тамани были? – спросил Майер. – Я тоже туда заезжал однажды. Плохой городишко!
– Самый неприветливый из всех приморских городов! – ответил Лермонтов. – У меня там было не очень приятное приключение – правда, в лунный вечер и под шум моря, но я мог оттуда и не вернуться. Я начал рассказ об этом вечере и когда-нибудь непременно его кончу.
– И тогда пришлете его нам, – сказал Назимов.
– Ну что же, господа! – обратился ко всем Лихарев. – Наши стаканы пусты. Выпьем за встречу!
– И за Одоевского, – сказал Лермонтов, поднимая свой стакан. – Пусть ему будет хорошо!
Лермонтов выпил вино, поставил стакан и задумался.
– Когда я проезжал, возвращаясь из Грузии, по Военно-грузинской дороге, появилась одна пугавшая меня мысль… – Он помолчал и сказал с обычной своей простотой и с какой-то суровой горечью:
Но есть еще одно желанье!
Боюсь сказать! – душа дрожит!
Что, если я со дня изгнанья
Совсем на родине забыт!
И вдруг он услышал, как кто-то зарыдал в глубине комнаты, и почти с ужасом понял, что в своих стихах высказал тайные мысли и переживания этих сильных духом людей, отрезанных от всего дорогого, и пожалел, что прочел им именно эти строки.
Но когда они все обступили его с горячим восторгом и благодарностью, когда он почувствовал чьи-то слезы на своем лице и крепкие рукопожатия, он понял, что эта общая боль сделала его по-настоящему братом для всех, кого он здесь встретил, с кем сроднился и кого больше, может быть, не увидит.
Было уже поздно, когда он вышел на пустынную улицу. Подмораживало, и под ногами похрустывал тонкий ледок. «Точно у нас в Москве в первые дни весны, когда прилетают на старые гнезда грачи», – подумал он.
ГЛАВА 16
Больше других Лермонтов подружился с Назимовым. Но эта дружба не мешала ему порой поддразнивать Назимова.
Назимов относился к нему с нежностью и нередко отечески журил его, а иногда и всерьез сердился. Это бывало в тех случаях, когда, проговорив целый вечер о том, что волновало их всех – о современном положении России, и о ее будущем, и о современной молодежи, – Лермонтов вдруг начинал возражать решительно против всего, что утверждал Назимов, точно в него вселялся бес.
– Да поймите, Михаил Юрьевич, что не может вообще история, а значит и наша русская история, стоять на одном месте! – волнуясь, уже почти кричал Назимов, расхаживая быстрыми шагами по комнате.
– Она и не стоит! У нас военные поселения построили совсем на новом месте, где их и не было никогда.
– Но боже мой, ведь это же не вечно будет! Неужели вы, поэт, не чувствуете, что все в мире совершенствуется, все развивается, все идет вперед?!
– Ну как же! – отвечал Лермонтов. – Я это всегда чувствовал. Особенно, когда у нас в Университетском пансионе порку ввели.
– Мишенька, ведь я серьезно с вами говорю.
– И я серьезно! – Лермонтов смотрел на Назимова смеющимися глазами. – Вы, Михаил Александрович, говорите о непрерывном прогрессе. Согласно этой теории на Земле все само собой совершенствуется, всем живется все лучше, с каждым днем все лучше, лучше, лучше… И у нас в России такой же непрерывный прогресс?! Бог мой!.. Ведь это до чего же в конце концов дойдет?! Ведь какая жизнь будет! Как всем будет чудесно жить на свете!..
И, обняв вконец рассерженного Назимова, Лермонтов на время исчезал.
Но бывали столкновения и более серьезные, после которых у Назимова разбаливалась голова, а Лермонтов шел к кому-нибудь третьему и просил разъяснить Назимову, что его надежды на какие-то благие меры правительства просто наивны.
– Нужно же знать ближе жизнь нашего народа, – волновался Лермонтов, – тогда многое станет ясно.
– Вы правы, – говорил Голицын, – но не спорьте с Михаилом Александровичем: ему легче оттого, что он сохраняет эту надежду.
После таких слов Лермонтов немедленно возвращался к Назимову мириться.
Но в последний вечер перед отъездом Лермонтов был очень тих.
Он подсел к маленьким старинным клавикордам, стоявшим в углу, и начал наигрывать что-то.
– Что ты играешь? – спросил Сатин.
– Так, песню одну, казачью. Пела ее в станице на берегу Терека красавица казачка. И я долго потом слышал ее каким-то внутренним слухом, а теперь всю ее сочинил по-своему.
Уже было поздно, когда он встал прощаясь. Все обнимали его, и когда очередь дошла до Назимова, Лермонтов спросил:
– Что же вы пожелаете мне на прощание, Михаил Александрович?
– Я желаю вам стать очень большим поэтом, что, впрочем, будет во всяком случае.
– «Большим поэтом», – повторил Лермонтов. – А разве теперь это возможно? Боюсь, что нет.
Были холодные сумерки серенького зимнего дня. Небольшая группа друзей провожала его на крыльце перед домом.
Неужели жизнь будет так жестока, что не соединит их больше никогда?
* * *
В декабре 1837 года в московском театре шли «Разбойники» с участием Мочалова. После долгих и шумных оваций, когда опустился занавес по окончании последнего акта, редактор «Литературных прибавлений к «Русскому инвалиду», приехавший в Москву на несколько дней по своим литературным делам, Андрей Александрович Краевский, пробираясь между рядами кресел и стараясь не наступать на дамские шлейфы, столкнулся с Белинским, недавно вернувшимся с Кавказа.
Они пожали друг другу руки, пропустили мимо себя все еще возбужденную толпу зрителей и вышли вместе из театра.
Осведомившись о здоровье Белинского и о его кавказских впечатлениях, Краевский спросил, не видал ли он там Лермонтова.
Белинский, решивший проводить Краевского до его гостиницы, ответил не сразу.
– Видел, – сказал он наконец, – у Сатина, в Пятигорске. И встречей этой недоволен.
– Недовольны? – изумился Краевский. – Почему?..
– До этой встречи я видел его раз в зале ресторации. Его лицо было печально, между бровями залегла суровая морщинка, а глаза – изумительной красоты у него глаза! – были тоскливо устремлены куда-то вдаль. В руке он держал журнал, который только что читал. Вскоре он поднялся и ушел. А у Сатина был совсем другой человек! Такого можно увидеть на бальных паркетах, а больше нигде.
– Это с ним бывает, и на это внимание обращать не надо. Он все это нарочно на себя напускает, по молодости лет. Но вы когда-нибудь узнаете его по-настоящему. У меня сейчас дома его письмо лежит. Вот в этом письме он простой и настоящий.
– К вам письмо?
– Это ко мне, а еще есть у меня письмо Лермонтова к одному из самых преданных его друзей – к Раевскому, который за распространение его стихов угодил в Олонецкую губернию. Так вот, Раевский себе оставил копию письма, а оригинал переслал мне, полагая, и не без основания, что в условиях жизни опального чиновника письменный стол его не очень-то надежное место и что у меня оно может лучше сохраниться.
– Ну и что же пишет Лермонтов? – прервал его Белинский.
– Пишет он, узнав о своем переводе обратно в гвардию, что если бы не бабушка его, он охотнее остался бы на Кавказе, где, как он выражается, «много есть хороших ребят». А мы с вами знаем, Виссарион Григорьевич, что Кавказ – это «теплая Сибирь», что там много ссыльных, и потому, конечно, Лермонтов там и чувствует себя как рыба в воде. Пишет далее, что все время странствовал, изъездил линию всю вдоль от Кизляра до Тамани, одетый по-черкесски, с ружьем за плечами. Пишет еще, что часто ночевал в чистом поле, засыпая под крик шакалов. Рисовал много, на Крестовую гору лазил и от всего этого счастлив. И в этом он искренен и прост, и в этом Лермонтов настоящий.
– Да, несомненно, – помолчав, проговорил Белинский, – Кавказ сыграет большую, может быть решающую, роль в развитии его таланта. Посмотрим, что-то привезет он нам оттуда. А Мочалов-то наш, признайтесь-ка вы, поклонник Каратыгина, все-таки ни с кем не сравним!..
* * *
Лермонтов теперь уже торопился. Но декабрьские метели, морозы и снежные заносы делали дорогу все труднее и труднее.
Он щедро давал ямщикам на водку, и все-таки этот путь тянулся бесконечно. Но, наконец, через три дня нового, 1838 года, 4 января, читатели московской «Ведомости о прибывших в Москву и выбывших из оной разных особах» могли прочитать, что «пополудни в 6 часов из Тифлиса лейб-гвардии Гродненского полка корнет Лермонтов прибыл в Москву».








