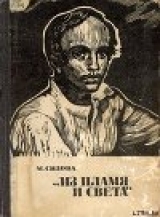
Текст книги "«Из пламя и света»"
Автор книги: Магдалина Сизова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 38 страниц)
ГЛАВА 20
Павлов разрешал иногда лучшим из старших учеников пансиона присутствовать на своих лекциях в Университете. Двери его все равно скоро должны были раскрыться перед ними. В последнюю весну своей пансионской жизни перед поступлением в Университет на лекции Павлова среди других был однажды и Лермонтов.
С волнением, которое все они усиленно старались скрыть, входили пансионеры в стены Московского университета.
Студенты в маленьких фуражках, иногда плохо державшихся на голове, останавливались группами на широком дворе и, перебросившись несколькими словами, с деловым видом входили в Университет.
Десять пансионеров, гордые полученным правом послушать Павлова в стенах Университета, уже чувствовали себя почти студентами, почти равными этим оживленным, немного шумным юношам, собравшимся здесь со всех углов России, и с любопытством прислушивались к обрывкам долетавших до них разговоров, к брошенным на ходу фразам.
– А вы куда? – быстро взбегая по лестнице и обгоняя двух своих товарищей, крикнул высокий, длинноногий студент в маленькой фуражке, съехавшей совсем на затылок. – Ведь вы другого факультета?
– Ну и что же! Павлова все факультеты слушают!
– Что в нем особенно примечательно, – донесся до Лермонтова звонкий голос студента, окруженного толпой слушателей, – это та удивительная ясность, с которой он излагает свой предмет.
– Московский университет, господа, – средоточие русского образования и приют русского свободолюбия. Поэтому он и есть «рассадник разврата», как изволило выразиться одно лицо, возненавидевшее его еще с Полежаевской истории.
Проходившие мимо Лермонтов и Сабуров переглянулись. Оба поняли, что это за «лицо». Император Николай! И хотя у них в Университетском пансионе ученики в свободное от уроков время тоже не стеснялись высказывать свои мнения и любили потолковать на опасные темы, все же им показалась замечательной та смелость, с которой произнес эти слова студент.
В этот раз Павлов, словно памятуя о присутствии юных учеников Благородного пансиона, говорил особенно просто и убедительно.
Взволнованная и возбужденная расходилась молодежь из аудитории.
Проходя коридором, Лермонтов опять увидел студента, который перед началом лекции говорил о том, что Московский университет – приют русского свободомыслия. Теперь он стоял у окна, как и тогда, окруженный небольшой группой товарищей, внимательно его слушавших.
Лермонтову запомнилось красивое лицо с очень большими, необыкновенно живыми глазами. Он ясно разглядел его, подойдя ближе. Слова, которые он услышал, заставили его невольно остановиться.
– Университет и не должен заканчивать образования. Его дело – развить в нас мышление и научить ставить вопросы, что и делает Павлов.
– Вы не можете сказать мне, кто этот студент? – спросил Лермонтов.
– Который? У окна? Он с физико-математического.
– А как его имя?
– Имя? Герцен, Александр.
ГЛАВА 21
Шумными и веселыми бывали в Университетском пансионе перерывы между уроками. В большом зале ученики прохаживались парами и группами, оживленно беседуя или горячо споря и об игре Мочалова, и о только что вышедшей седьмой главе «Онегина», которая своей простотой и реалистичностью вызвала резкие нападки Булгарина, и о том, кто лучше ведет занятия, Павлов или Перевощиков, и о том, сообщит или нет классный надзиратель Павлову, что один из учеников старшего класса опять принес в пансион запрещенные стихи.
В углу актового зала боролись, чтобы «размяться», а в опустевшем классе, где собралась небольшая группа учеников, кто-то читал такие стихи, к которым весьма сурово отнеслось бы Третье отделение Канцелярии его величества. Да, «дух вольности» царил не только в Университете, как это было весьма хорошо известно шефу жандармов графу Бенкендорфу. И не только ему: граф Бенкендорф не преминул поставить его величество государя императора в известность о том, что благородные воспитанники Университетского пансиона имеют весьма неблагородные склонности, а именно: они интересуются судьбами низшего сословия государства Российского – крепостного крестьянства – и обсуждают действия правительства, открыто заявляя, что основа основ русского самодержавия – крепостничество – позор России.
В один мартовский солнечный день в большом актовом зале было особенно оживленно.
Дурнов, подойдя к небольшой группе учеников, спросил негромко:
– Кто хочет послушать стихи Пушкина, которые я списал сегодня? Пойдемте в класс, там сейчас никого нет. Я вам прочту их, но в руки никому не дам.
– Господа, кто идет?
– Все, конечно!
– Может быть, поставить кого-нибудь сторожить в коридоре?
– Ну вот еще, кто согласится? Всем послушать хочется. Да и нет никого теперь в коридоре. А войдет кто – уберем.
Дурнов начинает читать стихотворение, которое уже тайно ходит по Москве:
Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут – и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.
Уже раздался звонок – конец перерыва, когда в коридоре появился высокий генерал. Внимание его привлек список лучших воспитанников – гордость пансиона. «Что это?! Николай Тургенев?!» Так вот оно что!.. Здесь славят одного из участников восстания 14 декабря! Генерал грозно посмотрел на учеников, вихрем промчавшихся по коридору, и, проводив их глазами до дверей класса, медленно проследовал дальше. Проходя мимо полуприкрытых дверей, он еще раз остановился и прислушался: кто-то читал стихи, но слов нельзя было разобрать. И вдруг одна строка – всего четыре слова:
…братья меч вам отдадут.
«Какие братья? Какой меч? – подумал генерал. – Как будто слыхал я где-то эти слова!.. Не припомню! Надо будет справиться у Бенкендорфа…»
Он передернул плечами и прошел в следующий класс, где ученики рассаживались по своим местам.
– Чей это отец пришел? – шепнул один ученик соседу.
Мальчик обернулся, увидел генерала – и обомлел. Он вскочил со своего места и гаркнул на весь класс:
– Здравия желаю, ваше императорское величество!
Не успели ученики сообразить, что им нужно делать, если это в самом деле император, как уже захлопали в коридоре все двери сразу, и директор Курбатов быстро вошел в класс. За ним шел Павлов с побледневшим, но спокойным лицом. За Павловым спешили учителя и классные надзиратели, торопливо одергивая мундир и приглаживая волосы. У двери столпились было сторожа во главе со швейцаром, но их немедленно удалили, и инспектор Павлов, низко поклонившись, сказал:
– Простите, ваше величество, виноваты, все виноваты, не узнали, не ждали.
– Пожалуйте, ваше величество, через минуту в директорской все будет готово к вашему приему! – говорил перепуганный директор.
– Как вы сказали? В директорскую? Нет-с, в актовый зал, куда немедленно собрать и всех ваших… – его величество останавливается, подыскивая подходящее слово, и с явной иронией заканчивает: – Ваших «благородных» воспитанников.
Классные надзиратели бросаются по классам, и через минуту толпа учеников заполняет зал.
Император входит – и все замирает. Слышно, как за окнами постукивает о железный карниз первая капель.
Миша стоит в первом ряду своего класса и смотрит в искаженное гневом лицо царя.
Его величество начинает говорить, задыхаясь от негодования:
– Как?! Это скопище сорванцов, носящихся галопом по коридорам, называется «Благородным пансионом»?! Хороши нравы в московских учебных заведениях! Позор!.. Это таковы-то мои «верноподданные»! Я прошел по всему пансиону, и ваши «благородные» ученики даже не узнали меня! Стишками были заняты!
Павлов, Мерзляков и Раич переглядываются.
– Чему здесь учат? Кого готовят воспитатели этого «благородного» пансиона? Может быть, они думают, что такие сорванцы, лишенные всякой дисциплины, могут стать верными слугами царя и отечества? Нет, следует немедленно принять самые строгие меры к искоренению духа вольности в этом учебном заведении! И теперь я лично позабочусь о том, чтобы эти меры были как можно скорее проведены в жизнь.
С этими словами император Николай Первый отвернулся от застывшего строя учеников и, передернув с раздражением плечами, покинул Благородный пансион.
Это произошло 11 марта 1830 года, а 29 марта последовал указ, лишивший Благородный пансион всех его льгот и превративший его в обыкновенную гимназию общего типа со введением розог для поддержания дисциплины в качестве метода воспитания.
Весной, вскоре после указа императора о преобразовании пансиона, любимец всех учеников инспектор Павлов сложил с себя свои обязанности и покинул вверенное ему учебное заведение. А вслед за ним прошение об уходе из пансиона подали несколько воспитанников, и в их числе один из лучших учеников – Лермонтов.
– Протест, протест! – шепотом говорил в учительской директор, грустно покачивая головой. – Да-да, в короткое время не узнать стало нашего Университетского пансиона… Одна печаль!
ГЛАВА 22
Из больших окон полукруглой столовой видны высокие, раскидистые липы и лиственницы старого парка.
Великолепный парк и цветник Середникова – большой подмосковный, купленный Димитрием Алексеевичем Столыпиным незадолго до смерти, в 1825 году, славились по всей округе. Мишель Лермонтов вместе со своей бабушкой уже второе лето проводит здесь, у гостеприимной хозяйки Екатерины Аркадьевны,[36]36
Она же Апраксеевна, или Евпраксиевна.
[Закрыть] вдовы Димитрия Алексеевича.
Засунув в карман небольшую тетрадку и карандаш, он исчезает в густой тени столыпинского парка в тот ранний час, когда в доме еще не поднимают шторы и молчат веселые девичьи голоса.
Немного позднее чье-нибудь светлое платье мелькнет в зелени тенистой дорожки и звонкий голос крикнет:
– Мише-ель!..
На зов ответит лишь шум листвы да где-то в вышине пугливая птица хлопотливо перелетит с ветки на ветку.
А еще позднее…
– Кати́шь, вы где?
– Сашенька, иди скорее!
– А где же Мишель?
– Опять спрятался со своей тетрадкой!
Удары колокола уже зовут всех к раннему обеду. Усаживаются во главе стола, около хозяйки, почетные гости и гостьи, и с шумом занимает места молодежь. Взор бабушки устремляется к дверям, и вот, наконец, мимо застывшего с салфеткой в руке старого лакея торопливо проходит ее внук. На слегка загоревшем лице его блестят оживлением темные глаза. Проходя к своему месту, он прислушивается к разным возгласам на его счет.
– Я не сяду с Мишелем!
– Посади его рядом с собой.
– Идите сюда, Мишель!
– Мишель, я запрещаю вам садиться рядом со мной! – повелительный голос раздается громче других.
Мишель останавливается около черноволосой и черноглазой девушки, сидящей напротив Сашеньки Верещагиной.
– Но почему же? – спрашивает он, вспыхнув, и голос его дрожит.
– Потому что вы меня обманули!
Она говорит тоном избалованного ребенка.
– Обманул? Вас?! Ни-ког-да!
И, несмотря на запрещение, он садится на пустой стул рядом с ней.
– Вы обещали вчера написать стихи обо мне, а вместо того прочитали что-то про рабство и про цепи – одним словом, опять про Россию, хоть и от имени какого-то турка. Как это скучно!
– Скучно? – повторяет он с какой-то тоской. – Но ведь я писал правду!
– А зачем о ней писать? – Черноволосая девушка, Катишь Сушкова, пожимает плечами. – Сочинители должны писать только о любви и иногда еще о женской красоте!
– Ах, нет, нет! – горячо восклицает он. – Вы не правы! – И, точно вдруг испугавшись своей горячности, умолкает.
– Мишель! – окликает его Сашенька Верещагина. – А я даже наизусть запомнила ваши стихи!
– Какие, Сашенька? – смущенно спрашивает он.
– А вот эти самые, сначала про рабство, а потом про уединенье: «Он любит мрак уединенья». Видите, как я внимательно вас слушаю! – Сашенька с важностью наклонила свою белокурую голову и торжествующе смотрела на Мишу.
– Разве я вам читал эти стихотворения? – спросил он неуверенно.
– Вот это прелестно! Он говорит, что не читал их!
– Я совсем не это говорю, я просто не помню.
– В таком случае вы должны верить старшим, – наставительно говорит Катишь.
– Да, Мишель, – весело поддерживает ее Сашенька, – потому что мы с Катишь мудрые и ужасно взрослые. И я вам сейчас все-все напомню. В воскресенье, третьего дня, вы вернулись с далекой прогулки, и были чем-то взволнованы, и спрятались в беседке, и вы что-то писали, А мы с Катишь застали вас на месте преступления и потребовали, чтобы вы прочли нам свое сочинение. Теперь вспомнили?
– Кажется, да, – хмурится Миша.
– Ну вот. И тогда вы сказали, что не можете этого показать ни за что на свете, а можете показать только два стихотворения.
– И тут же обещали написать третье – про меня, – добавляет Катишь.
– Я написал.
– Да? – Катишь уже милостиво улыбается. – Где же оно? Дайте мне немедленно!
– Я принесу вам вечером. Оно не совсем… кончено, Я был очень занят в эти дни.
– Чем же?
– Моей поэмой.
– Конечно, ваша поэма посвящена какой-нибудь девушке и носит ее имя? Правда, Сашенька?
– Я тоже так думаю, – говорит уверенно Сашенька.
– Скажите нам по крайней мере, как называется ваша поэма? Как имя ее героини?
– «Демон», – говорит Миша.
Сашенька молчит. Катишь с легким пренебрежением смотрит на побледневшее лицо поэта.
– «Демон»? – повторяет она. – Вот удивительно! И каков же на вид ваш демон? У него есть рога и хвост? Скажите же, Мишель! На кого он похож?
– На ясный вечер, – помолчав, отвечает Миша.
* * *
Заплетая на ночь перед зеркалом свою тяжелую черную косу (предмет ее гордости) и всматриваясь в свое отражение, Катенька Сушкова сказала, усмехаясь:
– Согласись, Сашенька, это все-таки смешно!
– Что именно?
– Стихи Мишеля! Сегодня он передал мне в парке третье стихотворение!
– Но ведь ты же сама хотела, чтобы он написал тебе стихи?
– Да, хотела. Но я совсем не думала, что он будет писать мне о своей любви. И вообще он просто комичен, этот подросток, разыгрывающий из себя какого-то разочарованного старца! На самом деле он просто мальчик с дерзкими глазами – вот и все.
– Нет, это совсем не все! – Сашенька отошла от окна и стояла теперь перед своей подругой, глядя на нее почти гневными глазами. – Совсем не все! – повторила она. – В Университетском пансионе он считался лучшим из лучших и теперь, наверно, очень скоро будет студентом, и он пишет прелестные стихи, и он мой друг. Вот! И ты не должна обращаться с ним так пренебрежительно!
– Закрой, пожалуйста, окно! – вместо ответа попросила Катишь.
ГЛАВА 23
Все в ней казалось Мише достойным обожания: огромные черные глаза, и густые черные волосы, и уверенные манеры, и даже крупноватый насмешливый рот. Она уже выезжала в «большой свет». Но ее тон превосходства и подчеркнутое обращение с ним, как с ребенком, ее насмешливые замечания и полупрезрительные взгляды вызывали в нем бурные приступы гнева и обиды. И, о, каким несчастным почувствовал он себя, когда увидал в середниковской гостиной гвардейского офицера! У него были усы, и шпоры, и этот счастливец был на целых семь лет старше него.
Он старался как можно реже встречаться с офицером и уходил на далекие прогулки с семинаристом Орловым, репетитором столыпинских детей.
Мишель подружился с этим застенчивым, немного суровым юношей и, заметив, что далеко не все гости (и прежде всего Катишь) обращаются с ним, как с равным, старался ходить на прогулки именно с ним.
Мешковатый и неловкий, на вид суровый семинарист, проживший свое детство в далеких углах сначала северной России, а потом Украины, обладал редкой музыкальной памятью и знал множество старых русских и украинских песен.
В тихий серенький день Миша неторопливо шел по лесу, с тоской думая об отце, который писал ему о своем нездоровье. Почему, ну почему нельзя ему поехать в Кропотово, чтобы пожить с отцом? Нечего и думать просить об этом бабушку! Это единственная просьба, к которой она чаще всего остается глуха.
«Тебе известны, – писал Юрий Петрович, – причины моей с тобой разлуки, и я уверен, что ты за сие укорять меня не станешь. Я хотел сохранить тебе состояние, хотя с самой чувствительнейшею для себя потерею, и бог вознаградил меня, ибо вижу, что я в сердце и уважении твоем ко мне ничего не потерял».
Да, в этом отец его был прав. Но Миша так и не получил ответа на мучивший его с детства вопрос: в чем же, в чем был он виноват?
Набежало низкое облако. Тишина серенького дня, переходившего в туманный вечер, плыла над полями и перелесками.
Вдали за березовой рощей мягкий мужской голос негромко пел печальную песню. И эта печаль сливалась с тихой грустью дня.
Мишель пошел на этот голос и, пройдя рощу, увидел Орлова.
Он сидел на самом краю обрыва и смотрел на дорогу.
Орлов пел негромко:
Ох ты, мать моя Расея,
Распрекрасная земля,
Мы с веревкою на шее
Бороним твои поля!
Когда Орлов допел до конца и в наступившей тишине слышен был только ветер, свистевший в кустах, Миша подошел, уселся рядом на край обрыва и попросил повторить песню.
– А хотите, я вам веселую спою, семинарскую нашу? Эх, есть у нас лихие песни! Вот, к примеру:
Как пошел наш поп молебствие служить,
Да забыл с собой кадило захватить!..
– Нет, – остановил его Миша решительно. – Вы лучше ту, другую повторите.
Стемнело. В маленьком окошке крайней избы робко задрожал первый огонек.
– Мне было как-то не по себе сегодня… – сказал Миша, вставая. – Знаете, бывают такие дни. А от этих песен мне стало легче, хотя они и печальны. Да, если захочу уйти в поэзию народную, нигде больше не буду ее искать, как только в русских песнях. Я часто думаю о нашем народе…
Он не докончил и вместе с Орловым спрыгнул с обрыва.
На дороге они увидели сгорбленного старика, медленно бредущего с мешком на спине.
– Дедушка, далёко ль? – спросил Орлов.
– Просо, милый, с господского двора для внука своего несу. Сама барыня – дай бог ей здоровья! – приказала выдать.
Старик остановился передохнуть, рукавом рубахи вытирая пот со лба.
– Из проса, вишь ты, припарки, бают, от грудной болезни помогают.
– А что же внук у тебя, больной, что ли?
Орлов остановился около старика. Остановился и Миша.
– И-и, милый, такая на него хворь напала, грудью мается, что и не чаю, какой лекарь мальчонке пособит!
– А был лекарь-то?
– Он хоть и не был, да староста обещал барыне доложить, чтобы прислали.
Он вздохнул и потер глаза ладонью.
– Лекарь-то нам уж так бы нужен – и сказать нельзя. У меня вон глаза почитай што и не видют. А староста поглядел да меня черным словом. «Врешь, – говорит, – ты от работы отлыниваешь, а глаза у тебя чего надо, того и видют!» А я вижу чуток, как скрозь сито, и боле ничего!
Он еще раз вздохнул и зашагал к деревне.
Орлов и Миша опоздали к ужину, и Екатерина Аркадьевна укоризненно покачала головой, когда они вошли в дом уже при зажженных свечах.
Мишель в этот вечер был неразговорчив и рано ушел к себе.
На другое утро, когда Екатерина Аркадьевна совершала свою обычную прогулку по главной аллее, он подошел к ней и спросил, можно ли ему с ней поговорить.
– Конечно, дружок мой.
Тогда он рассказал ей о том, что видел в ее деревне, где крестьяне жили намного хуже, чем у них в Тарханах.
– Ах, боже мой! – растерянно проговорила Екатерина Аркадьевна, с удивлением и отчаянием глядя на Мишу. – Неужели же мои крестьяне так плохо живут?
Она вздохнула, посмотрела на хмурое лицо Миши и неожиданно закончила уже совсем другим тоном:
– Ты так напомнил мне сейчас Димитрия Алексеевича, что я хочу дать тебе то, что, наверное, дал бы он. Возьми у меня на столе ключ от углового библиотечного шкафа. Там заперты книги и стихи, которые он особенно любил. Я никому еще не давала этого ключа.
Миша вошел в библиотеку, запер дверь и открыл шкаф своего деда.
Ему бросилась в глаза рукопись в яркой парчовой обложке.
Он взглянул на название: «Горе от ума». Потом прочел первую сцену и так, стоя перед открытым шкафом, дочитал всю пьесу.
Кроме Пушкина, ни один писатель не восхищал его так.
Солнце уже скрылось за высокими деревьями, а он все сидел на корточках перед шкафом и извлекал из него все новые сокровища. Здесь были и «Думы» Рылеева и его поэма «Войнаровский», списки которой ходили по рукам у них в пансионе. Он нашел здесь и неизвестные ему рукописные стихи Пушкина и Полежаева, поэмы Байрона и уже знакомую ему биографию Байрона Томаса Мура.
Начиная с этого вечера маленький книжный шкаф Столыпина постепенно открывал Мише скрытую духовную жизнь передовых людей того времени.
ГЛАВА 24
В начале осени Елизавета Алексеевна объявила, что молодежь должна поехать вместе с ней на богомолье в Троице-Сергиеву лавру.
Это было чудесное путешествие для всех, кроме Миши, потому что Катишь Сушкова оказывала явное внимание гвардейскому офицеру, поехавшему с ними на богомолье.
Переночевав в монастырской гостинице, все пошли к службе в собор. На паперти и в тени старых деревьев стояло много народу, все еще пытавшегося пробиться внутрь собора, где по случаю большого праздника служил митрополит. Испуганная толпой и давкой, бабушка осталась на паперти, где ее мгновенно окружила толпа нищих. Один из них – слепой, изможденный и голодный, смотрел мутными глазами перед собой и тихо подпевал хору соборных певчих. Миша стоял перед ним, прислушиваясь к его голосу и Сашенька Верещагина, оглянувшись, заметила, что ее кузен положил все содержимое своих карманов в пустую деревянную чашку. Услыхав звон монет, слепой поклонился и что-то тихо сказал.
– Мишель, – позвала Сашенька, выходя вместе со всеми из монастырской ограды. – Будет вам с мрачным видом плестись позади всех! Идите сюда, к нам!
Миша догнал ее, стараясь не смотреть на Сушкову, которая шла впереди, играя зонтиком, и болтала с гвардейским офицером.
– Что вам сказал слепой нищий? Вы слушали его с таким вниманием.
– Он рассказал мне, что вчера кто-то смеха ради положил в его деревянную чашку вместо денег мелкие камушки. Вот и все.
Вечером «богомольцы» подняли такой шум и веселье в монастырской гостинице, что Елизавета Алексеевна с тревогой и смущением посматривала и на служку и на монахов, проходивших под окнами.
Внук ее не участвовал в общем веселье: он сидел один в стороне и что-то писал.
Когда рано утром все усаживались в кареты, он быстро подошел к окошку, перед которым сидела Катишь Сушкова, и, бросив ей на колени свернутый листок, исчез.
– Опять от Мишеля стихи! – со снисходительной улыбкой сказала Катишь Сашеньке и подняла листок. – Что тут такое? Прочти, Сашенька!
Сашенька взяла листок и прочитала вполголоса:
НИЩИЙ
У врат обители святой
Стоял просящий подаянья,
Бедняк иссохший, чуть живой
От глада, жажды и страданья.
Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.
Так я молил твоей любви
С слезами горькими, с тоскою;
Так чувства лучшие мои
Обмануты навек тобою!
Какие прекрасные стихи! И как он запомнил то, что мы все тотчас забыли! Помнишь слепого нищего на паперти, которому мы все вчера подали? Он сказал Мишелю, что кто-то положил в его кружку камушки вместо денег! Ну разве это не возмутительно?
– Очень большое сходство со мной! – Катишь отвернулась.
Сашенька задумчиво смотрела в окно. И только когда экипажи выехали на дорогу, она неожиданно спросила свою подругу:
– А вдруг когда-нибудь Мишель захочет тебе отомстить?
– Ну что же? – ответила, усмехаясь, Сушкова. – Это было бы очень интересно!..
* * *
После поездки в лавру гвардейский офицер со своими усами и шпорами отбыл в Петербург, а молодежь еще вернулась на несколько дней в Середниково.
Возвращаясь после дальней прогулки, Миша встретил в парке Катишь и Сашеньку и, остановившись перед ними, поднял на Катишь свои огромные печальные глаза.
– Как вам понравилось мое последнее стихотворение? – спросил он. – Я не говорил с вами с тех пор.
– Какое именно? – спросила Катишь, стараясь припомнить.
– «Нищий», – ответил он, бледнея.
– Ах, «Нищий», да, теперь я вспомнила! – небрежно сказала Катишь и улыбнулась. – Я вообще нахожу, Мишель, что ваша поэзия очень, очень мила, несмотря на то, что сейчас она еще в младенческом состоянии. – И закончила, улыбаясь уже кокетливо: – Как и ее автор…
Она хотела еще что-то добавить, но взглянула на Мишеля – и замолчала: побледнев, с загоревшимся взглядом он повторил: «В младенческом состоянии? Ну что ж?» – разорвал тетрадь и исчез за деревьями.
* * *
Прощаясь с Середниковом, Катишь с увлечением болтала о той блестящей жизни, которая ждала ее в городе.
Нахмурясь и не глядя на нее, слушал ее Миша. Сашенька посмотрела на него, потом на свою подругу.
– А всех нас ты забудешь?
– Смотря кого!.. – ответила Катишь.
– А в Середниково приедешь весной?
– Этого я не могу сказать. У меня будет много светских обязанностей.
– Ну, тогда мы рассердимся на тебя и тоже постараемся тебя забыть. Правда, Мишель? – тряхнув белокурой головой, спросила Сашенька.
– Очень возможно.








