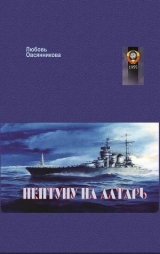
Текст книги "Нептуну на алтарь (СИ)"
Автор книги: Любовь Овсянникова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
Как понять? Выход из болезни предусмотреть можно, из сложной ситуации – тоже. Можно заснуть и решить задачу, т. е. можно во сне воспользоваться намеком подсознания, найти то, над чем долго и напряженно размышляешь. А как быть с непредусмотренными случаями, которые от тебя не зависят, если ты не играешь в их развитии никакой роли, а попадаешь под косу смерти? Это оставалось без моего понимания.
Я спросила о поездке в Севастополь – кто ездил, когда.
– Мы ездили: я, Вера и наша мама. А было это 18 мая 1956 года, – а дальше Зинаида Сергеевна рассказывала так, словно это было не с нею, отвлеченно…
Стояла погожая весна, изобиловал молодой зеленью май, цвели сады. Возле моря, непривычно ароматного, резко пахло цветами с гор, выстиранными облаками и свежестью небесной высоты, еще чем-то непонятным.
Из окна инкерманской квартиры Марии Аврамовны Кириченко, у которой остановились родственники Юрия Артемова, виднелся, почти закрывая горизонт, холм, на котором разместилось кладбище «новороссийцев». Оно звало их. И они сразу после приезда отправились туда, только сумки оставили дома.
Здесь ли Юра, в этой ли земле нашел вечный покой? Этого они не знали, как и по сей день не знают – утонул он или умер от травм. Были настолько убиты горем и растеряны, что даже не подумали пробиться к высшему флотскому начальству, как делали другие, и хоть о чем-то расспросить. Но что бы им ответили, что бы показали – поверхность моря, рябь, волны, ветер над волнами? Только спустя год линкор подняли наверх и перевернутым отбуксировали в Казачью бухту. Там сняли оружие и порезали на металлолом. Кто остался внутри корабля и что содеялось с их останками – неизвестно. А тогда на дне Северной бухты еще только проводили подготовительные работы и в ходе этого иногда поднимали тела, узнать которые уже было нельзя, разве что по особым приметам или деталями одежды. Да и то…
Побыли они на кладбище, между могилами походили, много плакали, читали надписи, еще самодельные, явно оставленные родными погибших. А сами ничего о Юре не знали…
Дома Мария Аврамовна приготовила ужин, чтобы помянуть Юру, которого тоже любила и оплакивала. Женщины засиделись, заговорились. Вот тогда и наслушались Вера Сергеевна рассказов о том ужасе, какой пережил весь Севастополь в связи со взрывом флагмана. Если уж для посторонних эта трагедия была такой страшной, то какой же она оказалась для него, для ее Юры?
– Сыночек, дитятко мое несчастное, крошка моя, за что?.. – плакала и причитала она в течение вечера. Но она так устала от горя, что голос ее едва шелестел, в нем уже не было ни вопросов, ни укора, лишь тяжелые горевания.
А ночью она разбудила Зину, свою сестру:
– Вставай, пошли, меня Юра зовет!
– Ты что? – Зина увидела белые бессмысленные глаза и сразу поняла, что перечить нельзя: – Пойдем, не волнуйся, только позже. Рано еще, темно на улице.
– Сон мне был, сон! Юра зовет, – настаивала бедная женщина.
– Расскажи свой сон, садись, – Зина подвинулась и освободила место на постели.
Вера Сергеевна послушно села, вроде чуть успокоилась, заговорила.
– Не знаю, что было, только вдруг вижу Юру, таким каким провожала в последний раз из дому. Он машет мне рукой от этого кладбища и говорит: «Мама, просыпайся, иди посмотри, как меня будут хоронить сегодня».
– И все? – переспросила Зина.
– Все. Пошли, – снова начала настаивать Вера Сергеевна. – Я не больная, не в бреду, не бойся. Я верю, что там сейчас будут хоронить моего сына.
Они тихонько выскользнули из квартиры и выскочили на улицу. На восточном краю небо начинало сереть, звезды уже погасли, море дышало непрогретой влагой, промозглостью. Стояла тишина, в которую тихо и бесконечно печально вплетались звуки траурной музыки. Они в самом деле доносились со стороны кладбища. Сомнений не оставалось – там происходит захоронение. Женщины ускорили шаг, затем побежали. Вчера казалось, что кладбище находится рядом, а как пришлось бежать, так оно будто удалялось от них.
Прибежали с последними залпами салюта. Экскаватор начал загребать ров, и большие комья земли звонко били о крышки гробов. Вера Сергеевна отчаянно оглянулась на сестру, затем в стороне, на целинной лужайке, увидела полевые цветы и с лихорадочной поспешностью нарвала их, не разбираясь, что цветет, главное – это была новая жизнь, такая же молодая, как и у ее сына. Она бросила в ров три горсти земли, трижды перекрестилась, что-то шепча, а потом рассыпала вдоль рва собранные цветы. Зина успела повторить за ней нехитрый ритуал прощания с покойниками, а потом почему-то начала считать гробы, стоящие в два яруса. Она сосредоточенно тыкала в них пальцами, стараясь не ошибиться, и на замечала, что на нее обратили внимание. Насчитала их двадцать восемь штук, еще не засыпанных землей.
На кладбище, кроме моряков в черной форме с траурными повязками, никого не было. Значит, опять хоронили тайно.
– Вы кто такие? – подойдя к ним, спросил офицер, руководивший церемонией.
– Артемова Юрия Алексеевича мы… родственники, мама его тут, – скомкано ответила Зина, потому что именно ей адресовался вопрос.
– Вон оно что. Когда же вам успели сообщить?
– Сообщить? – встрепенулась Вера Сергеевна и бросилась ближе к офицеру. – Что сообщить? Разве родственникам сообщали?
– Нет, но… вы же здесь. Как вы здесь оказались?
– Мы здесь случайно, вчера приехали. Почему вы спрашиваете?
– Чудеса! Какое совпадение… – офицер побледнел. Он казался потрясенным, ибо непроизвольно провел рукой вдоль лба, словно снимал оттуда паутину.
– Вы знали Юру? Он… где он сейчас? – спросила, сбиваясь, Зина.
– Нет, не знал. Просто у меня есть списки, – офицер, ударил пальцем по своим бумагам, взглянул на Зину. – Чудеса… – повторил еще раз. – Тридцать три черноморца положили мы сюда сегодня. И ваш Юрий здесь, вот его гроб, – он показал рукой, – крайний слева в нижнем ряду.
– Почему в нижнем? Опять в нижнем. Ему же тяжело… – простонала Вера Сергеевна.
– Алфавит, – сказал офицер и пожал плечом. – Юрий Артемов стоит первым в списке. – Он отдал им честь, отошел, затем возвратился, прибавил: – Простите нас, мама, и живите долго.
– Первым… – как эхо повторила Вера Сергеевна.
Моряки ушли с кладбища не сразу, еще некоторое время стояли над новым холмом, отдавая дань памяти погибшим той самой немотой, в которую те ушли навеки, мысленно разделяя с ними их безмолвие. И женщины стояли возле них, как окаменелые. Вера Сергеевна не могла ни сдвинуться с места, ни что-то сказать. Только стонала.
Возвратившись домой, сестры нашли Марию Иосифовну во дворе. Она сидела на скамейке с узлами и сумками в руках.
– Недаром Бог привел нас сюда, – уже примирившись с потерей, обыденно и по-деловому сказала она, как говорят о своевременно и хорошо улаженном деле. – Поехали теперь.
Вера Сергеевна смирения не приняла. Ее душа упрекала злую судьбу, бунтовала и не прощала Богу жестокой жертвы, которую у нее вырвали, выдрали, выломили вместе с жизнью. Ее крамола продолжалась еще девять лет, девять лет и зим она встретила без Юры. И больше не выдержала этого истязания, отошла к сыну в 1964 году, имея всего пятьдесят три года за плечами.
А Юриной бабушки не стало в 1981 году, она на двадцать шесть лет пережила своего первого внука, до последнего дня помнила его, тосковала по нему и в ее горнице возле Юриной фотографии всегда горела лампадка.
На момент написания этой книги Зинаида Сергеевна еще была жива и здорова. Но в течение года после выхода книги в свет потеряла мужа, своего Василия Степановича, а до настоящего переиздания и сама не дожила.
Вечная память героическому поколению наших отцов и дедов!
* * *
Но продолжим свое повествование.
– После этого я начала верить, что Бог есть, – продолжала вспоминать Зина. – Конечно! Иначе почему мы приехали в Севастополь именно семнадцатого мая, почему на следующий день еще оставались там? Почему сестре приснился Юра с этими словами? Как это объяснить? – Спрашивала она, будто требуя моего ответа.
– Чудеса, просто мистика… – другого я не могла сказать, не находила.
– Вот. И я так считаю, – сказала Зина. – На Юриной могиле я поклялась, что рожу сына и назову его Юрием. Так и сделала, – и она, наконец, улыбнулась. – В 1957 году родила Юрия.
Во второй раз Зина побывала на могиле племянника, когда на Черноморском флоте служил ее сын – Юрий Николаевич Таганов, которому суждено было дослужить службу за двоюродного брата, а может, и прожить за него жизнь.
– Как случилось, что ваш Юра попал на Черноморский флот? Вы добивались этого?
– Представьте себе, нет. Опять-таки – судьба и… его рост. Он высокий, как все в нашем роду, вот его и взяли на море. Сначала попал в Кронштадт, прошел там полугодовое обучение, а затем оказался на Черном море, в Севастополе. Служил на большом противолодочном Гвардейском крейсере «Красный Кавказ».
Зинаида Сергеевна приехала к своему Юре в октябре 1975 года. Обошла все места, связанные со службой сына, издали посмотрела на его крейсер, полюбовалась пейзажами, погуляла в городе. И конечно, они вдвоем посетили кладбище, где захоронен Юрий Артемов. Господи, Юра… незатухающая боль…
– Я все, что знала о племяннике, рассказала сыну, наставляла его, воспитывала достойным памяти Юрия Алексеевича Артемова. На братской могиле уже была плита с именами «новороссийцев», Юрино имя стоит третьим в списке. Раньше это кладбище состояло из четырех длинных братских могил, три из которых располагались параллельно одна другой и имели метров по пятьдесят в длину, а одна, небольшая, стояла отдельно. Теперь три длинные могилы соединили в одну общую, а маленькая так отдельно и осталась. Но где лежит Юра, я знаю, и сыну показала.
Говорит Зина, что на обычном кладбище того нет, что чувствуешь на кладбище моряков:
– Над ним витает особая атмосфера, чувствуется, что здесь лежат молодые мужчины, и что они имели трагические судьбы. Понимаете? Здесь сердце переполняется не просто грустью, а каким-то острым непреодолимым горем. Это трудно выразить, – подчеркнула она.
Да, ведь традиционно кладбище моряков – это вечный дом именно тех, кто отошел в вечность среди волн, погиб в море. На кладбище моряков не хоронят умерших дома, да еще от старости. И вообще понятие «моряк» и «старость» не совместимы. Если человек покинул море, то он уже не моряк, а переходит в другую категорию, он – бывший моряк. На кладбище погибших моряков особенно четко ощущаешь хрупкость, субтильность человеческой жизни, ее неповторимость. И так же остро чувствуешь молодую решительность, безоглядную дерзость тех, кто, рискуя, совершает мужские дела, делает жизнь. Здесь навечно неиссякаемым стоит дух сопротивления, состязания, преодоления трудностей.
Как нигде, на кладбище моряков чувствуешь, что жизнь – это временное пристанище.
– Жизнь надо ценить, – задумчиво сказала моя собеседница. – Это прекрасная и редкая милость Бога. Если бы люди всегда помнили об этом… – она смотрела на меня выжидающе, а я не знала, что ответить.
Зина дала мне много фотографий, расчувствовалась от воспоминаний, но не плакала – держалась. Наш разговор заканчивался.
– Не волнуйтесь, ваши фотографии не пропадут. Я сниму с них копии и верну вам, – заверила я Зинаиду Сергеевну.
– Я не о том…
– А что вас беспокоит?
– Неужели я доживу до того, чтобы подержать в руках книгу о Юре? – она снова умоляюще заглянула мне в глаза.
– Я… – что-то сдавило мне горло, запекло внутри, качнуло землю под ногами. – Я… очень постараюсь.
Мне удалось преодолеть волнение, и оно вскоре прошло.
* * *
Я снова возвращаюсь к тем трем дням, которые провела летом 1956 года со своей подругой Лидой Столпаковой у нее дома. Тогда на третий день ее сестра Оля, рассказала нам, что спустя неделю, а может, две после того, как к Нине прибежали в слезах Вера Сергеевна и Зина с известием о гибели Юры, на ее имя пришло письмо из Севастополя.
– Нина находилась в тяжелом душевном состоянии, такое бесследно не проходит. Она не плакала, но молчала и ходила похудевшая аж черная. Мне тоже было очень тяжело, но при Нине я старалась сдерживаться, зато, когда она уходила на работу, давала волю слезам. Боже, как я рыдала в пустой квартире! Мне жалко было и ее, и Юру. Оставаясь наедине со своими терзаниями, я говорила с ним, ибо казалось, что он находится где-то рядом и слышит меня. Я не могла представить, что его совсем-совсем нет на свете, – рассказывала Оля, эта девочка, еще подросток, успевшая узнать так много потерь, что стала рассудительной не по возрасту.
Работники почты, смутно слышавшие плохие вести, от письма, пришедшего с Севастополя, пришли в замешательство и не знали, как лучше вручить его адресату, то есть Нине. Никто не хотел за это браться – кто знает, что в нем. На это решилась Валя Кондра:
– Давайте я отнесу, – предложила она. – Что за люди? – и повела плечом с выражением осуждающего удивления.
Этим письмом кто-то из Юриных друзей сообщал о его последних минутах. Получалось, что в момент трагедии Юра находился на вахте. Взрывом его не зацепило, но под действием ударной волны Юру отбросило в сторону, и он ударился головой об острый угол какого-то устройства. Травма была сильной и Юра потерял сознание. К нему подбежал матрос-санитар, который в особых обстоятельствах должен был посещать всех вахтенных и в случае необходимости оказывать им помощь. Найдя Юру раненым, перевязал ему голову, сделал укол и дал глоток спирта, то есть выполнил штатные действия в аварийной ситуации.
Юра очнулся, но не сразу понял, что произошло. Окончательно пришел в себя от сигнала об аварийной ситуации. Вскоре объявили военную тревогу и передали экипажу сообщение о взрыве на линкоре. Юра оставался на своем посту, был сдержанно-деловым, спокойным и уверенным. Ничто не говорило о том, что он не найдет выхода из сложного положения. Он должен был остаться в живых! Ведь он находился на палубе.
И все, других сведений о Юре нет. Нине писали, что Юра был образцовым моряком и надежным другом. Подписи под письмом не было, видимо, моряки посчитали не обязательным называть свои имена. Что они могли сказать невесте погибшего друга? А может, сообщая письменные подробности о событиях на линкоре, руководствовались положением о военной тайне.
* * *
Оля читала нам с Лидой многие письма – в частности, последнее от Юры и это, пришедшее от его друзей. Тогда они еще были целы. Оба были написаны на листах из школьной тетрадки в клеточку. Тогда все писали на такой бумаге. Хранились письма в ученической папке, аккуратно переложенные чистыми листами.
Случилось так, что в своей семье именно Оля стала главным хранителем памяти о Юре. Она сделала это ради Нины, чтобы оградить ее от лишних потрясений, чтобы та быстрее справилась с постигшим ее ударом, меньше сталкивалась с напоминанием о бывшем женихе. Оля спасала Нину собой, закрывала своей душой от последствий крушения, произошедшего в ее судьбе.
Нина, по словам младшей сестры, была очень сильным человеком, но и потрясения, выпавшие ей, были слишком тяжелыми, поэтому борьба между ними продолжалась.
– Знаете, терять любимого человека очень тяжело, – объясняла нам тогда Оля. – А если с ним были связаны мечты, надежды на лучшие перемены в твоей жизни, то считайте, что человек умирает вместе с погибшим. На земле остается только его тень, не знающая в какую сторону падать, потому что солнце больше не светит. Так чувствовала себя наша Нина.
После маминой смерти Оля имела опыт потерь и знала, о чем говорила.
– Вот умирает кто-то из родителей, как у нас умерла мама, – объясняла она, видимо, что-то при этом уясняя для себя, – и ты теряешь прошлое, а Нина потеряла будущее.
Этими рассказами Оля словно извинялась перед Юрой за то, что ее боль стала утихать. Мы с Лидой нужны были ей, потому что вместе с нами девушка, возможно в последний раз, тем самым исцеляя себя, переживала потерю юноши, которого по-своему любила, как умеют любить младшие сестры женихов старших сестер.
А нам в ее исповеди открывались живые, а не сказочные герои. Мы теперь сочувствовали не тому, что Золушка потеряла туфельку, и не губительным страстям Джульетты, не абстрактным страданиям «женщины в белом», а горю конкретного человека, не придуманного, а знакомого и земного, живущего рядом с нами, на наших глазах. Мы тогда впервые поняли, что беда может неожиданно произойти с каждым из людей, и они должны быть готовы к тому, чтобы выстоять и победить ее, а не сломаться.
– Это трудно пережить, – делилась Оля своими мыслями. – Не знаю правильно ли делаю, но я советую Нине выходить замуж. К ней сватается хороший парень.
– Кто? – спросила я.
– Василий Бажинов. Ты его не знаешь, он с Тургеневки.
– А что это за человек?
– Простой работяга, шофер.
– А Нина что?
– Молчит. И это меня пугает. Понимаешь, не плачет, все делает, как и раньше, иногда смеется, а только молчит. Страх божий! Вот я и советую.
– А если он не захочет?
– Кто? – Оля, подняв удивленные глаза, перестала чистить картошку, которую собиралась приготовить нам с Лидой на обед.
– Ну, этот… который с Тургеневки? Она же и с ним говорить не будет.
Оля рассмеялась.
– С ним она будет говорить, – сказала уверенно.
Это были моменты откровений, и я тогда многое услышала впервые. Например, впервые поняла, что означает «открыть душу», «сочувствовать», «спасать человека собой».
Именно в тот день, когда Оля пересказала последний акт трагедии с Юрой Артемовым, когда я пропустила через свою душу радость и трагедию Нининой и Юриной любви, когда стала старше на несколько лет, впервые втайне плача от тех рассказов, в этот день моя мама ни о чем таком не догадывалась. Она высекла меня за враки, когда ей стало известно, что я не бываю в школьном кружке, а дни напролет провожу у Столпаковых.
Больше я у Лиды дома не бывала, а те три дня и свои впечатления от Олиных рассказов, крещенные лозиной, запомнила навсегда.
* * *
Нинина судьба явилась в облике Василия Ивановича Бажинова.
Этого юношу она знала еще до встречи с Юрой, до их возникшей любви. Но знала как друга. Они оба участвовали в хоре, организованном в Славгороде Екатериной Никифоровной Богдановой и объединяющем тридцать человек молодежи.
Василий был младшим ребенком в родительской семье, любимчиком, избалованным родителями, старшими братьями и сестрами. Это приятно отразилось на его характере, он был веселым, беззаботным парнем, простым и добрым. По окончании школы учился на курсах водителей, а когда получил права, пошел шоферить в колхоз. Безотказный трудяга, он вызывал симпатии односельчан, а также тех, кто работал с ним рядом. Его отец Иван Бажинов, тоже заслуженный колхозник, своих детей любил, но держал в строгости. Вот они и выросли добропорядочными, приветливыми, трудолюбивыми людьми.
И вдруг случилась беда – Василий насмерть сбил машиной четырехлетнюю девочку. Не нам теперь разбираться, кто виноват больше, а кто меньше. Несмотря на человеческие попытки всегда найти виноватого, природа не отменила своей страшной выдумки, такой как несчастный случай. Но, с одной стороны, ее за это, сто чертей, не обвинишь, не привлечешь к ответственности, а с другой – нельзя проходить мимо смерти, нельзя, чтобы она оставалась безнаказанной. Девочки не стало, а живые всегда виноваты перед мертвыми.
Как бы там ни было, Василия осудили на десять лет тюремного заключения. То, что произошло, было шоком для жителей села. Как тяжело оплакивать умерших! И не менее тяжело видеть, как хороший человек пропадает в обстоятельства, где признается виновным, и не имеет способа переиначить ситуацию, где хоронится его юность. Это невыносимо.
Василий просил своих друзей и девушек из хора:
– Пишите мне. Без вас я пропаду в тюрьме.
И они писали. Писала и Нина. Рассказывать всегда было о чем. Каждый день приносил перемены, причем, в основном из разряда приятных, что резонировало в лад с ожиданиями людей. Жизнь в Славгороде улучшалась, падали цены на товары массового потребления, росла оплата труда, становился более наполненным трудодень.
Нина в письмах сообщала новости из жизни художественной самодеятельности, о браках и рождения малышей в семьях общих друзей. А то и просто делилась размышлениями. В основе этих писем лежало ее одиночество, замкнутость характера, ведь с теми, кто был рядом, она больше помалкивали. Со временем она привыкла писать эти письма, как люди привыкают вести дневник или записывать дорожные наблюдения. Ей даже не так важно было получить ответ, как выговориться самой.
А потом появился Юра, и поток Нининых писем к Василию уменьшился. Сначала это был естественный ход событий. А потом Нина поняла, что писать ей стало не о чем, но Василий, вероятно, потеряет из-за этого единственную отраду. «Нет, нельзя его оставлять без внимания, без поддержки, – решила Нина. – В нашей переписке о чувствах речи не было, так почему бы не переписываться дальше?»
Но Василий все понял. И тогда не сдержался, признался в любви. «Я давно тебя люблю, но не решался сказать. А потом случилось это несчастье со мной. Кому я нужен с ним? Думал, отсижу срок и… мы соединимся. И вот ты не пишешь…»
Нина не обращала внимания то, что выходило за пределы их устоявшихся отношений, упорно держала нейтральный тон. Ей это удавалось потому, что она оставалась искренней, не лукавой, доброжелательной, просто не писала о том, что Василия не касалось. Позже он говорил, что весточки от нее хоть и стали реже, зато в них чувствовался сильный заряд жизненной мощи. Это было как раз то, чего ему не хватало, и Нинино настроение, не выраженное в конкретных словах, а разлитое в общем контексте, незаметно передавался ему.
О том, что у Нины появился Юра, Василий узнал из писем других людей и, следуя ей, продолжал держаться дружественно, отстраненно от вопросов сердечных. Один он знал, чего ему стоила эта отстраненность!
Нинино отчаяние, вызванное гибелью Юры, сказалось и на Василии, к которому она привыкла в заочном общении и который умел терпеть и ждать. Ближайшие нам люди страдают не меньше нас, когда нам плохо, потому что мы безжалостно выливаем на них свои печали, врачуя себя. Однажды Василий получил письмо с отчаянными и даже злыми словами. «Не смей писать мне! У меня горе – Юра погиб. Ненавижу!» Это произошло как раз тогда, когда Василий размышлял, к чему прибегнуть, чтобы забыть Нину. Впервые она в письме сказала о Юре, но ведь в разрезе каких обстоятельств…
«Нина, выслушай меня спокойно, – писал Василий. – Жалко твоего жениха. Очень! Когда погибает молодая жизнь – это трагедия. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Но нам – жить. Тебя спасет только память о нем. Не забывай его никогда. И ничего не бойся, я – с тобой».
Собственно, здесь мне добавить нечего. Просто этой женщине дано было Богом притягивать к себе мужчин – настоящих хозяев жизни. Кто они? Какие они? Ни образование, ни воспитание здесь не играют ведущей роли. Здесь главное – это живая и мудрая душа, отличающая их от других.
Как и раньше, Нина изредка писала Василию. Но о чем теперь? О своей погибшей любви, об утраченных надеждах. Боль сердца выливала тому, кому это было небезразлично. «Я жизнь отдала бы за то, чтобы Юра жил. Я не себе хотела счастья, а ему». Ирония судьбы или жестокость судьбы, связавшая Василия и Нину двумя болезненными смертями, – что сближало теперь их? Он стал ей дорог тем, что она могла сказать ему все о себе, о Юре, об их любви. У нее была потребность выговориться, сто раз повторить то, что пекло, жгло, терзало ее. Скорее всего, если бы не Василий, Нина погибла бы, просто умерла от горя.
Скоро Василий вернулся домой.
– Иди за меня, – сказал в первый вечер, как приехал.
– Не могу.
– Почему? Ты будешь жить своей жизнью, своими воспоминаниями, обещаю. Я хочу быть рядом, понимаешь?
Нина кивала головой, мол, – понимаю. А потом заводила свое:
– Нельзя так. Я его люблю.
– Дорогая моя, люби его. Так должно быть. Он – твоя первая любовь, твоя трагедия, и…
– Что «и»?
– И моя боль. Но его теперь нет. На кого я тебя оставлю? Нина, ты больна горем. Я все понимаю, но настаиваю – иди за меня.
– Хоть год траура, ради его памяти…
– Ты не выдержишь. Тебе нельзя оставаться одной.
Василий ее уговорил, но и она настояла на своем – они поженились через год, шестого ноября 1956. Свадьбы, конечно, не было. Все прошло тихо, буднично – расписались, пришли домой, начали жить вместе.
На следующий день к Нине пришла Вера Сергеевна, Юрина мама.
– Подарок принесла, – сказала тихо и подала Нине что-то объемное и мягкое.
– Что это? – оторопела Нина.
– Не бойся, я не сержусь. Не идти же тебе вслед за Юрой, – сказала она и посмотрела бесцветными немигающими глазами мимо Нины, мимо комнаты, мимо всего живого. – Это подушечка, вам на свадьбу готовила, наволочку крестиком вышила. Юра любил, чтобы маленькая подушечка под головой была. Возьми, пожалуйста, и не забывай его.
– Спасибо, – Нина развернула подарок, мгновение смотрела на искусно вышитую подушечку, а затем склонила на нее голову и… заплакала, громко, сотрясаясь всем существом. Это были ее первые слезы после пережитой трагедии.
Так начался ее долгий бой за выживание. Но основная терапия зависела от Василия, от его чуткости, выдержки и душевной мудрости. Долгих-долгих десять лет Нина выходила из потрясения, вызванного потерей Юрия. Долгих десять лет у нее не было детей, не могла зачать.
Но Бог есть. Видимо, в награду за любовь и терпение он позже послал Василию трех дочерей: Таня родилась 17 декабря 1965, Тамара – 29 июля 1968 и Наталья – 9 ноября 1971 года.
* * *
Я мечтала теперь, будучи взрослой, перечитать самой те Юрины письма к Нине, что когда-то слышала от Оли, хотела поговорить с Ниной. Но было три препятствия. Во-первых, Нина меня не знала, ведь я намного моложе ее и нам не выпадало раньше видеться. Конечно, кто я, Нина знала и назови я себя, она бы меня с радостью приняла. И все же, испорченная городской отчужденностью, ехать сама в соседнее село, где она жила, я не решалась. Кто я такая, почему она должна чужому человеку открываться? Во-вторых, помня сказанные когда-то слова Оли о том, что Нина тяжело переносит потерю Юры, я боялась касаться залеченных ран. Что, если сделаю ей хуже? И в-третьих, – Нина снова переживала горе, – умер муж, тот самый Василий Иванович Бажинов, который назвал ее своей женой, вернул к жизни, подарил женское счастье. Хоть с тех пор и истекло уже тринадцать лет, но вдруг мои вопросы вызовут ее гнев: немилосердно спрашивать о том, что отболело, если сейчас болит другое.
– А мы прихватим с собой Олю! – нашелся Григорий Назарович Колодный, друг моего отца и мой помощник в собирании материала к книге. – Оля живет рядом с нами, она моя соседка! И знает, как говорить с Ниной.
– Да, она нам поможет, – согласилась я. – Так и сделаем. Спасибо вам.
Оля почти не изменилась. На меня смотрела пристально и серьезно, словно не узнавала, а когда я подошла и поцеловала ее, то не сопротивлялась, но и взаимностью не ответила – подставила щечку и все. Она лишь немного пополнела, да еще этот пристальный взгляд прищуренных глаз прибавлял возраста, а в остальном – осталась той самой пятнадцатилетней девочкой, какой я видела ее в последний раз.
– Ты не узнаешь меня? – спросила я, зная, что дядя Григорий ни за что не скажет, с кем она должна встретиться, – любит сюрпризы и розыгрыши.
– Нет, не узнала, – призналась Оля и снова бросила на меня прищуренный взгляд.
– А ее? – показала я на свою сестру, тоже ехавшую с нами.
– Ее узнаю, она дружила со Светою Стекловой.
Пришлось мне называться, знакомя ее с собой сызнова. Оля долго смущалась, хлопала себя руками по бокам и повторяла: «А я-то думаю… я думаю…»
Григорий Назарович развернул во дворе свой «ЛУАЗ» с металлическим кузовом, и мы большой компанией поехали в Тургеневку. Оля все смотрела и никак не решалась признать во мне ту высоконькую черноволосую девочку, стыдливую и неразговорчивую, которой я была, когда провела рядом с ней три дня своей жизни. Конечно, это мои детские впечатления оказались такими сильными, что жили еще и полстолетия спустя, а для нее наша бывшая встреча никаким откровением не явилась. Она забыла меня, и после моих напоминаний едва вспомнила.
– Оля, вы с Ниной сохранили Юрины письма, фотографии, тот портрет, что он прислал с последней запиской?
Оля печально покачала головой.
– Все это долго сохранялось у меня. Нина вышла замуж и отрезала от себя все, что касалось Юры. Иначе не выжила бы. Еще, не приведи, господи, потеряла бы разум.
– Так как же нам теперь быть, о чем говорить с ней? – встревоженно спросила я.
– А-а, теперь можно, – беззаботно сказала Оля. – Она молодец, правильно прожила жизнь, себя берегла.
Мы поехали по дороге на станцию. Не доезжая вокзала, повернули на переезд и за ним сразу взяли влево. Вдоль железной дороги тянулись дома с широкой полосой свободной земли перед дворами, затем вдоль той полосы шла дорога, а через дорогу лежали засеянные фермерские поля. Еще один поворот вывел на дорогу к Тургеневке. Приблизительно метров через пятьсот мы повернули на главную и единственную улицу села и сразу остановились – Нинин дом на этой улице первый справа.
– Ну, иди, – сказал дядя Григорий, засмеялся и прибавил свою любимую прибаутку: – Делай дело, чтоб я видел.
Ворота были открыты, недалеко от них в углу двора лаял песик. Простоволосая, в домашних тапочках пожилая женщина развешивала выстиранное белье.
– Вы Нина? – спросила я, подойдя к ней, не реагируя на лай дворняжки.
– Да, – ответила она, и на ее непроизвольно улыбающемся лице не прорисовались ни удивление, ни любопытство, ни попытка узнать меня. В глазах не было ни недовольства, ни тревоги: с чего вдруг эта чужачка приперлась в ее двор, интересуется именем?
Передо мною стояла женщина, не похожая ни на Олю с Лидой, ни на их братьев.
– Я к вам, – сказала я, любуясь ею – Нина великолепно сохранилась, насколько я могла судить по ее девичьим фотографиям.
– Тогда заходите.
Заурядная красота не покинула ее. Волосы теперь были короткими, но оставались густыми и волнистыми, как и в молодые годы. Теплые глаза смотрели спокойно, доброжелательно. Крепкое телосложение и сильные руки свидетельствовали о привычке к тяжелой физической работе. Но эта работа не оставила на ней пропаханных борозд, твердых мозолей, покрученных суставов или шершавой кожи.
Я представилась, но увидев, что ей это ничего не сказало, назвала своих родителей. Только тут Нина радостно закивала головой.
– Заходите, – пригласила еще раз.
Мои опасения отпали – на Нине оставили свои отпечатки только мудрость и воля. Она была, как могучая река, несущая свои воды медленно, широко разливая по поверхности земли, доверчиво и бесстрашно перед людьми.








