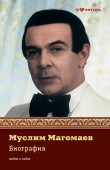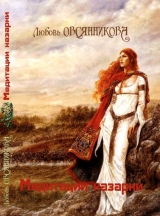
Текст книги "Медитации хазарки"
Автор книги: Любовь Овсянникова
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
МЕДИТАЦИИ ХАЗАРКИ

Мысль о том, что ты далеко, зовет меня в дорогу. Я начинаю собираться и чувствую, как убыстренно растут мои ногти. Очень скоро они становятся такими же длинными, как и пальцы, затем удлиняются еще, становятся мягкими и зелеными. Я уже знаю, что их движение вперед, к тебе, теперь не остановить. Ничто не препятствует этому. И мои ногти превращаются в длинные, упругие, трепещущие ростки – такие длинные, что им и меры нет. Где-то впереди, далеко от меня, эти ростки ветвятся. Появляется много разветвлений. Сначала я считаю их, а потом сбиваюсь со счета, но не впадаю в уныние, ибо начинаю понимать, что их ровно столько, сколько насчитывается ударов пульса от начала моих дней. Все становится на свои места. Это моя душа ревется к тебе единственно доступным ей способом.
Поняв это, я уже не удивляюсь, что мои ногти, достигнув твоих пределов, превратились в леса, наполненные ягодами, птицами и зверьем. Они потекли неспешными реками, обрамленными задумчивыми, созерцающими берегами.
Иногда ты берешь лукошко и весло и выходишь из дому. Ты думаешь, что идешь по грибы, по рыбу – просто на прогулку. Тебе кажется, что в эти минуты ты уходишь от людей и от меня тоже. Ты думаешь, это правда?
Ха-ха! И я радуюсь, что перехитрила тебя, прячущегося от эмоций во имя сохранения силы мысли. На самом деле именно тогда ты находишься ближе всего ко мне. Ты ходишь по пространствам моих миров, дышишь моими озонами, в коих расплавлены мои мысли. Ты впитываешь их, обогащаясь внутренне. Реки, берущие исток в моем сердце, дают жизнь всему, что окружает тебя. А ты и не подозреваешь об этом! Ты бил веслом по моим водам, отталкиваясь от них и уносясь в свои миражи, где, словно возделанный сад, растут сказки для взрослых.
Что бы ты делал без меня?
Думы все о тебе. Они проникают в волосы, которые ни завить, ни собрать в пучок невозможно. Они живут сами по себе, без меня, оставляя мне – спасибо и на этом! – возможность упорядочивать их. Рассыпаются по плечам, покрывают спину, при ходьбе похлестывают по пяткам. Со временем они уже влекутся за мной, словно шлейф, оставаясь позади моего движения – в прошлом. Но я не хочу, чтобы мысли были только воспоминаниями. Хочу, чтобы они стали осознанием всего, что держит меня на свете, и я хочу, чтобы они подготовили мне будущее. Я иду к тебе всем своим существом и скоро впитаю тебя. Понимание этого воодушевляет меня, мое дыхание становится глубже и порывистей, оно превращается в медленные, но сильные вдохи и выдохи, все более протяженные – оно становится ветром. Ветер поднимает из-за спины приземленные – уже отдыхающие – мысли-воспоминания, что превратились в волосы, и уносит их в высь. Там мысли становятся мечтами, которые группируются в поднебесье и образуют жизнерадостные облака будущих событий, то кучно-конкретных, то расплывчато-неопределенных, похожих на легкую хмарь. Они плывут над землей в твою сторону.
Теперь все вокруг тебя стало мной. Ты не знал этого? Как странно. Почему же ты не заметил, что все дожди и снега выпадают только по твоему желанию? Почему не задумался о том, что ветры меняют свое направление сразу же, как ты этого захочешь?
Я вырываю тебя из толпы и уношу с собой, как только чувствую, что силы твои иссякают. Перемываю твою душу, выгребаю оттуда золу и пепел, подбрасываю в ее костер новых поленьев, набирая их из неизвестных тебе, диковинных деревьев. Разглаживаю морщины печали на твоем челе и горестные складки вокруг губ. Снимаю пыль с твоих ног и плеч. Я обновляю тебя.
Умытым, свежим и просветленным ты возвращаешься в свой мир, не подозревая, что над твоим бодрым самочувствием трудилась я и что оно – итог моих забот о тебе. Ты не подозреваешь, что неусыпное небо моими мечтами несет над тобой охранную службу. И снова, и снова при первой твоей усталости… в мои леса…
Хорошо, что ты не ведаешь, как я завладела тобой. Совсем не обязательно тебе знать, что все время вокруг тебя хорошего была только я и что ты отвык без этого жить. Иногда я думаю: а вдруг ты прозреешь… Но и на этот случай я что-нибудь придумаю, я не оставлю тебя наедине с этой злой правдой.
Ты живешь иллюзией своей независимости. Живи. Но на всякий случай, если ты усомнишься в этом, у меня уже есть новая заготовка – все о том же, но с иным названием.
* * *
Не все время моим облакам парить над землей. Иногда они взрываются грозами и изливаются обильными дождями, нужными земле. Я иду под их струи, мою свои длинные волосы. Затем сушу под яркими безразличными потоками солнца, разбрасывающимися туда, где их ждут и собирают в копны, но с той же расточительностью и туда, где не витает дух, где время не заключено в живые оболочки, несущие в себе его порции, отмеренные Всевышним.
Однажды, подставив лицо вешнему теплу, я закрыла глаза. И тут мне сбоку почудилось мурлыканье, а вслед за ним что-то живое и мохнатое коснулось щек, будто, как случалось в детстве, ко мне ластилась кошка и рассказывала сказку – одну на все времена, но каждый раз с новым смыслом. Отстранившись от иных звуков и ощущений, прислушавшись, что именно теперь говорится в той сказке, я поняла, что это пророчит нечто, идущее из меня. Не раскрывая глаз, нежась в тепле светила, я сконцентрировала свое умение понимать самую себя и направила его на эти слабые звуки и прикосновения. Тем временем от них у меня начали загораться щеки. Из этого пламени, как от горящих поленьев благородных древес, разлился вокруг – так казалось мне! – щемяще-горький аромат, и от него учащенно забилось сердце. Тук-тук-тук – выбрасывало оно из меня песчинки времени и с каждым туком его во мне оставалось меньше.
Наверное, так я стояла бы до сих пор, прислушиваясь и ожидая озарения. Так стоять и стоять вполне можно было, тем более что наблюдение за происходящим со мной завораживало не меньше, чем огонь или море. Но тут внезапно я увидела тебя в своей глубине. Ты был глубже самого глубокого, что во мне имелось. И тогда все объяснилось: это бесконечная любовь моя дробилась на кванты и истекала из меня то желанием видеть тебя, то жаждой слышать, то настойчивым стремлением осязать. И я забеспокоилась: вдруг с этим излучением из меня уйдет все отпущенное мне время, а тебя все не будет рядом; вдруг с каждым квантом любви, которых у меня ровно столько, сколько и времени, я истеку вся вовне, так и не дождавшись тебя.
Как остановить или чем пополнить эти порции исчезновений? Ведь я не могла оставить тебя одного, без себя – твоего единственного достояния! Это значило бы оставить тебя ни с чем.
И тогда я стала собирать солнечные лучи, дробить их, скатывать из них шарики, как снежки из снега, и прятать в себе. Насобирав столько же солнца, сколько во мне роилось желаний в отношении тебя – а их было гораздо больше, чем моя память помнит твоих взглядов в мою сторону, – я подумала, что пора действовать. И превратила себя в глаза ночи: порции солнца, те самые маленькие шарики, ставшие частью меня, я достала из своих закромов и тайком сыпанула в беспроглядную темень. Они разлетелись в разные стороны, но ни один не упал на землю – порции света зацепились за небосвод. Ура, отныне у меня появились свои маленькие фонари, подавляющие мрак и отгоняющие его от тебя! Главное же: они стали моими глазами, устремленными на тебя и видящими тебя всегда, даже тогда, когда настоящее солнце гасит их свечение.
Я поняла, насколько правильно поступила. Ведь что было раньше? Раньше твоя ночь и моя ночь оказывались двумя разными ночами, твой день и мой день не совпадали, ибо ни ночью, ни днем мы не делили общий труд. От этого твое время и мое время текло не в одном направлении, и чем больше его тратилось, тем дальше друг от друга мы оказывались, и мы уже были далеко друг от друга.
Как хорошо, что однажды я подставила свои волосы под дожди от собственных облаков! Иначе бы мне никогда не додуматься сократить возникшие расстояния с помощью шариков из солнца.
* * *
Унаследовав мой непокой, звезды родили движение и зажили собственной жизнью. Каждая хотела обнять тебя и отбросить от тебя тень, пахнущую цветущим барбарисом. Каждая стремилась создать твои копии из своей тишины, чтобы ты возродился именно с нею. Но ведь ты так устроен, что тебе одной звезды, светящей только с одной определенной стороны и создающей плоскую проекцию, мало. И тогда они сговорились и начали отдаляться от тебя, чтобы издали создать нечто единое, объемное, как и ты. А еще тем самым они убегали от соперничества друг с другом.
Но их разбегание начало усиливать энтропию моих желаний. Этого я допустить не могла и не могу, поэтому до сей поры настойчиво и регулярно выбрасываю в ночь все новые и новые порции небесных светил. Хотя с ними все повторяется в той же последовательности – эгоизм желаний, соперничество, а потом сговор и разбегание…
Чего же ты хочешь от меня? Если бы я была тебе не нужна, то мне до тебя не было бы дела. Зачем горишь на моих потрескавшихся щеках?
Прости за лукавство, я знаю ответы: без меня ты погаснешь. А с тем исчезнет смысл жизни, ибо не для кого будет мне собирать солнечные лучи, дробить их и, пропустив через свой кристалл, выбрасывать в небо. И не станет над миром звезд, и прекратится всякое движение во Вселенной.
Так с кого же начался мир?
О Боже, зачем я мыла волосы под дождями из тех облаков, что парят над тобой?!
СИНИЦА И СОЛОВЕЙ
Притча

Посвящается всем гениям на свете
На опушке сквера, что рос в самом центре большого города, обитала маленькая желтогрудая Синица. Она была уже старая и неповоротливая, но зато слыла мудрой птицей, хотя и была вечно чем-то озабоченной, откровенно говоря, немного рассеянной, отчего у нее в ушах зимой и летом звенели зеленые ветры, а в глазах плыли и плыли облака. Впрочем, этого никто не замечал, так как до нее мало кому было дело.
Но однажды о ней вспомнил Скворец.
– Вы знаете, уважаемая Синица, в нашем сквере поселился Соловей, – сказал он: – Во-он за теми деревьями, – и показал крылом куда-то в сторону.
– Странно, я слышала, что такие птицы водятся на свете, но видеть или слышать их здесь, в центре города, не доводилось… – равнодушно покачала головой Синица. – Неужели прямо в этом сквере поселился? – недоверчиво прищурила она глаз, отчего облака убрались оттуда восвояси, и он стал чист, как стеклышко.
– Да, – сказал Скворец, деловито смахнув с себя клювом кажущуюся соринку. – Я, собственно, по этому делу и беспокою вас. Новость ведь…
– О-о! – щебетнула Синица то ли досадливо, то ли удивленно, – о…
– Мне радостно, – продолжал Скворец. – А то ведь что получается? Люди начинают забывать Соловья, хорошие песни. И это беспокоит меня. Чего стоит мир, в котором каждый воробей считает себя певцом, засоряет эфир глупым чириканьем да без толку суетится тут и там, куда ни пойдешь? А следом, представьте только, и насекомые начинают мнить о себе. Пожалуйста, за примерами далеко ходить не надо – комары, и те теперь считают, что их визжание кого-то услаждает! Пора вспомнить о настоящих певцах. Да! И рассказать о них, чтобы каждый сверчок знал свой шесток.
– От меня-то что надо? – вздохнула Синица давным-давно не верящая в бескорыстность благих намерений.
– Просто познакомьтесь, уважаемая Синица, с Соловьем, поговорите с ним…
– Что-то ты не договариваешь, резвый молодец. Знаю я тебя. Небось, хочет Соловей, чтобы люди отдельную кормушку прикрепили к его дереву. Попросил пропиарить его? Признавайся.
– Да вы сами во всем разберетесь, – мелодично засвистел Скворец. – Ах, Синица, повествовать о явлениях жизни так, как умеете вы, никто не может. А я потом растиражирую ваш рассказ.
– И то… – согласилась мудрая птица, не желая огорчать Скворца. – Вы же знаете, от меня не убудет, если Соловью хорошего добавиться. Пускай.
Недолго думая, Синица, разжав крылышки, отряхнула, словно дождевые капли, свою неподвижность, раз-два чиркнула клювом о древесную кору, даже потанцевала на шершавой ветке, чтобы очистить с лапок мнимую пыль, и полетела к Соловью.
Соловей показался ей всем пернатым не чета – голосистый, приветливый, с открытой душой. «Да-а… – подумала Синица, невольно оживившись в его присутствии, – вот ради таких минут и стоит жить». И тут же почувствовала, как обидно было бы уходить в небытие без знания соловьиных песен. «Молодец Скворец» – с затаенным теплом похвалила она молодого друга, снова наивно уверовав в ненапрасность своих, давно, впрочем, забытых, усилий сделать мир чище и прекрасней.
Зеленые ветры – ах, как надоели ей эти братья тоски, налетевшие отовсюду в ее одиночество! – Синица с радостью растеряла на обратной дороге. Она возвращалась в свое гнездо, смешно признаться, просветлевшей и даже приободрившейся, а ее неспешные мысли потекли весьма уверенным стежками. Ей отчетливо стало понятно, что мир губят не молодая стихийная глупость и даже не настойчивость бездарей. Он рушится от усталости и безверия, нашей гордыни, от жалких попыток слыть достойнее других творений Бога, от страха показаться смешным в потасовках со злом, от желания, закрыв на него глаза, парить черт знает где, гнушаясь черной работы, без которой никак не обойтись. «Забыли, что большое состоит из мелочей, и значит, их нельзя не замечать ни в плохом, ни в хорошем», – назидательно для себя самой думала она, наполняясь молодой отвагой.
Вот на такой волне Синица и написала о Соловье. Задор ее, конечно, быстро исчерпался, но для заказанной работы его, слава Богу, хватило. Рассказ, хоть он и не показался таким уж удачным самой Синице – сказывалась вековая болезнь гипертребовательности к себе, – произвел сильное впечатление на Скворца.
– Пусть читают, – бодренько сказал он. – Может, хоть на короткий срок люди воодушевятся на добрые дела для птиц, да и в самом сквере воцарится затишье – миг всеобщей гармонии.
– Да уж, – снова угасла и впала в скепсис Синица. – Хотелось бы, чтобы мои усилия не пропали зря.
Хотите знать, что поделывал после этого Соловей? Он хандрил и капризничал, даже, говорят, нагрубил Синице, мол, написала-то она здорово, да вот лично сама выявила к нему мало почтения.
– Между нами говоря, он – надутый Удод, – снисходительно говорила друзьям Синица, неловко оправдываясь за хвалебный тон своего рассказа да за самомнение его героя. – Что же вы хотите? Только пусть об этом по-прежнему никто не догадывается.
ЦЕННЫЙ СВИДЕТЕЛЬ

– Чегой так долго каталася вокруг да около? – спросил дед Гордей, когда Ясенева, отвезя домой мать Бердяева, вернулась к его двору. – Я сразу тебя заприметил, не думай. Да-а, шикарная у тебя машина, как и полагается умному человеку. Даже обидно не делается.
Когда-то давно, во времена Дашиного детства, он жил на их улице в слепой, въехавшей в землю развалюхе, но поскольку работал в колхозе и был там на хорошем счету, ему помогли построиться, отведя участок на вольных землях за ставком. К тому моменту Даша уже училась в вузе и к переменам в селе в редкие приезды сюда не присматривалась. Не в пример ей славгородцы никогда не спускали глаз со своих птенцов, следили за их успехами, интересовались личными делами и всегда считали частью своей жизни. Поэтому принимали по-свойски, хоть бы те жили в невиданных ими австралиях и приезжали сюда через сто лет.
– Ты помнишь, как однажды залезла на дерево, а слезти обратно не могла и ревела на всю округу? Все же на работе были. Тогда мы не знали про безработицу, да.
– Да, – согласилась Ясенева, потирая шею после комариного укуса. – Были лучшие времена.
– Село днем как пустой дом стояло. А я прибег на твой плач и снял тебя. Помнишь?
– Как же не помнить, я тогда великий страх пережила, что мне придется всю жизнь на дереве сидеть, – засмеялась Ясенева, заботливо проверяя, заперлась ли дверца машины. – Спасибо вам, деда Гордей, за помощь в момент моих первых испытаний. А как вы поняли, что это я тут сейчас ездила?
Дед довольно улыбнулся и погладил себя по голове, и так симпатично это у него получилось, что Дарья Петровна едва сдержала смех.
– А кому тут еще ездити, тем более из чужих? Тут тупик путей и окончание дорог, далее лежит безлюдье и ход туда бесполезен. А тебя ждал, да. Пропишешь ты о моих бедах, а мне, гляди, и полегчает. Вот и понял, что это ты, – дедушка совсем постарел и семенил вокруг гостьи, не зная, какими словами еще рассыпаться, чтобы доставить ей приятность. – А ты, никак, помладшала, да-а, я врать не стану. Хоть и годы идуть.
– Ладно, дедушка Гордей, – согласилась Дарья Петровна, – я вам верю. Показывайте и рассказываете, как поживаете, кто вас обидел, кто урон нанес.
– Смотри, – дед повел рукой вокруг себя, – живу на отшибе, сам-один остался. Как тут не обидеть старика, если власти позволяют? Заелися, им теперя до людей дела нету. Это вон, – дед показал на дорогу с твердым покрытием, – советы на исходе постарались.
На удивление, тут в самом деле некогда побеспокоилась об удобствах граждан, живущих на окраине, наладив с ними мало-мальски удобное сообщение. Вдоль этого ряда домов, оторванного от основного поселения, был проложен асфальт, как на пешеходной дорожке, так и на проезжей части. Обрывалось твердое покрытие аккурат возле последней усадьбы, ни метром не продолжившись по проселку, удаляющемуся в степь. Противоположная от домов сторона дороги, граничащая с многочисленными овражниками, по краю была скупо утыкана фруктовыми деревьями, видно, хотели укрепить ее, не подпустить сюда расползающиеся рытвины, но насадить такую окультуренную посадку, как вдоль главной дороги до трассы, не хватило мощи.
Но люди есть люди, все им места мало. Так и тут, многие хозяева через дорогу напротив своих усадеб организовали хозяйственные дворы с омшаниками, курятниками и сеновалами и обнесли их плетнями, со временем проросшими в землю и превратившимися в настоящие заросли ивняка и кустарниковых пород робинии. В общем цель борьбы с эрозией почвы была достигнута, видимо, это и успокоило тех, кто радел об использовании земель, даже таких непригодных, как это холмогорье.
– Хорошо тут у вас, просторно, – проговорила Ясенева, присматриваясь к выгоревшим проплешинам, расположенным дальше за этими вспомогательными подворьями. – Там что, тоже травы жгли? – удивилась она, не веря своим глазам.
– Так говорю же, кругом разбой! Ото тама и мой сеновал ляпнулся, токмо черное пятно лик земли искажает. А я же всю весну сено косил, сушил, заготавливал, о коровке своей пекся. Палят нашу землю враги проклятые, бомбами калечат, – запричитал дед. – Слышала, в Лозовой все взрывается и горит ярким пламенем? Чего ждать, Боже правый, от этих барбосов?
– Это вы о ком? – засмеялась Дарья Петровна тому, что дед знает такое каверзное словцо.
– А ты не придирайся! – огрызнулся дед Гордей, дипломатично прекращая диссидентствовать. – Так будешь ближе смотреть мои потери или отсюда оценку произведешь?
– Пойду, посмотрю, – снисходительно буркнула Ясенева и направилась в сторону овражников.
Она долго бродила по тылам самовольно захваченных и освоенных дедом земель, изучала рельеф и растительность, отмечая, что отростки от живых изгородей пустились разрастаться вниз по ложбинам и ярам и местами на подступах к дедову сеновалу превратились в непроходимые чащи. Но были и вольные места, где роскошествовали чистые травы, так что при взгляде на них душа радовалась, что есть еще на земле нетронутые уголки. Углядела Дарья Петровна и протоптанную сюда дедом стежку, а в нескольких местах сбоку от нее обнаружила прикопанный мусор. Ну, не разбрасывает по поверхности, и то хорошо.
Не успела она похвалить деда еще за что-нибудь, как заприметила в сторонке от стежки несколько бутылок и консервных банок, закопченные котелки, даже ложки и погнутые алюминиевые мисочки в количестве нескольких штук, но все это было тщательно упаковано в целлофан и пристроено под кустами явно заботливой рукой. Где они только их взяли в наше время? – удивилась Ясенева и почти вслед за этим увидела неподалеку остатки костра, а потом еще одного, уже чуть подернутого муравой. Огнище разводил знающий человек, потому что делал под него лунку, которую затем присыпал землей, правда, небрежно. Далее вниз по склону холма, где не так вольно гуляли сквознячки, Дарья Петровна наткнулась на примятые, даже вытоптанные травы, а поискав, нашла в укромном месте объемный сверток, в котором могла храниться нехитрая постель, может, просто подстилка.
Она повернула назад, соображая на ходу что да как. Если бы поблизости имелись заброшенные постройки, можно было бы подумать, что в них поселились бродяги и в подпитии развлекаются на природе, доводя дело до пожаров. Но чего-то похожего на подходящий ночлег видно не было, даже следа землянки, куреня или какой самодельной хижинки Ясеневой найти не удалось. Да и намусорили бы такие гуляки несравненно больше. Значит, следовало искать другое объяснение.
Ясенева проследила путь огня, ужом проползшего из овражника к захваченному дедом участку. Тут огонь разжирел на сухом сене, слизал легкую постройку сеновала и оставил после себя чистый пепел. На кустах, росших по меже, с внутренней их стороны виднелись побуревшие листья, особенно снизу, но сами кусты выстояли и даже не пустили пожар за пределы участка, где тоже имелись сухостои.
– Ну что, накопала аргументов? – поинтересовался дед, сидя на завалинке и хитро улыбаясь, как будто специально заготовил для Ясеневой головоломку. – Это тебе не выдумку описывать, тут, гляди зорче, настоящим преступлением попахивает. Так кому мне неприятности презентовать?
– Их сначала поймать надо, – ответила Дарья Петровна, хмыкнув на дедов современный лексикон, – а потом претензии предъявлять.
– Поймать? Поймать. Ну, если поймать… – дед попробовал на вкус сказанное словцо, повторив его на разные лады, словно размышляя над его значением. Потом что-то для себя смекнул и вздохнул тихо. – Вот возьму рогач, что от бабкиной утвари остался, и засяду в кустах. Не пойдут же они на меня войной?! Так, говоришь, тут дело не в сжигании сухостоев, а в хулиганстве, или как?
– Вот вы почти и догадались, – похвалила Ясенева все на лету схватывающего старика. – Но если точнее, то ни в том, ни в другом, – Дарья Петровна присела рядом с ним на завалинку и скрестила руки на коленях. – Думаю, дело в халатности. Неосторожные гости сюда захаживают, деда, вот и допустили оплошность. А вы им помогли в этом.
– Как помог? – дед даже подскочил от такой нахальной неожиданности.
– А тропку протоптали к кустам, под которыми мусор закапываете.
– Ну и что? Мусор в землю закапывать не запрещается, если аккуратно.
– Да, но я же сказала, что случилась оплошность. Немного вы ее допустили, немного другие, и в целом получился пожар. Огонь из овражника к вам по стежке прибежал, ведь от вашего регулярного хождения по ней травы там совсем высохли и превратились в бикфордов шнур.
– Вона как! – присвистнул дед Гордей. – А внизу, значит, кто-то балует, – рассуждал он дальше. – Там иногда слышен галдеж и смех. Может, чада? Ныне ж пошли они, что Божье наказание, поубивать мало! Только от их курения такого пожару не случится, это вряд ли. Там же низина, травы стоят сочные, не пересохшие. Не-е, – махнул дед рукой, – от одной искры они не загорятся. Тут поджигатель поработал. Истребляют нас завистники, как ни крути, Дарья.
– Что вы пессимизм разводите? Не преувеличивайте, – ответила Ясенева. – Да, был поджигатель, но невольный, иначе говоря, поджог он сделал не специально, это на картах не гадай.
– Понял я тебя, – изрек дед после продолжительного молчания. – Любовь, костры и песни под гитару – романтика разнузданной свободы. Полный отрыв, как теперя говорят.
– Да. Кто-то развел костер, а потом не погасил его до конца. К несчастью, место под него было выбрано как раз около вашей дорожки с высохшей травой.
– Только не слышал я оттудова бренчания и песен. Порассуждай сама про такой предмет: если любовь, то это серьезные люди. А они больше кобелятся около реки, где покрасивше.
– Там комары, – засмеялась Ясенева. – Да и далековато, а тут – рядом. Только это, скорее, и не дети и не серьезные люди, а подростки. Похоже на посиделки организованной группы. Возможно, тут свила гнездо та шайка, что воровала металл по дворам?
– Отроки, значит?
– Отроки, я так думаю, – подтвердила Ясенева.
– Ты смотри! Нешто я совсем нюх и смекалку потерял? – закручинился дед.
– Как бы там ни было, полагаю, после пожара они будут обходить ваш двор стороной, – успокоила его Ясенева. – Зачем им лишние неприятности? А деятельность охотников за металлами к тому же пресечена милицией.
– Даже так? – обрадовался дед. – Во, они и у меня кое-что из хозяйства изъяли. Короче, все металлическое подчистую вынесли. Так их нашли?
– Нет, но обнаружили их тайник и ликвидировали его, – и Ясенева коротко рассказала деду о косвенной причастности этого ворья к смерти Бердяева.
– Убился Васька об ворованные железяки, – поразился дед Гордей. – Ай-я-я!
Возникла невольная пауза. Дед Гордей вздыхал, то ли поняв, как трудно ему будет покрыть свои убытки за счет настоящих виновников пожара, то ли упершись носом в суетность земных забот. Он сидел, близко приставив ступни к завалинке, от чего его острые колени оказались почти на уровне груди. Опершись о них локтями и уткнувшись подбородком в ладошки, собранные в единый кулак, дед немигающе смотрел в горизонт.
Но вот в воздухе появился ветерок, заиграл тополями, зашелестел рано опавшими листьями, поднимая его с земли, и вдруг в глаза собеседникам плеснулись наступающие сумерки. Пес перестал валяться под солнцем мертвой колодой, пробудился и принялся зевать и потягиваться, гремя цепью.
Дарья Петровна давно обратила внимание, что единственная дорога, связывающая этот уголок с остальным селом и идущая по плотине ставка, примыкает к дедову огороду. И не просто к его огороду, а к той его стороне, что находится напротив двора, и хорошо отсюда видна. Значит, дед, если ему скучно, может легко отслеживать движение из села в направлении «тупика путей», как он выразился в начале разговора, и обратно. Впрочем, эта дорога просматривается со всех концов его усадьбы, даже с опустошенного огнем хозяйственного подворья, и, несомненно, притягивает к себе взор, особенно, если слышится звук работающего двигателя. Из чего Ясенева сделала вывод, что дед мог видеть Бердяева в день его смерти, если сидел, как сейчас, на завалинке и смотрел «прямо поперед себя», как он иногда говорил. Правда, движение велосипеда не наполняет воздух звуками, но ведь Бердяев и ехал не среди дня, когда люди заняты работой, а вечером, когда они отдыхают, оглядывая окрестности.
– Вы смотрите по вечерам телевизионные передачи? – спросила Ясенева, первой нарушив молчание, превращающееся в гнетущую тишину.
– Когда как, – очнулся и дед Гордей тоже. – Вот как начали прятать концы в Лозовую, то не смотрю. Противно. Значит, говоришь, больше не будет у меня пожаров? – попытался он уклониться от болезненного для него разговора про политику, которого сам же и коснулся.
– Думаю, нет. Это была досадная случайность, которая больше не повторится. Знаете что, я постараюсь сама узнать, кто виноват в пожаре, и побеспокоюсь, чтобы вам восстановили сеновал. А как вы проводите время до сна? Просто вот так сидите, гуляете и смотрите по сторонам, да?
– Ой, да тут рази бывает скучно! Вот теперича взять сеновал. Материал-то у меня имеется, но даже если его восстановят, это ведь не сено, которое я заготавливал. Сколько труда ухлопал понапрасную!
– Деда, – тронула его за руку Ясенева, – не растекайтесь по древу словесами. Я ведь вас о чем-то спросила. Или ваш разведывательный пост уже не работает?
– Вот прицепилась! – ругнулся дед Гордей, поняв, что посетительница прознала про его службу в армии, где он был полковым разведчиком. – Умная девка выросла, знает, что долг платежом красен, – после этих слов дед Гордей перестал скрытничать и попытался методом тыка угадать, что интересует «умную девку». – Да, сижу вот так, наблюдаю суету-сует, кто куда перемещается, с кем и зачем, – тут он украдкой зыркнул на гостью, прикидывая, заглотнет ли она услышанное или оно ей несъедобно. Но Ясенева на манер многих сельских жителей тоже умела так засматриваться вдаль, что и по виду застывала почти каталептически. – Вот ты, например, знаешь, что твоя подружка Валька Нильская давно снюхалась с Прудниковым и ездяет иногда с ним от людей подалее часа на три-четыре?
– Откуда мне знать ваши тутошние дела? – повела на деда косым взором Ясенева, удивляясь больше не самой информации, а тому, что она известна, оказывается, посторонним и все-таки не стала притчей во языцех. – Не знаю, конечно, да меня это и не касается, – намекнула она, что интересуется другими событиями.
– Ага, – дед терпеливо мотнул головой. – Или другой пример взять. Вот ты говоришь, что Бердяев сам убился. А мне известно, что тут не обошлось без чужой помощи. Все мой наблюдательный пункт материал дает!
– Что же это за люди, которые такую страшную помощь оказали?
– Тот же Севка с Валентиной, парочка чад, то бишь дорогих цветов нашей жизни, чтоб им пусто было, и один мужик, которого я пока назвать затрудняюсь. Зато могу дать справку по его машине.
– А вам не трудно рассказать мне все с самого начала и по порядку? – с показной вялостью спросила Ясенева, и дед довольно покряхтел, убедившись, что у него еще есть нюх на жареное и он может быть полезным в борьбе против вселенского врага.
Дед Гордей все проблемы воспринимал не иначе, как через призму локальных войн добра и зла, и в стороне от них оставаться не мог, всегда принимал участие хотя бы тем, что имел свою личную позицию. Да он не один такой, таковы все люди, если они люди! Спросите вы хоть у самого захудалого старика или старухи, что поддерживает их силы и волю к жизни, и они вам скажут, что нужность землякам, соседям, детям или внукам. Нужность, причастность, участие. А ведь дед Гордей провел яростную молодость, воюя в Северной Корее, и той яростью, тем напряжением чувств была отмечена вся его дальнейшая жизнь. Он гордился, что был солдатом открытой сечи добра со злом и до сих пор помнил встречу с самим Ким Ир Сеном, наградившим его биноклем за добросовестное несение разведывательной службы. А за что? За то, что он, находясь на посту, обнаружил двух южнокорейских лазутчиков и, значит, предотвратил прямые потери и утечку военной информации перед решительным наступлением наших.
Дед шумно вздохнул, сожалея, что там окончательно не был вколочен осиновый кол в сердце его врагов, поэтому они до сих пор людям житья не дают. И ведь что характерно, культура этого логова нелюдей отличается от остальных тем, что не несет в себе никакой культуры, как шашель не состоит из дерева, которое пожирает. Ведь где ни заведется муть и гниль, там ищи их. Это они обучали стрелков, целящихся в деда Гордея на фронтах выпавшей ему войны. И опять они берут в кольцо его землю, опять лезут сюда. Эх, жаль, что помирать скоро, а то бы он еще показал им Южную Осетию.